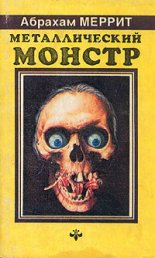Я не боюсь Амманити Никколо
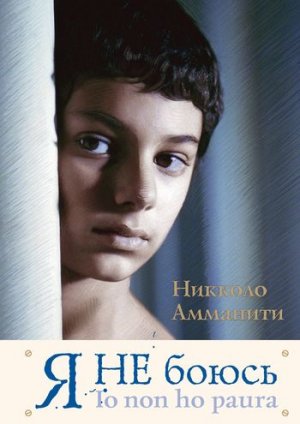
Никакой реакции.
— Эй! Ты меня слышишь?
Я подошел еще ближе:
— Слышишь меня?
Он выдохнул:
— Слышу.
Значит, папа не отрезал ему уши.
— Тебя ведь зовут Филиппо, правильно?
— Да.
Путь был открыт.
— Я пришел сказать тебе очень важную вещь. В общем… Твоя мама сказала, что любит тебя. И что ей без тебя плохо. Это она вчера сказала, по телевизору. В теленовостях. Она сказала, что бы ты не беспокоился… И что ей нужны не твои уши, а весь ты.
Он молчал.
— Ты слышал, что я сказал?
Молчание.
Я повторил:
— Твоя мама сказала, что любит тебя. И что ей тебя не хватает. Это она сказала по телевизору. Сказала, что ты не должен беспокоиться… И что ей нужны не твои уши, а…
— Моя мама умерла.
— Как умерла?
Он ответил из-под покрывала:
— Моя мама умерла.
— Ты что говоришь-то? Она жива. Я ее видел, в телевизоре…
— Нет. Она умерла.
Я прижал руку к сердцу:
— Клянусь головой моей сестры Марии, что она жива. Я видел ее вчера вечером в телевизоре. Она жива. У нее белые волосы. Худая. Немножко старая… Но красивая. Она сидела в высоком кресле. Коричневом. Большом. Как у королей. А сзади была картина с кораблем. Правильно или нет?
— Да. Картина с кораблем… — Он говорил тихим голосом, слова заглушались тканью покрывала.
— И у тебя есть электрический паровозик. С трубой. Я видел его.
— Его больше нет. Он сломался. Няня выбросила его.
— Няня? А кто такая няня?
Лилиана. Она тоже умерла. И Пеппино умер. И папа умер. И бабушка Ариана умерла. И мой братик умер. Все умерли. Все умерли и живут в ямах, как эта. И я в яме. Мир — это место, полное ям, в которых живут умершие. И луна тоже вся в ямах, в которых другие умершие.
— Неправда. — Я положил руку ему на спину. — С луной все в порядке. И твоя мама не умерла. Я ее вчера видел. Ты должен слушать меня.
Он помолчал немного, потом спросил:
— Тогда почему она не приходит сюда?
Я покачал головой:
— Не знаю.
— Почему не приходит забрать меня?
— Я не знаю.
— А почему я нахожусь здесь?
— Я не знаю. — И чуть слышно, так тихо, чтобы он не смог меня услышать, сказал: — Мой папа посадил тебя сюда.
Он пнул меня:
— Ты ничего не знаешь. Оставь меня в покое. Ты не ангел-хранитель. Ты плохой. Уходи. — И заплакал.
Я не знал, что мне делать.
— Я не плохой. Я ни при чем. Не плачь, пожалуйста.
Он продолжал рыдать.
— Уходи. Уходи отсюда.
— Послушай…
— Вон отсюда!
Я вскочил на ноги.
— Я пришел сюда из-за тебя, я проделал длинный путь дважды, а ты гонишь меня. Ладно, я ухожу и никогда больше сюда не приду. Никогда больше. И ты останешься здесь один, навсегда, и тебе отрежут уши, оба уха.
Я схватился за веревку и начал карабкаться вверх. Я слышал его плач. Я выбрался из ямы и сказал:
— И никакой я тебе не ангел-хранитель!
— Подожди…
— Что тебе еще?
— Останься…
— Нет. Ты сказал, чтобы я убирался, и я ухожу.
— Я тебя прошу. Останься.
— Нет!
— Ну прошу. Только на пять минуток.
— Ладно. Пять минут. Но, если будешь вести себя как сумасшедший, уйду.
— Я не буду.
Я спустился в яму. Он дотронулся до меня ногой.
— Почему ты не снимаешь никогда это покрывало? — спросил я.
— Зачем, я ничего не вижу…
— Как это ничего не видишь?
— Глаза не открываются. Я хочу их открыть, а они не открываются. Я вижу в темноте. В темноте я не слепой. — Он замолчал, а потом сказал: — Знаешь, мне сказали, что ты вернешься.
— Кто?
— Медвежата-полоскуны.
— Хватит с этими полоскунами! Папа сказал, что их не существует. Хочешь пить?
— Да.
Я открыл сумку и достал бутылку:
— На.
— Залезай. — Он поднял покрывало.
Я сморщился:
— К тебе?
Жутко пахло. Но так я мог убедиться, что уши у него еще на месте. Он потрогал меня рукой:
— Сколько тебе лет? — Его пальцы прошлись по моему носу, губам, глазам.
Я был парализован.
— Девять. А тебе?
— Девять.
— Когда ты родился?
— Двенадцатого сентября. А ты?
— Двадцатого ноября.
— Как тебя зовут?
— Микеле. Микеле Амитрано. Ты в какой класс ходишь?
— В четвертый. А ты?
— В четвертый.
— Одинаково.
— Одинаково.
— Я хочу пить.
Я протянул ему бутылку.
Он попил:
— Вкусная. Хочешь?
Я тоже немного выпил.
— Можно, я подниму немного покрывало?
Я задыхался от вони и духоты.
— Только немного.
Я поднял тряпку настолько, чтобы вдохнуть свежего воздуха и лучше разглядеть его лицо.
Оно было черным. От грязи. Светлые волосы, испачканные землей, напоминали твердую сухую корку. Спекшаяся кровь склеила ему веки. Губы были черными и потрескавшимися. Ноздри забиты соплями и струпьями.
— Давай я тебе вымою лицо, — сказал я.
Он вытянул шею, поднял голову, и улыбка появилась на его измученном лице. И стали видны черные зубы.
Я снял с себя майку, намочил в воде и начал обмывать ему лицо.
Там, где я проводил, появлялась белая кожа, такая светлая, что казалась прозрачной, как мясо вареной курицы. Сначала на лбу, затем на щеках.
Когда я мыл ему глаза, он сказал:
— Тихо, мне больно.
— Я тихо.
Мне не удавалось размочить корку. Она была твердой и толстой. Я знал, что такое бывает у собак. Когда ее срываешь, они начинают видеть. Я продолжал смачивать, пока корка не отвалилась. Веки открылись и мгновенно смежились, видимо, свет больно ранил ему глаза.
— А-а-а-а! — закричал он и сунул голову под тряпку, словно страус.
Я захлопал в ладоши.
— Ты видел? Ты видел? Ты не слепой! Никакой ты не слепой!
— Я не могу держать их открытыми.
— Это потому, что ты все время был в темноте. Но ты видишь, правда?
— Да! Ты маленький.
— Я не маленький. Мне уже девять.
— У тебя черные волосы.
— Правильно.
Было уже поздно. Мне нужно было возвращаться домой.
— Мне надо бежать. Я завтра приду.
По-прежнему с головой под покрывалом, он спросил:
— Обещаешь?
— Обещаю.
Когда старик вошел в мою комнату, я как раз собирался избавляться от монстров.
С малых лет мне снились разные чудовища. И даже сегодня мне, взрослому, порой случается видеть их во сне, но я разучился от них избавляться.
А они всегда ждали, когда я начну засыпать, чтобы явиться меня пугать.
До тех пор, пока одной ночью я не придумал систему, как избавляться от страшных снов.
Я нашел место, куда можно было загнать и закрыть этих ужасных страшилищ и спать спокойно.
Я расслаблялся и поджидал, когда веки становились тяжелыми, и точно в этот момент я представлял себе, как они все вместе поднимаются по какой-то лестнице. Как во время процессии в честь Мадонны Лучиньяно.
Я видел ведьму Бистрегу, горбатую и ссохшуюся; волка-оборотня на четырех лапах, с огромными белыми клыкам, в разодранной шкуре; Черного человека, чья тень извивалась, словно змея среди камней; Лазаря-трупоеда в облаке из мошек и других насекомых; гиганта людоеда, с маленькими глазками и большим зобом, в огромных башмаках и с мешком за плечами, полным украденных детей; цыган, похожих на лисиц с куриными ногами; человека-рыбу, который жил на самом дне моря и возил на спине свою мать; детишек спрутов с щупальцами вместо ног и рук…
Все они поднимались по лестнице. К какому-то мне незнакомому месту. Они были ужасны. И никто не останавливался посмотреть на них.
Потом внезапно появлялся автобус, весь позолоченный. С колокольчиками и цветными фонариками. На его крыше был мегафон, который объявлял: «Дамы и господа, входите в автобус желаний! Садитесь в этот чудесный автобус, который абсолютно бесплатно отвезет вас в цирк! Сегодня бесплатно до самого цирка! Входите! Входите!»
Страшилища, счастливые от такой нежданной возможности, входили в автобус… И в этот момент я представлял себе, что мой живот открывается и все они спокойно входят в него.
Эти дураки думали, что здесь цирк. Я быстро закрывал живот и старался скорее уснуть, положив на него руки, чтобы они не вошли в мои сны.
И вот только-только я заманил их в ловушку, как вошел старик, я отвлекся, убрал руки с живота, и они сбежали. Я закрыл глаза и притворился спящим.
Старик производил много шума. Долго рылся в чемодане. Кашлял. Вздыхал.
Я закрыл лицо согнутой рукой и из-под локтя наблюдал за его действиями.
Луч света на мгновение осветил комнату. Старик уселся на кровать Марии. Худой, сгорбившийся и темный. Закурил. Я видел его нос, похожий на клюв, и покрасневшие глаза. Я чувствовал запах дыма и одеколона. Иногда он качал головой и фыркал, словно злясь на кого-то.
Потом он начал раздеваться. Снял сапоги, носки, брюки, рубашку. Остался в трусах. У него была дряблая, обвисшая на костях, словно пришитая вверху, кожа. Он выбросил сигарету в окно. Окурок исчез в ночи, как горящий уголек. Он распустил волосы и стал похож на постаревшего больного Тарзана. И растянулся на кровати.
Я больше не мог видеть его, но чувствовал рядом. В полуметре от моих ног. Если бы он протянул руку, мог бы схватить меня за лодыжку. Я свернулся ежиком.
Он прокашлялся.
— Сдохнуть можно от жары в этой комнате. Как ты можешь так спать?
Я затаил дыхание.
— Я же знаю, что ты не спишь.
Я не реагировал.
— Ну и хитрец же ты… Я тебе не нравлюсь, а?
Да, ты мне не нравишься! Так мне хотелось ответить. Но я не мог. Я ведь спал. И даже если б и не спал, у меня не хватило бы смелости сказать такое.
— Вот и моим сыновьям я тоже не нравился. — Он поднял с пола бутылку, которую мама поставила для него, и сделал пару глотков. — Теплая, словно моча, — пожаловался он. — У меня их двое. Один жив, но как если б умер. Другой — умер, но словно жив. Того, что жив, зовут Джулиано Он намного старше тебя. Он больше не живет в Италии. Уехал. В Индию… Пять лет назад. Живет в общине. Ему забили башку всякими глупостями. Обрился наголо. Одевается в оранжевые тряпки и верит, что он истинный индус. Верит, что живет много раз. Жрет наркоту, как собака, и сдохнет, как собака, там. Я не собираюсь ехать туда и вытаскивать его из этой…
У него случился приступ кашля. Сухого. Рвущего легкие. Еле отдышавшись, он продолжил:
— А Франческо умер пять лет назад. В октябре ему было бы тридцать два. Вот он был хорошим парнем. Я его очень любил. — Старик закурил. — Как-то раз он познакомился с одной… Я ее увидел, и она мне сразу не понравилась. Говорила, что она тренер по гимнастике. Шлюха… Худющая блондинка, наполовину славянка. Славяне хуже всех. Она его спеленала, словно конфету. Она была бедна, как церковная мышь, когда познакомилась с Франческо, и вцепилась в него, потому что Франческо был славным парнем, щедрым, с которым всем хотелось дружить. Не знаю, что уж она там придумала, чтобы охмурить его. Мне потом рассказывали, что эта шлюха вместе с каким-то магом занималась махинациями. И этот кусок дерьма выставил ему счет. Эта парочка его извела. Лишила сил. Выпила из него все соки. Он был сильным парнем, а превратился в скелет, едва ноги переставлял. А потом как-то пришел и сказал, что женится. Что я мог ему возразить… Я пытался объяснить, что она его погубит, но в конце концов это его жизнь. Они поженились. И поехали на машине в свадебное путешествие. Были в Позитано, Амальфи, на побережье. Прошло два дня, а он не звонит. Ничего страшного, сказал я себе, свадебное путешествие. Позвонит еще. И кто позвонил? Полицейский из Сорренто. Сказал, чтобы я срочно туда приехал. Я спросил зачем. Он отказался сказать мне это по телефону. Должен приехать, если хочу узнать, что случилось. Сказал только, что речь идет о моем сыне. А как я мог туда поехать? Я не мог. Если бы они узнали, кто я, тут бы мне и крышка. Меня искали повсюду, поскольку я был заочно осужден. Они меня заманивали. Я тогда связался с одним знакомым, чтобы он им позвонил. И он рассказал мне, что мой сын погиб. То есть как погиб? И он мне говорит, что это самоубийство, что он бросился с обрыва. Что упал с высоты двести метров прямо на камни. Мой сын? Франческо покончил с собой? Точно, они хотели взять меня за задницу. А я не мог туда поехать. И тогда я послал эту сучку, его мамашу, посмотреть, что там случилось.
— И что там случилось? — вырвалось у меня.
— По их словам, Франческо остановился у парапета полюбоваться панорамой, она оставалась в машине, он сфотографировал ее, потом перешагнул через парапет и бросился вниз. Человек делает фотографию своей жены и потом прыгает с обрыва? Она сказала, что его нашли разбившимся, с членом, торчащим из ширинки, и фотоаппаратом на шее. По-твоему, тот, кто хочет покончить с собой, делает фото, вытаскивает член из штанов и прыгает вниз? Это кто ж такое придумал? Я знаю, как было на самом деле… Панорама панорамой. Но Франческо остановился еще и потому, что хотел поссать. И не хотел делать это посреди дороги. Он был воспитанным парнем. Он перешагнул через парапет и стал отливать, а эта шлюха столкнула его. Мне никто не верит. Это она его столкнула. Убила.
— Зачем?
— Хороший вопрос. Зачем? Не знаю. У него не было ни лиры. Не знаю я почему. Я из-за этого по ночам не сплю. Но эта сука мне за все заплатила… Я ее… Ладно, оставим тему, уже поздно. Давай спать.
Он выбросил в окно очередную сигарету, улегся и через пару минут уснул, а через три — захрапел.
Когда я проснулся, старика уже не было. Остались неубранная постель, смятая пачка из-под сигарет «Данхилл» на подоконнике, трусы на полу и наполовину выпитая бутылка воды.
Было жарко. Трещали цикады.
Я поднялся и выглянул в кухню. Мама гладила, слушая радио. Моя сестра играла на полу. Я закрыл дверь.
Чемодан старика был под кроватью. Я открыл его и заглянул внутрь.
Одежда. Флакон с одеколоном. Бутылка виски. Папка со стопкой фотографий. На первой — парень, высокий и худой, одетый в голубой комбинезон, как у механика. Он смеется. Похож на старика. Франческо, тот, что бросился с обрыва с расстегнутой ширинкой.
В папке были также вырезки из газет. Рассказывали о смерти Франческо. Была фотография его жены. Она походила на танцовщицу из телевизора. Здесь же лежала ученическая тетрадка с обложкой из цветного пластика. Я открыл ее. На первой странице было написано: эта тетрадь принадлежит Филиппо Кардуччи, 4-й Б.
Первые страницы вырваны. Я полистал тетрадь. В ней были диктанты и сочинение на тему:
Расскажи, как ты провел воскресенье.
В воскресенье приехал мой папа. Мой папа живет в Америке и иногда приезжает к нам. У него там вилла с бассейном и вышкой. Я должен буду туда поехать. В Америку он уехал работать и, когда возвращается, всегда привозит мне подарки. В этот раз он привез мне ракетки, как у теннисистов, которые прикрепляют к ногам, и можно ходить по снегу не проваливаясь. Когда я поеду в горы, я буду надевать их, чтобы ходить по снегу. Папа сказал, что такими ракетками пользуются эскимосы. Эскимосы живут на льду Северного полюса и даже дома делают из льда. Внутри у них нет холодильников, потому что они им ни к чему. Они питаются тюленями, иногда пингвинами. Папа сказал, что однажды он меня туда свозит. Я спросил его, может ли с нами поехать Пеппино. Пеппино — это наш садовник. Пеппино подстригает все растения, а когда приходит зима, он должен собирать листья в парке. Пеппино уже лет сто, и как только он видит какое-нибудь растение, то подстригает его. Он очень устает и по вечерам должен ставить ноги в горячую воду. Если он поедет с нами на Северный полюс, ему ничего не надо будет делать, там нет растений, есть только снег, и он сможет отдохнуть. Папа сказал, что он должен подумать, может ли Пеппино поехать с нами. После того как мы приехали из аэропорта, мы пошли кушать в ресторан — я, моя мама и мой папа. Они обсуждали, в какой средней школе я должен буду учиться. Здесь, в Павии, или в Америке. Я ничего не говорил, но хотел бы в той, что в Павии, куда ходят все мои друзья. После обеда мы вернулись домой. Я еще раз поел и пошел спать. Так я провел воскресенье. А домашние задания я успел сделать еще в субботу.
Я закрыл тетрадь и сунул ее в конверт.
На самом дне чемодана лежало свернутое полотенце. Я развернул — в нем был пистолет. Я долго разглядывал его. Он был большой, черный, с деревянной рукояткой. Я взвесил его на руке. Очень тяжелый. Наверное, заряженный. Я вернул его на место.
«Следя за полетом стрекозы над лугом, я решила порвать с прошлым», — пело радио.
Мама танцевала и одновременно гладила и подпевала:
— «Когда ж мне показалось, что это удалось…»
У нее было хорошее настроение. Целую неделю она была злее цепного пса, а сейчас, довольная, пела своим низким глубоким голосом:
— «И фраза глупая с двойным и грубым смыслом встревожила меня…»
Я вышел из комнаты, застегивая штаны. Она улыбнулась мне:
— А вот и он! Тот, кто не хочет ночевать с гостями… Доброе утро! Подойди, поцелуй меня. Сильно, как я люблю. Хочу посмотреть, как сильно ты можешь это сделать.
— Ты меня поймаешь?
— Конечно. Я тебя поймаю.
Я подбежал и подпрыгнул, а она поймала меня на лету и поцеловала в щеку. Потом прижала к себе и начала кружиться. А я целовал ее без конца.
— Я тоже! Я тоже! — заверещала Мария. Она подбросила куклу в воздух и обхватила нас.
— Тебя это не касается. Это касается меня. Отпусти, — сказал я ей.
— Микеле, не говори так. — Мама подхватила и Марию. — Вы оба мои! — И начала кружиться по комнате, напевая во все горло: — В нашей лавке очень много коробок, одни черные, другие желтые, а третьи красные…
От одной стены до другой, от одной стены до другой. Пока мы не рухнули на диван.
— Слышите… Сердце… Чувствуете сердце… вашей… мамы… Умираю. — Она глубоко вдохнула.
Мы положили руки ей на грудь и почувствовали толчки.
Так мы и сидели, прижавшись друг к другу. Затем мама поправила волосы и спросила меня:
— Значит, Серджо не стал есть тебя этой ночью?
— Нет.
— Он тебя усыпил?
— Да.
— Он храпел?
— Еще как.
— Ну и как? Покажи нам.
Я попытался изобразить.
— Но это же свинья. Так делают свиньи. Мария, ну-ка, покажи, как храпит папа.
Мария изобразила папу.
— Э-эх! Не умеете. Сейчас я вам дам послушать папу.
У нее получилось похоже. С присвистом.
Мы долго смеялись.
Она поднялась и поправила платье.
— Разогрею тебе молоко.
— А папа где? — спросил я.
— Уехал с Серджо… Сказал, что на следующей неделе отвезет нас к морю. И мы пойдем в ресторан есть мидии.
Мы с Марией принялись скакать на диване:
— К морю! К морю! Есть мидии!
Мама посмотрела в сторону полей и задернула занавески.
— Будем надеяться на лучшее.