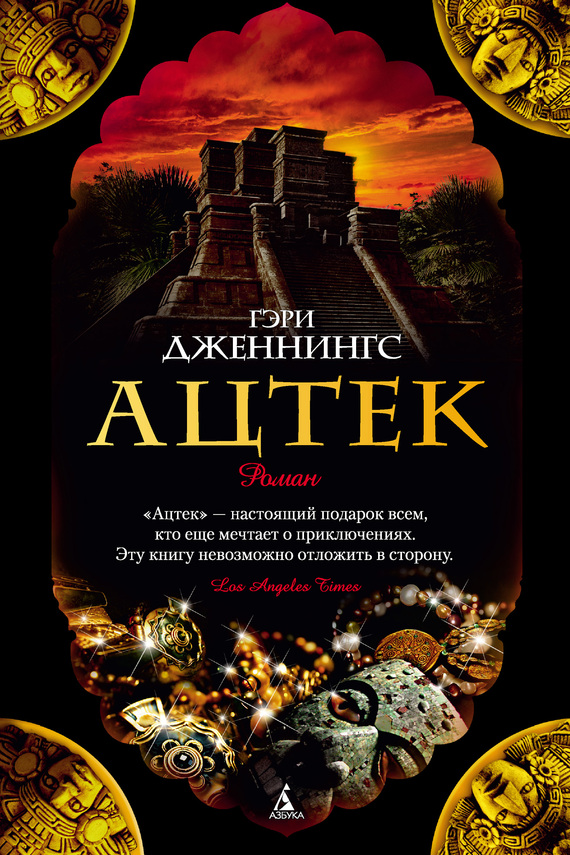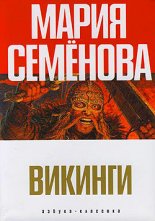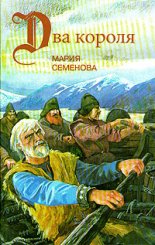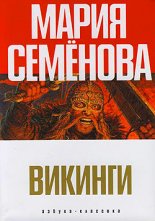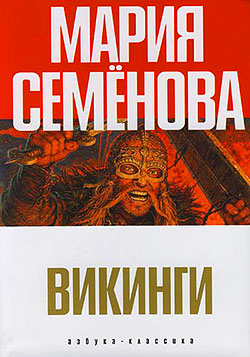Рождение волшебницы Маслюков Валентин

Побелевший Деруи стоял под градом угроз, но товарищи его, похоже, не одобряли заносчивой выходки кавалера, что видно было по их испуганным, смятенным лицам. Да и сам Деруи, конечно же, помнил о строжайших наказах искать мира. Он медленно опустился.
Бедная Нута осматривалась, плохо понимая, что происходит. Ей представлялось, должно быть, что она пропустила нечто особенно важное, нечто такое, что могло бы объяснить внезапное бешенство самодержца. Бледная и немощная, принцесса поднялась, словно во сне:
— Если из-за меня… Зачем такие угрозы? — несколько слов она кинула затем по-мессалонски, но послы, хоть и повернули головы, держались так, словно заранее знали, что ничего разумного ожидать с этой стороны не приходится. Словно у них, послов, не было ничего общего со своей оторванной от родины соотечественницей из оттесненного от власти рода.
— Молчи, не лезь, — тихо прошипела тут Лжезолотинка, понимая общее настроение, которого совершенно не учитывала Нута. — Без тебя разберутся. Не лезь под удар. Дура. — Последнее уже совсем тихо, только себе. Широта натуры и некое тщеславное великодушие побуждали Зимку, пренебрегая недавними оскорблениями, предостеречь маленькую принцессу против опасных глупостей.
— Если только я послужила причиной раздора… — продолжала Нута, обращаясь прямо к государю.
— Да, послужила! — обронил Рукосил-Могут и недобро осклабился.
— …То это нестоящая причина.
— И ты готова пострадать, чтобы устранить источник недоразумений? — спросил Лжевидохин с язвительным любопытством.
— О, да! — откликнулась Нута, понимая все, что происходит, только по самому общему смыслу.
— Деруи… — задыхаясь от возбуждения, Лжевидохин вынужден был говорить отрывисто. Широкое бульдожье лицо его под низко севшим на глаза венцом побагровело и приняло синюшный оттенок. — Устранить повод… к войне… Что лучше? Мы с вами заложим основание новой, небывалой между народами дружбы.
— Надеюсь, государь, — сдержанно отвечал кавалер.
Лжевидохин глянул в пространство — ни на кого в особенности, но несколько дворян, маячивших в тылу за престолами, насторожились, готовые к услугам.
— Возьмите принцессу, привяжите ее… вон к тому горшку, — указал он на высокую вазу с цветами, вокруг который полулежали и сидели притихшие скоморохи.
Несколько мгновений оторопелая тишина сопровождала этот несообразный приказ. Первым спохватился старший в наряде пожилой дворянин, добродушный с виду, с рыжеватой короткой бородой, в мехах и в желтых чулках с красными подвязками. Он засуетился и для неведомой надобности подозвал витязей, из тех, что стояли у дверей. Увенчанные пышными перьями латники с бердышами в руках поднялись на помост, где сидела принцесса. Пожилой дворянин спросил кого-то, понизив голос, но вполне явственно: а веревка?
— Простите, великий государь, я не понимаю ваших намерений, — сказал мессалонский толмач, что держался за стулом посла, не присаживаясь. Самого Деруи на этот раз никто, кажется, и не слышал.
— Надо устранить причину недоразумений, — расслабленно сообщил Лжевидохин. Словно передразнивая посла, он тоже едва шевелил языком и в крайней телесной слабости откинулся на спинку кресла. То была расплата за излишнюю, не по летам живость.
— Государь! — взвился вдруг Деруи, вставая. — Я не позволю…
Однако поздно было уже внушать что-либо слованскому оборотню: тот тяжело дышал, прикрыв глаза, сознание его, как видно, туманилось. Все приостановилось.
Рыжебородый дворянин и витязи в перьях вывели принцессу на середину палаты и тут замешкали между скоморохами, обратив взоры к обомлевшему государю. Мессалонский посол по-прежнему стоял, ожидая часа, чтобы выразить возмущение. Принцесса, уронив руки, потупилась и, кажется, ничего не ждала. Понемногу по всей палате установился скучный приглушенный гул, люди перешептывались, многие, не выдержав напряжения, потихоньку ели и пили.
Заметное движение происходило только среди скоморохов. Чернявый юноша с тонкими чертами живого, выдающего страстную натуру лица, раз от разу перекатывался по полу среди товарищей, подбирался все поближе к принцессе и, наконец, вовсе встал, желая привлечь ее внимание. Нута глянула, но так и не отличила юношу от стороживших ее людей.
Принцесса не узнала Лепеля. Что было ему не совсем понятно, ведь он, казалось бы, не переменился к худшему, не поседел, не обрюзг, не переменил ни нрав, ни обличье за прошедшие после последней встречи два года — они мелькнули для него сплошным крутящимся колесом, как не было.
Увы! Нута не только не помнила Лепеля, но вовсе не держала в памяти все происшедшее тогда в Толпене между прыжком из окна и беспощадным приговором, который вынес ей Юлий. Только это и осталось: холод на краю пропасти и потом сразу, без перехода — обморочная слабость в душе от нестерпимой обиды и боли. Лепель, стоявший в промежутке между этими событиями, затерялся как нечто незначащее, мимолетное.
— Государь! — с пылом воскликнул наконец кавалер Деруи, заметив, что слованский оборотень мотнул головой и повел мутным взором, поправив венец. — Государь! Я не позволю надругаться над женщиной в моем присутствии!
По всей палате перестали есть и встревожились.
— Тогда я советую вам выйти, — отвечал Рукосил, улавливая суть препирательства. — Да, я бы советовал! Зрелище не из приятных: я велю привязать принцессу и затравить ее собаками! — и он перестал замечать посла.
Действительно ли Лжевидохин имел такое бесчеловечное намерение, являлась ли невероятная угроза следствием беспамятства или же это была издевательская дразнилка, призванная вывести из себя мессалонского посла и до смерти напугать принцессу — никто не мог знать наверняка.
Похоже, он готов был и отступить… когда бы нашелся способ. Беда в том, что ничего путного на ум не приходило.
— Ну! — вскричал Рукосил, озлобляясь. — За чем дело стало?
— Веревки нет! — с мрачным спокойствием сообщил рыжебородый дворянин в желтых чулках.
Едва ли он успел подумать о последствиях язвительно прозвучавшего ответа.
— Кто этот человек? — с деланным замешательством изумился Лжевидохин, показывая пальцем. — Как его сюда допустили? Уберите его. В железо. Пусть палач объяснит умнику, где искать веревку.
Стража окружила дворянина, который только сейчас по-настоящему сообразил, чего будет стоить ему нечаянное слово: он зевал, пытаясь что-то сказать, но не говорил, руки тряслись, когда сдавал меч.
— А этот? — продолжал удивляться Лжевидохин, обнаружив возле принцессы скомороха. — Этот болван для чего поставлен?
— Поставлен искать веревку! — бодро сообщил Лепель.
Можно было ожидать, что государь испепелит негодника, а он изволил вместо того усмехнуться. Кривое подобие улыбки на бульдожьем лице под венцом вызвало по всем концам палаты некое подобие вздоха, в котором выразилась надежда на благополучный исход дела.
— Зачем же тебе веревка? — продолжал государь.
— Чтобы поддержать принцессу.
— Поддержать? Неплохо сказано, — опять, второй раз подряд! усмехнулся Лжевидохин. — Сдается, мы тут с тобой, приятель, одни только и понимаем друг друга.
— Приятно, что вы это заметили, государь, — доброжелательно откликнулся Лепель.
А двор и чужеземцы расхрабрились уже настолько, что послышался смех. Опечаленного до потери речи дворянина, что начал разговор о веревке, между тем увели, и никто его больше не вспоминал. Мессалонский посол догадался сесть.
— Принцесса хромает на ногу, — неспешно толковал Лепель, — как же ее не поддержать? Тут годится и веревка, и дыба, и кол — любой способ привести человека в устойчивое состояние.
— Когда же ты заметил, что у принцессы неладно с ногой? — продолжал государь.
— Как только она заговорила.
Венценосный оборотень хмыкнул, по палате прокатился почти уж совсем веселый смех.
— Ты заметил, а никто больше не видит.
— А я это обнаружил на ощупь. Когда я ощупал себя и обнаружил, что довольствуюсь одной ногой, то сейчас же сообразил, что сходный недуг постиг и принцессу.
— Ну… что ты хочешь этим сказать? — с некоторым недовольством уже, помолчав, возразил государь.
— Всякий человек стоит на двух ногах. Одна нога — правда, другая — ложь. Невозможно прожить одной правдой, как невозможно прожить одной ложью. Принцесса открывает рот только для того, чтобы поведать правду, а я — чтобы солгать. Вот и получается, что мы оба калеки, каждый на свой салтык. Мы оба нуждаемся в снисхождении.
— Это ты верно заметил, дурак, — вздохнул государь. — Или оба нуждаетесь в наказании… Веревку-то принесли? — спросил он, как раз приметив поспешно бегущего человечка с целым мотком шелковой бечевки. — Ну так привяжите дурака к вазе.
— И все скоморохи вон! — прикрикнул Лжевидохин, когда стража с особенным, веселым рвением исполнила приказ и примотала Лепеля к узкой высокой вазе, доходившей ему до груди. Над головой юноши диким венком свисали заморские цветы: непомерно большие, мясистые, они источали сладковатый трупный запах.
— Вон! — повторил оборотень, и в голосе его звучало нечто пронзительное, отчего являлась слабость в ногах и сухость в горле, исчезала всякая мысль о сопротивлении. Скоморохи бросились врассыпную через множество лазеек между столами. Повинуясь особому указанию государя, отступила стража.
На опустевшем пространстве посреди палаты остался запутанный в пышные заросли цветов Лепель. Возле него, словно пытаясь что-то понять, озиралась Нута. На мраморном полу валялись позабытые в спешке бубен и мячики.
— Принцесса, есть еще время удалиться! — сказал Лжевидохин.
Теперь Нута подняла глаза на юношу, словно впервые решилась его разглядеть. Она удивилась цветам, которые осеняли его лицо — белые большие раструбы, казалось, веяли снеговым холодом.
— Вы помните меня? — спросил юноша тихо.
Сотни глаз глядели на них с тем напускным равнодушием, с каким люди отгораживаются от обреченных, чтобы сохранить себя.
— Теперь запомню, — слабо улыбнувшись, сказала Нута и тронула юношу за плечо.
Это было весьма неосторожно с ее стороны. Слюнтяйство нежных прикосновений и теплых взглядов Лжевидохин презирал с холодной злобой опустошенного человека.
— Рекс, Цезарь! — окликнул он собак.
Два царственных зверя, один совершенно черный, другой в лоснящихся серых подпалинах, подняли головы.
— Взять! — хрипло сказал хозяин, указывая на середину палаты.
Обожравшиеся псы соображали не особенно живо. Они выбежали вперед, оглядываясь за указаниями. Деруи тяжело дышал, стиснув столовый нож из мягкого серебра. В широкие двери палаты справа и слева от рундука с престолами входили отряды кольчужников, иные из них держали взведенные самострелы. Перемещаясь вереницами вдоль стен, стража заходила в тыл мессалонскому посольству и посольству Куйши одновременно.
— Ну, хватит уже. Прекратите! — как-то расслабленно, словно бы через силу, сказала великая государыня Золотинка — никто не слышал ее — и поднялась. Государыня слепо двинулась к выходу — кольчужники расступились. Вызывающий Зимкин побег, разумеется, не ускользнул от Рукосила, он кинул косой взгляд, но отвлекаться не стал.
Поджарые собаки играли витыми мышцами, скалили клыки и плотоядно приглядывались к неподвижному, в веревках, человеку и к маленькой женщине подле него. В воздухе веяло жестоким и сладостным запахом теплой крови. Псы глухо рычали, распаляя в себе ярость. Хозяин не отзывал их, не выказывая ни малейших признаков порицания. Тогда они побежали кругом жертв, как бы отгораживая мужчину и женщину от остального, не подлежащего растерзанию общества…
И гром грянул! В судорожной тишине, где едва-едва дребезжал смешок Лжевидохина, раздался мягкий и тяжелый стук, почти без промежутка он слился с новым, еще более сильным ударом — откуда ни возьмись свалился кот с какой-то дрянью в зубах! Собаки сделали стойку.
Явление Почтеннейшего произвело сильное впечатление на захваченную иными ожиданиями палату. Жаль только, никто не видел изумительного по отваге прыжка: рыжий кот сорвался с нависающей над раскрытым окном ветви и, точно попав на перекладину, оттуда сиганул вниз — с высоты церковного свода, то есть с высоты в пять-шесть саженей, не меньше, потому что узкие окна поднимались под самый потолок. К подножию государева престола.
Тут его и увидели. Все взоры обратились на рыжего зверя, который сжимал в зубах… покрытую зелеными побегами ветку. Падение оглушило кота, мгновение-другое он пребывал в бездействии. Этого мгновения и не хватило Почтеннейшему, чтобы, выпустив изо рта хотенчик, воззвать к чародею.
Собаки сорвались с места черными молниями.
Что оставалось? — метнуться прочь. Круто промчался кот вкруг государева престола — яростно запыхтели и заухали вслед ему едулопы. А кот, вильнув под столом государыни, рыжим пламенем проскочил открытое пространство и отчаянным прыжком, едва не оставив хвост в собачьей пасти, взлетел на стол под желтой скатертью.
Все происходило так быстро, что люди, в отличие от собак, не успевали действовать. Вихрем пронесся кот мимо всего мессалонского посольства, а за ним Рекс. Тут Почтеннейший получил преимущество перед преследователем — он сталкивался не с каждым кувшином, стаканом и судком, а рослый, на длинных ногах пес принужден был сшибать все подряд. Гости повскакивали, с грохотом падали опрокинутые стулья.
Не задержавшись, Почтеннейший перескочил к слованским вельможам правой руки и, увлекая за собой Рекса, произвел разрушительные опустошения. Потребовалось всего несколько мгновений далее, чтобы свирепый вихрь пронесся по столу актрийцев. Перескакивая по столам, кот никого не миновал, он обежал палату, вернувшись к исходной точке. Рекс гнался за ним поверху, а Цезарь метался в проходах, сшибая всполошенную знать.
Учинивший весь этот погром кот, невредимый, соскочил на пол, прорываясь к престолу, и был таков! Впрыгнул с разбега в горловину большого кувшина для костей, стоявшего у самых ног государя.
Заполошенные собаки примчались пред гневливые очи хозяина в самом жалком и унизительном состоянии. Стража уже бежала к кувшину, чтобы расколоть его вдребезги, когда раздался голос. Поскольку никто не предполагал за котом дара речи, а тем более красноречия, поскольку голос в кувшине гудел как-то особенно басовито и внушительно, со своеобразным даже величием, то Почтеннейший сумел поразить народ во второй раз. Государь, слегка как будто испуганный, но уже овладевший собой, поднял руку, чтобы остановить стражу. Смятенный шум по палате прекратился.
— О великий и всемогущий! Повелитель вселенной! — заухал голос в кувшине. — Припадаю к стопам! Бью челом в службу!
Ответом был неистовый лай — опозоренные Рекс с Цезарем не находили иного выхода для обуревавшей их ярости.
— Не вели казнить, вели слово молвить! — завывал кувшин наперекор собачьей брани.
— Цыц! — вынужден был приструнить псов чародей, но они не сразу поняли, что этот суровый, незаслуженный упрек к ним относится. — Цыц!
Однако Лжевидохин не мог уследить за собаками и за едулопами одновременно. Болотно-зеленые уроды, возбужденные суматохой до бешенства, не находили себе места. Вдруг кривоногий верзила бросился ни с того ни с сего на стоявшего в трех шагах кольчужника, ударил его коленом в спину, одновременно заламывая назад голову, чтобы сломать позвоночник. Несчастный, не издав ни звука, выронил самострел и хрустнул, ахнули товарищи — беспомощно, как дети, на глазах которых выскочивший из кустов волк хватил братишку.
Обернувшись столь резко, сколько позволяла ему старческая немощь, Лжевидохин прикрикнул. Несколько слов — едулоп выпустил жертву. Покалеченного насмерть, едва хрипящего уже кольчужника подхватили товарищи. Под окриком хозяина уроды попятились, съежились, потом опустились на колени и, наконец, легли ничком на пол.
Тем временем, не ведая, что происходит снаружи, в самых льстивых и пышных выражениях продолжал вещать кот.
— Помолчи, — велел Лжевидохин в изрядном раздражении. — Не нужно много слов. Ты кто?
— Бывший сотрудник великой Милицы, — прогудел кувшин и послушно смолк.
— Имя? — жестко спросил чародей.
— Не прогневайся, Великий, я открою его тебе на ухо. Когда я служил у Милицы, меня звали Спиком.
Лжевидохин едва приметно кивнул, признавая тем самым, что прозвище это ему знакомо.
— Ты готов служить?
— Твой раб до скончания века, о, величайший из великих!
Чародей подозвал собак, они непослушно вздрагивали под рукой и не сводили горящих глаз с кувшина.
А поглядеть же, и в самом деле, было на что, теперь и Лжевидохин насторожился: из широкой горловины выскользнул листик, поднималась зеленая лоза. Потом мелькнула кошачья лапа, цапнула веточку, пытаясь затолкать ее обратно в кувшин, но другой побег начинал выпирать рядом.
— Что это у тебя там? — спросил оборотень и невольно оглянулся, подозревая подвох и опасность. Гости теснились ближе к престолу, сколько позволяли приличия, но середина палаты — там стоял забытый в цветах скоморох — оставалась пуста, скомороха и Нуту сторонились, как прокаженных, и Рукосил тотчас понял почему. Маленькая принцесса, стиснув зубы, торопилась развязать опутавшие юношу веревки, но, верно, не могла справиться с тугим узлом. Рукосил вовсе выкинул бы этих двоих из головы, когда бы не столь грубое, на глазах двора и чужеземцев, самоуправство. К тому же сказывалось общее, витавшее в воздухе озлобление — то самое, которое бросило безмозглого едулопа на случайно подвернувшегося стражника.
— Полковник! — свирепо кинул оборотень, обернувшись к витязям. — Куда вы смотрите?! Привяжите принцессу… на пару с дураком. Да! Живо!
Несколько человек двинулись исполнять приказ.
Из кувшина доносилась возня и приглушенные чертыханья.
— Что там? — раздражительно повторил Лжевидохин. — Что за шутки?
— Ничего не могу понять! — растерянно отозвался кувшин. — Это хотенчик…
— Какой хотенчик?
— Я отнял его у пигалика, — виновато гудел кувшин. — Он украл… пигалик украл хотенчик… волшебную палочку и с ней перстень, он украл их в Межибожском дворце… Но проклятый сучок начал расти. Когда я сидел на дереве за окном. И на нем волшебный камень.
— Ну-ка, вылезай. Дай сюда, — распорядился Рукосил, ерзая в кресле. — Уберите собак, возьмите их на свору.
По указанию государя кота извлекли на свет: он удерживал в зубах сухую деревяшку, от который шли длинные шустрые побеги.
На конце рогульки тускло сверкнул камень. Рукосил сомнительно выпятил губы, не зная, верить ли собственным глазам. Камень этот был безвозвратно потерянный два года назад Паракон. Когда Рукосил осторожно принял зеленеющее растение, он окончательно убедился, что судьба поворачивается лицом… Та самая удача, что рано или поздно приходит к сильным. Паракон!
Перстень без затруднений сошел с деревяшки, и Рукосил — едва ли он поступил бы так небрежно и необдуманно, если бы не кружившее голову волнение, — надел его на безымянный палец левой руки. Почти тотчас же он почувствовал легкое пожатие, которое нетрудно было истолковать как признание: волшебный камень приветствовал исконного хозяина.
Усевшись в ногах, кот преданно засматривал в глаза, ожидая доброго слова.
И если что смущало еще Рукосила, так это загадочный расцвет хотенчика. Гибкие побеги толщиною не больше мизинца расползались, как проворные змейки, лоза свисала с колен, ползла через стол, а самая проворная успела уже спуститься с рундука на выложенные мраморными плитами пол и скользила, ощупывая дорогу суетливыми движениями усиков.
— Что это? — настороженно спросил Лжевидохин у кота, понимая, впрочем, что спрашивать бесполезно.
И, видимо, не следовало выдавать растерянность перед посольствами и двором. Нахальное своевольство хотенчика — если это и в самом деле был хотенчик — пора было прекратить любой ценой. Но при всей своей самоуверенности Рукосил, опытный волшебник, отчетливо сознавал, как легко попасть впросак, когда… когда ничего не понимаешь. Самое глупое и опасное положение в чародействе.
Приходилось, однако, торопиться. Расстегнув жемчужные пуговицы на груди, Лжевидохин достал из-под кафтана большой изумруд на плоской золотой цепи. Благоговейный шепот присутствующих свидетельствовал, что они узнали Сорокон.
Коснувшись изумрудом деревяшки, Лжевидохин зашептал. Зеленый камень побежал искрами, они впивались в дерево, сухая рогулька и зеленые побеги, что раскинулись уже по полу шагов на десять, начали подрагивать, побеги болезненно извивались, но продолжали расти вопреки всем усилиям волшебника.
Лжевидохин не отступал и еще усерднее склонился над хотенчиком. Искры сыпались, деревяшка чернела, грязная сыпь распространялась по побегам, желтели и жухли листья, обретая серо-железный цвет, — но продолжали расти. Побеги еще быстрее ползли по полу, извиваясь по мраморным плитам, они шелестели и громыхали, как жестяные, слышался мелкий, не особенно благозвучный перезвон.
Теперь уж не только Рукосил, но и весь возбужденный чудесами двор понимал, что происходит нечто такое, чего великий владыка не мог ни предвидеть, ни укротить. А рыжий кот как будто бы ничего иного и не ожидал, неподвижный, немигающий прищур его желтых глаз не выражал ни малейшего беспокойства.
Оставалось только наблюдать, как три почерневших побега свернулись в кольцо вокруг скомороха и принцессы и начали сплетаться в кружевную стенку, положив основание некоему сооружению вроде корзины несколько шагов в поперечнике. Занятые целенаправленной работой, побеги замельтешили еще живее — стены корзины или, может быть, клетки поднимались с завораживающей глаз скоростью. Рукосил опомнился, когда плетеная загородка поднялась скомороху по грудь и почти скрыла принцессу — виднелся только маленький золотой венец в черных волосах.
— Измена! — раздался чей-то возглас. Преданные государю слованские вельможи волновались. И хотя Рукосил со свойственной ему трезвостью оставался далек от поспешных заключений, по всему выходило, что следует воспользоваться подсказкой: измена!
— Взять негодяя! — бросил государь, указывая на кота.
Почтеннейший от растерянности замяукал, когда же понял, что несет чушь вместо членораздельной речи, осталось только шарахнуться от спущенных со своры собак. В то же мгновение короткая тяжелая стрела жестоко чиркнула по полу, выбив во мраморе борозду — осыпанный каменной сечкой кот помчался себя на помня.
Грохот, вопли, вой преследовали обезумевшего кота. Неведомо как очутился он на кружевной ограде и кинулся прямо в цветы, раскинувшиеся над головами узников. Брошенный ему вдогонку кубок срубил зелень, а кот свалился вниз, в укрытие.
Когда, поддержанный под руки вельможами, Лжевидохин добрался до клетки, черные побеги перебросились через верх и вовсю принялись заплетать свод, чтобы накрыть убежище. Полное заточение троих узников было делом непродолжительного времени.
— Великий государь! — задыхаясь, взывал кот, который опасался волшебной западни не многим меньше, чем собак. — Не вели казнить! Припадаю к стопам!
— Оно ведь, и в самом деле, неплохо бы выбраться, — скороговоркой бормотал скоморох. Сквозь просветы в черных кружевах было видно, как он дергается, пытаясь освободиться от веревки, опутавшей их с принцессой в несколько витков.
Скоморох торопился высвободиться, предполагая впереди и новые несчастья, а принцесса мало помогала товарищу. В полном самозабвении она пела негромким высоким голоском нечто хватающее за душу — протяжную мессалонскую песнь.
Люди давно уже не вызывали у Рукосила-Лжевидохина сильных чувств. Ни песни принцессы, ни шутовская тарабарщина скомороха, ни жалкие причитания кота неспособны были вывести слованского оборотня из равновесия — словесный хлам нисколько его не волновал, как не занимала и судьба узников. Избалованный победами, развращенный безграничной властью, Рукосил ненавидел обстоятельства, то единственное, что еще смело сопротивляться всесокрушающей воле владыки. Задорное нахальство хотенчика, злостное его сопротивление доводило оборотня до исступления.
В остервенении пиная жесткое кружево ограды, Рукосил вдруг понял, что это и есть железо. Пущенные хотенчиком побеги обратились под действием Сорокона в железо! Железо с виду и железо по существу: серые листочки резали пальцы. Почерневшие прутья глухо звенели, стоило постучать по ним чем-то твердым.
Сорокон в руках, почтительное, испуганное внимание сотен свидетелей и собственная распаленная обстоятельствами злоба толкали Рукосила по пути без возврата.
Он коснулся ограды Сороконом и вызвал искрень.
Сверкнул зеленый свет, изумруд хищно поцеловал железо, и тотчас распалился маленький, незаметный с дальних концов палаты пятачок. Мало кто понял в эти мгновения, что же произошло. И только истошный, исполненный необъяснимого ужаса выкрик: «Искрень!» положил конец недоумению. Люди попятились, напирая на разгромленные столы. И уже кричали спасаться, хотя явной опасности для тех, кто оставался за пределами железной западни, пока что не было.
Почтеннейший взвился по железному плетню в надежде выскочить — поздно! Густо заплетенные прутья не оставили коту лазейки, сколько ни тыкался он мордой, чтобы протиснуться там и здесь.
— Спасите кота! — дурашливо завопил скоморох. Бог знает почему человечный призыв этот вызвал повсюду смех. Кот перестал браниться, а принцесса оборвала песню, смущенная необъяснимым взрывом веселья.
И сразу без заметного перехода от одного к другому, как это бывает в тягостных сновидениях, раздались вопли: уберите железо! у кого железо? все сгорит! Выли собаки, урчали и лаяли едулопы.
— Если никто не возьмется спасать кота, придется коту нас спасать! — паясничал скоморох. В шутовских скороговорках его слышалась, однако, лихорадочная тревога. — Эй, ты, — тараторил он, — развяжи мне руки, слышишь? Кому говорю? Развяжи руки! Ты хочешь, черт побери, чтобы хоть кто-нибудь спасался?
Кот метался по клетке, взлетая наверх и бросаясь вниз — сбил хвостом венец с головы совершенно бледной, словно бы неживой, принцессы и кинулся в дальний от огня угол.
— Великий государь! — завопил он вдруг. — Смилуйся, государь, или я развяжу преступникам руки!
Это подобие угрозы тронуло дряблый рот оборотня усмешкой. Слегка сгорбившись, он зябко кутал покатые бабьи плечи в широкий плащ с тяжелым бобровым воротником и, казалось, грел свою стылую кровь в тепле разгорающегося огня. Вишневого цвета пятно расползалось по прутьям, в считанные мгновения достигнув размеров хорошего столового блюда, в воздухе повеяло паленым.
Железо горело, но побеги хотенчика продолжали расти, и, сверх того, откуда-то из основания клетки с силой мощной струи вылетели вдруг каменные ступени, мгновенно складываясь в довольно широкую крутую лестницу. Она поднималась в воздухе без опоры и тут же, никто и дух не успел перевести, высоко над головами ударила в смык стены и потолка. Все вздрогнуло, уходя из-под ног, лестница, пробив безобразную брешь, вырвалась на волю — сквозь мутную, затянутую облаком пыли дыру открылось небо. Стена пошла трещинами, перекосились надломленные балки потолка. Беспорядочно растущие из клетки прутья тотчас же устремились к лестнице, складываясь в витые железные перила, которое споро бежали вверх вдогонку ступеням.
Гром грянул — ничто в необыкновенной череде событий не произвело на людей такого ошеломительного, подавляющего впечатления, как удар волшебной лестницы. То был даже не ужас, скорее благоговение, сознание своего ничтожества перед громадностью неподвластных человеку стихий. И видно стало, что даже Рукосил-Могут всего лишь жалкий больной старик, растерянный и беспомощный.
Блуждающий дворец! Вот что это было такое, вот что родилось из сухой деревяшки, которую притащил в зубах беспризорный кот. Теперь, когда это свершилось, ошалевшим людям казалось, что ничего иного нельзя было и ожидать. Блуждающий дворец занимал слишком много места в тайных помыслах и крамольных, шепотком, разговорах, чтобы люди не ожидали его где угодно.
— Ну что, дуралей, — ясно и даже как будто весело сказал скоморох, — вот тебе преждевременное спасение. Ты еще не развязал мне руки, а уже открылся выход!
Затравленный непреходящими ужасами, кот, как ошпаренный, кинулся кусать и терзать узел, в то время как Лепель и Нута задергались, пытаясь сбросить путы. Раскаленная ограда на расстоянии полутора-двух шагов источала невыносимый жар. Под тяжестью обвисшего на них кота путы наконец пали под ноги. Освобожденные узники отступили на холодную сторону клетки — как раз туда, где начиналась прегражденная железным плетнем лестница.
Надежда на спасение, задор удачи заставили Лепеля, а потом и Нуту ломать прутья голыми руки, и железо поддавалось! Оно гнулось и рвалось под тонкими пальчиками принцессы, как густое тесто. В лихорадке не замечая ожогов, узники выломились на лестницу и побежали вверх, к открытому в небо пролому; еще быстрее взлетел кот.
Все это было так невероятно, что никто из Рукосиловых верноподданных не сделал ни малейшей попытки задержать беглецов.
— Стреляйте! — дрожащим голосом крикнул государь, и тогда только все пришло в движение. Полетели, сбиваясь о густые завитки перил стрелы, кто-то из самых ретивых и отчаянных дворян полез на еще холодное заграждение, но, очутившись уже на лестнице, испугался, остановился на полпути к зияющему в небо провалу. Неустойчивая лестница, видно, ходила ходуном, она пускала вниз каменные столбы и не совсем еще успокоилась, когда Лепель, схватив за руку принцессу, выбежал на волю, туда где зависли выше деревьев, ни на что не опираясь, оборванные в пустоту ступени.
Блуждающий дворец врастал в стены палаты, стены пробивались сквозь стены, обращаясь в нечто полуразрушенное и полувоздвигнутое, осыпалась штукатурка, падали каменные глыбы. Огонь распространялся по железным перилам лестницы наверх… Пожар! Толпы гостей и дворян давились в дверях, спасаясь от обвалов и от пожара. Но и снаружи все сотрясалось, заслоняя свет, теснились незаконченные, неясного замысла строения.
Устало сгорбившись, хранил угрюмое молчание чародей. В тусклом мятом лице его под нависающим венцом не видно было ни страха, ни сродного с восторгом возбуждения, которое вызывает зрелище бушующей стихии, — мрачные мысли одолевали Рукосила. Бояре и окольничие, ближние люди, едва ли не со слезами, на разные голоса уговаривали государя покинуть опасное место и поберечь себя для страны, для великого дела. Он нехотя прислушивался к докучливому лепету вельмож и наконец окликнул едулопов. Зеленые твари подхватили и понесли владыку к выходу, а меднобокие витязи с бронзовыми мечами в руках прокладывали путь в образовавшейся давке.
Лепель и Нута взбежали на десяток ступеней вверх, оказались на уровне крыши и вынуждены были остановиться — обломанная лестничная площадка парила над садом выше деревьев. Свежий ветер при солнечном небе в рваных, быстро текущих облаках, крутил и разбрасывал дым, валивший из окон палаты, из расселин. Боязно было ступить к обрыву, но и назад пути не было. Неверный клочок тверди под ногами, который представлял собой, по видимости, кусок пола будущей комнаты, продолжал расти, распространяясь в сторону сада, — вместе с ним, не делая ни шага, двигались беглецы. С высоты открывались взору раскиданные среди сада терема и палаты Попелян, затерянные среди зарослей дорожки. На лужайках, под деревьями, на ступеньках подъездов мельтешили люди: толпы разноцветных вельмож, дворян, витязей в блестящих доспехах, иноземцев, стража и челядь, полчища поваров в белых одеждах, поварят и служанок. И далеко внизу под Лепелем и Нутой колыхалась вскипающая земля, так что деревья ходили ходуном и выворачивались корнями.
Гладкая площадка, на которой, затаив дыхание, спасались беглецы, простиралась все дальше и начинала пускать отростки будущих стен, когда на дымной лестнице блеснул начищенным медным нагрудником дворянин Рукосила. Кашляя и отмахиваясь руками, он взбежал наверх, и тут перемычка между лестницей и простертым в пустоту без опоры мостом проломилась. Шорох и треск возвестили начало обвала, человек судорожно дернулся, чтобы удержаться, Лепель и Нута не успели и дернуться — неверный кусок тверди, что держал их на себе, завис, готовый обрушиться… В это растянутое, как жизнь, мгновение, узкая полоса ломаной стены свалилась, молнией ударила сверху донизу, в землю и удержала на себе оставленную на миг без подпоры площадку. И они остались живы — Нута, Лепель и кот — еще прежде, чем осознали меру грозившей опасности и радость спасения — ничего не успели они понять.
И уж совсем невозможно было постичь — самые основательные размышления едва ли бы прояснили вопрос! — как и почему маленькая принцесса оказалась в объятиях юноши, а кот вспрыгнул ему на плечо. Они отпрянули к обломку стены, который появился у края площадки, и тут, окончательно уж запутавшись в сильных своих ощущениях, юноша стиснул маленькую женщину еще крепче, а потом поцеловал в губы.
Так крепко, так долго, что даже совсем потерявшая голову принцесса принуждена была наконец заподозрить неладное. А кот, наскучив бездельным сидением на плече у юноши, соскочил на пол.
— Что это такое?! — задыхаясь, сказала Нута.
— Ты не знаешь? — удивился Лепель.
— Не-ет, — протянула Нута, застигнутая врасплох.
Чем и воспользовался Лепель, чтобы ознакомить с этим принцессу еще раз, поймав ее беспомощные губы.
Оставив занятых своими делами людей, Почтеннейший подошел к обрыву и стал смотреть вниз. Там происходило нечто занимательное: из поднятой дыбом, зыбучей земли поднимались зачатки стен, выводились окна, колонны, ступени подъездов и внутренних лестниц, колыхаясь, застывали лощеные полы наборных каменных плит и дубовых кирпичей.
Блуждающий дворец распространялся на сотни шагов в длину, и уже стало понятно, что это будет величественное и обширное сооружение, безусловно превосходящее своими размерами и богатством не только игрушечные терема загородной усадьбы, но и любое известное здание столицы. Прорастая сквозь усадебные палаты, блуждающий дворец крушил их, и все это жутко подвижное, шевелившееся месиво обнимал огонь. Завитые ветром языки пламени выбивались из-под щебня и ломаных балок. Дым над Попелянами тянулся к облакам, его можно было видеть из Толпеня и со всей округи. Желтыми воспаленными глазами Почтеннейший видел, как яркие искристые колобки с развалин шустро перебегали на постройки блуждающего дворца, распаляя железо и поджигая дерево, — далеко еще недостроенный дворец занялся огнем. Довольно, думал многострадальный кот — пора уносить лапы!
— Ну хватит… — Нута отвернула голову, что позволило ей собраться с мыслями, чтобы рассердиться.
Она вырвалась из объятий юноши и шагнула в пропасть.
Так что Лепелю ничего не оставалось, как ухватить молодую женщину поперек стана и поспешно привлечь к себе. Едва только в разросшихся стенах определилась дверь, за которой можно было приметить идущие вниз ступени, он увлек молодую женщину внутрь блуждающего дворца. А поскольку Нута, не понимая намерений странного молодого человека, упиралась, он подхватил ее на руки — что было совсем не трудно — и перешагнул порог.
То была роскошно отделанная резным мрамором винтовая лестница, и понятно, что у всякого на месте Нуты пошла бы кругом голова, когда Лепель побежал по узкой стороне ступеней, круто завинчиваясь вниз.
— Стой! Стой! Ой, стой, говорю! — задыхалась принцесса, судорожно обвивая юношу руками. А когда он остановился, сказала: — Пусти же!
— Вы уж как-нибудь устройтесь: или так, или эдак. Или на руках, или на ногах. — пробурчал не отстававший от парочки Почтеннейший. — Не слышите — гарью тянет?! Скорее! Что тут рассусоливать: пусти — не пусти?!
— Милый котик! — горячо откликнулся Лепель. — Мы обязаны тебе спасением! Всем, всем!
— Не скрою… обязаны, — смягчился Почтеннейший в явном желании именно как раз рассусоливать. — Я еще когда за окном сидел, вот, думаю, хорошо бы Рукосила-Могута обдурить. Чего же не обдурить, если подвернулся случай? Кстати, принцесса, верно ли говорят, будто вы хотите вернуться в Мессалонику, чтобы занять там прили… приличественное вашему сану положение?
— Ой! — слабо, в изнеможении махнула Нута рукой.
— Понимаю, — важно протянул Почтеннейший. — И вполне одобряю. Когда я увидел, что принцесса в опасности… натурально… все во мне возмутилось. Натурально, я решил пренебречь собой и немедленно это исполнил.
Тяжкий подземный гул, сотрясение стен заставили кота запнуться, но ненадолго.
— Натурально, пришлось в окно броситься, чтобы пренебречь собой…
Потолок дрогнул, ознобом прохватило ступени, и сверху выломилась, рухнула с жутким шорохом угловатая глыба. Разбила ступень чуть ниже места, где разглагольствовал кот, и покатилась, громыхая, куда-то вниз.
— Надо спешить! — сказал Лепель, перехватив еще один поцелуй, который Нута решила возвратить во избежание совершенно несвоевременных объяснений — она тоже понимала, что надо спешить.
Взявшись за руки, они осторожно обошли наваленные на ступени щебень и глыбы.
— Послушайте, добрый кот, — размягченным голосом молвила принцесса, незаметно для себя пожимая руку Лепеля (как она могла это заметить, если напрягала все силы, сколько их было, чтобы не рассусоливать?!), — послушайте, мы любим вас… мы так любим, любим… Чудесная шерстка… и хвостик… ушки… смышленая, милая, милая… мордашка… — Не нужно забывать, что они, все трое, продолжали спускаться по крутой лестнице, и поэтому принцесса запиналась.
— Не будем об этом говорить! — возразил Почтеннейший, когда принцесса замолчала в избытке чувств, на глазах ее проступили слезы, и она поглядела на юношу, смутно различая его прекрасные, благородные черты. — Я одобряю ваше волнение, принцесса. Природа слишком щедро меня наградила. Не в моих привычках хваста…
Почтеннейший в буквальном смысле слова прикусил язык, потому что новое сотрясение тверди заставило его испуганно сжаться, — глубокие трещины раскололи камень и покорежили ступени. Несколько мгновений все неподвижно стояли, ожидая и смерти, и жизни одновременно…
— Послушайте, милый котик, — дрожащим шепотком заговорила Нута, — не обижайтесь, только не обижайтесь… но вы чуть-чуть прихвастнули и приврали. Нельзя этого во дворце, нельзя. Никак.
— Ни слова больше! — вскричал Почтеннейший, напыжившись. Желтые глаза засверкали, и шерсть стала дыбом. Благородное негодование душило его. — Я, возможно, и дам согласие сопровождать вас в Мессалонику, но хотел бы сразу же объясниться: я никогда не лгу! Не имею такой привычки!
Ступени треснули и сорвались вниз, увлекая с собой в тартарары три обомлевшие души…
Это было величественное зрелище для тех, кто наблюдал чудовищные судороги дворца со стороны: просела и рухнула устремленная вверх множеством стрельчатых подпор башня. Тяжким стоном отдался в поднебесье грохот обвала, языки пламени объяли облако пыли, что поднялось над горой обломков. Огонь бушевал в обнаженных внутренностях дворца, который, однако, продолжал расти. Сильный порыв ветра отбрасывал дым, обнажая каменную резьбу, сквозные, похожие на серебряную скань ограждения гульбищ и выставленные в нишах изваяния. Дворец рождался в мучительной, казалось, не предрешенной еще заранее борьбе огня и камня.
Завораживающее столкновение стихий, смутные ожидания и соблазны удерживали людей в опасной близости. Порою пламя крутилось смерчем, катился тягучий оглушающий рев, так что закладывало уши. Какое-то восторженное легкомыслие удерживало людей в саду. Утверждали, между прочим, что настоящей опасности нет, пожар, захватив усадебные постройки и насаждения, не сможет распространиться за пределы обводного рва, наполненного водой, которым еще весною защитили усадьбу от искреней. Так что не поздно еще и отступить, это всегда можно.
Нигде не чувствовалось единой целенаправленной воли. Сотники кричали всем уходить за ров. Люди дворецкого гнали челядь спасать что можно из палат и хозяйственных построек усадьбы. На дорогах в беспорядке теснились кареты, кучера и ездовые бранились, пытаясь вывернуть в объезд через заросли. Противоречивые распоряжения мелких чинов не исполнялись.
Ничего не делалось и для того, чтобы оградить блуждающий дворец от своекорыстного любопытства иноземцев. В бездействии великий государь Рукосил-Могут расположился на плечах едулопов в высоком покойном кресле. Вокруг носилок собрались ближние бояре и окольничие. Особое место среди них занимал главный военачальник страны конюший Дермель, молодой человек лет тридцати пяти, весь в серебре и голубых бантах, курносое лицо его с тенью усиков над губой обращало внимание бесстрастным спокойствием хорошо владеющего собой и готового на все, то есть несклонного к бесплодным колебаниям человека. Кравчий Излач, выражая, вероятно, настроения более осмотрительных, пожилых и благоразумных вельмож, часто поглядывал на государя в надежде услышать такие речи, которые позволят всем, кто не рвется за славою, удалиться от опасности.
Но Рукосил молчал, угрюмо наблюдая судороги дворца, в которых чудились и боль, и ярость.
Опаленные жаром верхушки деревьев вблизи дворца уже горели, огонь медлительно распространялся против ветра, и даже там, где находился Рукосил — в конце широкой просеки за прудом, — ощущалось испепеляющее дыхание огненной бури.
— Великий государь! — решился обеспокоить Рукосила конюший Дермель. Он продолжал, встретив вопросительный взгляд: — Я полагаю необходимым поднять оба полка конных лучников, чтобы обеспечить в Попелянах порядок. И понадобится от трех до пяти тысяч человек посошной рати, горожане и мужики с дубинами. Нужно оцепить обводной ров, чтобы ни один искрень не прорвался к столице.
Государь рассеянно покивал, как старый человек, занятый больше привычными мыслями, чем собеседником, и заметил, указывая, что вполне понял предложение конюшего:
— Насчет посошной рати передайте земству мой приказ. И сейчас же возьмите людей, всех, кого найдете, для оцепления.
Конюший в сопровождении дворян удалился, а Лжевидохин опять уставился на огонь. В застылом взгляде его не было ничего, кроме мстительного удовлетворения и, пожалуй, усталости, той непобедимой усталости, которая так часто настигала оборотня среди трудов. Он уставился на пожар взглядом не способного ни к какому умственному усилию старика. Пожалуй, он испытывал изрядный соблазн вздремнуть. Под сонным взглядом Лжевидохина пылающие двери портала (внушительные ворота, в которые могли бы въехать четыре всадника в ряд) грохнули изнутри, тяжелый резной створ слетел с петель — из ревущего огнем чрева дворца ступил объятый пламенем человек. Дрогнули придворные, но и Рукосил затрепетал, схватившись за поручни. Острое ощущение опасности пробудило жизнь.
Огненный человек неуклюже спустился с лестницы на выгоревшую траву перед дворцом и двинулся краем просеки в направлении Рукосила. Высокое пламя, закрывавшее его с головой, опало, обращаясь в копоть и дым. Издали казалось, что человек вышел из огня нагишом, обожженный докрасна, до жара. Бояре переглядывались, не смея спрашивать у государя разъяснений. Рукосил же испытывал сильнейшее недоумение. И выжидал.
И он таки узнал — размеренную походку и скособоченную, сплющенную голову, на которой нечего было искать лица. Медный истукан Порывай! Истукан, после целого года бесцельных блужданий по Словании сгинувший в Межибожском дворце. Первый, вызванный неожиданностью испуг прошел — эту опасность Рукосил слишком хорошо знал. К тому же он вспомнил о Параконе: тот-то и служил приманкой для истукана. Неодолимый зов волшебного камня вызвал Порывая из огненной бездны. Если не просто, то убедительно.
Рукосил потер перстень и, не добившись от него ответа, беспокойно подвинулся в кресле.
— Осторожнее, обалдуи! — прохрипел он, усмиряя едулопов, которые с трудом выносили зрелище красного огня. Тем временем медный истукан ступил на каменное забрало пруда и, не сделав попытки искать обходных путей, с шипением ухнул в воду — взлетели окутанные паром брызги. Бурливые завихрения на поверхности указывали путь истукана по дну. Вода кипела, считай что на середине пруда, когда Рукосил поспешно обратился к Паракону, пытаясь остановить истукана. Он повторил приказ еще и еще раз, а скособоченная почернелая чушка, служившая истукану головой, уже вспучилась у ближнего берега в пятидесяти шагах от чародея.
Тогда только во внезапном, но запоздалом прозрении — вон когда! — Лжевидохин схватил перстень, чтобы избавиться от него как от источника опасности, бросить неверный Паракон под ноги истукану… И кольцо не сходило! Плотно засело оно на пальце и не поддавалось отчаянным, со скрежетом последних зубов усилиям. Бояре и дворяне пятились, не в силах совладать с собой при виде изуверских гримас хозяина. Меднобокие витязи, следуя распоряжению полковника, неуверенно и без охоты заступили было истукану дорогу.
— Назад! — сдавленно крикнул чародей, все еще пытаясь стащить предательское кольцо. Почерневший от огня болван оперся мокрыми руками и взлез на забрало пруда. — Назад, мерзавцы!
Едулопы шарахнулись, принимая «мерзавцев» на свой счет, но шарахнулись и бояре, дородные, осанистые мужи. Кинулись по кустам окольничие и поджарые дворяне — все приняли приказ за общее позволение спасаться. Витязи расступились, медный болван прошел сквозь ряды меднобоких тяжким шагом. Поджали хвосты и скулили государевы собаки.
Толпы дворян и витязей, простых ратников сопровождали истукана, как надоедливый рой мух быка, а тот, небрежно отмахиваясь от мечей и копий, поворачивал за носилками, куда бы ни бежал государь. Упрямый болван заметно отставал от едулопов, не умея перейти на бег, и все же в этой неспешной, неуклюжей и неумолимой погоне было нечто внушающее оторопь и ужас.
Вдруг общее смятение пронеслось по саду. Случайный порыв ветра или закрученный пожаром смерч бросили жар и гарь на людей, они ринулись к выходу — только что было рано и стало поздно: искры и раскаленные головни летели над верхушками деревьев.
Из четырех устроенных в ограде ворот остались для бегства двое — южные и западные. На востоке и севере, куда прежде сносило жар, все давно пылало. Отдаленные западные ворота при том же не всякий мог и найти в затянутых удушливой мглой зарослях. Так что, по сути, остался один путь — на юг, к главным воротам, куда вела просека.
Толпы бегущих, пошедшие вскачь упряжки, верховые продирались со всех сторон на широкую, убитую толченым щебнем дорогу — у тройных мраморных ворот с высоким висячим сводом тотчас же образовался затор. Застрявшие тут в два ряда упряжки не могли двигаться и держали пеших, которые давились меж лошадей и колес.
— Не выходите из кареты! — напрягал голос конюший Дермель. Верхом на лошади он пытался проложить путь в охвостьях толкучки, где застрял выезд государыни. Золотинка, теряя самообладание, то и дело выглядывала в окно, словно собиралась пустить в ход локти. Впереди, у самых ворот, кареты и повозки стояли, спутавшись упряжками, а пешие беглецы все ж таки кое как продвигались или казалось, что продвигались.
— Не выходите! — кричал конюший, оглядываясь, чтобы собрать людей для охраны великой государыни.
Тем временем едулопы Лжевидохина наткнулись на высокую ограду сада, повернули и прибавили ходу, перейдя на тряскую рысцу, отчего старый оборотень мотался в кресле, одной рукой удерживая на голове венец. Признаки подступающей слабости заставили его вспомнить о ремне, нарочно устроенном под поручнями кресла, чтобы пристегнуться на случай беспамятства. Уже сомлев, он успел нащупать пряжку и отдать едулопам последний приказ: напролом!
Зеленые твари взбодрились, как под ударом хлыста. Они наскочили на плотно сбитый затор, и без мгновения задержки передняя пара чудовищ полезла на людей, безжалостно попирая чьи-то плечи и головы, при этом волоча на себе перекошенные, прихваченные кое-как носилки.
Тяжелые, что раскормленные боровы, уроды карабкались по ревущей толпе, словно по зыбкой трясине, ежечасно проваливаясь. Люди, зверея, отвечали колотушками и тычками, при всякой возможности били, терзали шерстистые икры, жесткие ляжки, чего толстокожие твари и не замечали. Едулопы калечили людей, но и сами обдирали ноги о какие-то углы, об острые пряжки и граненые алмазы, зеленая сукровица мочила ссадины, мешаясь с красным. Беспомощный полуживой оборотень безбожно мотался в кресле, качаясь в ревущей толпе, как в бурных волнах.
Когда носилки колыхались уже над забитым людьми мостом, бронзовый истукан достиг ворот, где проломил застрявшую посреди проезда карету. Перешагнув заднюю ось, он вошел через стенку, сшиб с сиденья мессалонских послов — кто в окно прянул, кто корчился внутри, — потом провалился сквозь пол, который не мог выдержать его чудовищной тяжести. И продвигался уже по мостовой, волоча карету на себе, весь укрытый обломками. Не замедляя хода, истукан пихал при этом вперед всю спутанную восьмерку лошадей, и какую-то обломившуюся о столб ворот повозку, и вопящих от боли людей. Всю эту пробку живого и неживого, страдающего, исходящего и криком, и ржанием, и треском месива продавил он, не задержавшись, через мост. И если не настиг тут порядочно замешкавших едулопов, то лишь по той причине, что сам же толкал заодно и едулопов с носилками.
Зеленые твари, ухитрившись не уронить хозяина, вырвались на волю и побежали, прихрамывая, через поле — туда где низко осевшим облаком темнела кремлевская скала. Вдогонку за ними двигалась разбитая, потерявшая колесо карета — пока последние остатки кузова не разломились на истукане. Он продолжал шагать, не озаботившись смахнуть застрявшую на голове и на груди дребедень.
Страшная поступь истукана заставила людей опомниться, к тому же обнаружилось, что ветер опять переменился, очищая воздух, понес удушливую гарь в сторону, и непосредственная угроза отступила. Рассеянные у ворот толпы перестали напирать, конюший получил возможность распоряжаться. Обломки повозок и колымаг сбросили с моста, раненым помогли подняться, раздавленных оттащили, и стража принялась пропускать кареты, оттесняя простонародье.