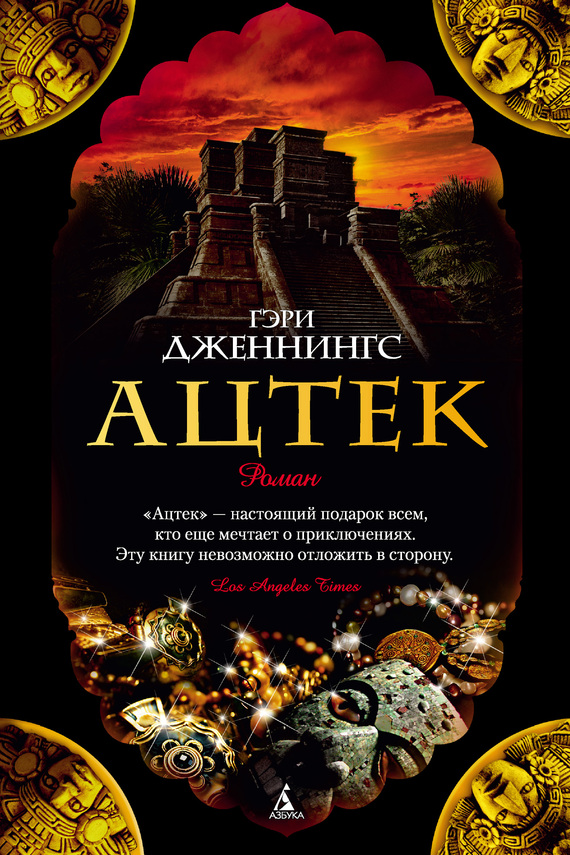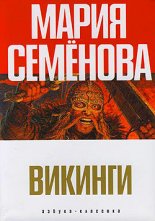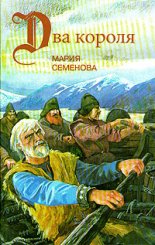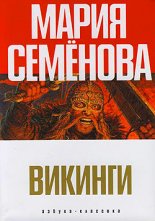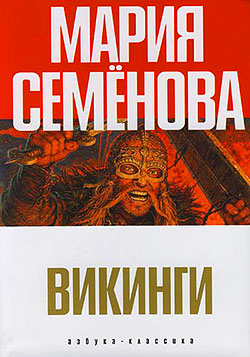Рождение волшебницы Маслюков Валентин

Когда золоченая колымага государыни прогромыхала через мост, ее встретил конюший Дермель. Утомленная пережитым, Лжезолотинка не нашла сил улыбнуться и только вопросительно посмотрела. В руках конюшего она увидела погнутый золотой венец в блестках алмазов.
— Вот, великий государь потерял на мосту. Большой государев венец, — сказал конюший, не выбирая слов. Этот мужиковатый вельможа в серебристом с бантами платье не блистал красноречием. — Возьмите.
— Очень любезно с вашей стороны, — вспыхнула государыня.
И тотчас водрузила венец на голову, подумав только о зеркале, — никакая другая мысль не успела взойти красавице на ум. Конюший невежливо хмыкнул и глянул в поле — десяток всадников скакали там вдогонку за носилками великого князя.
В то время как через высокие мраморные ворота из Попелян валил на волю угорелый люд, навстречу из столицы бежали на пожар заполошенные горожане. Загадочные рев и завывания охваченного огнем блуждающего дворца достигали Толпеня и будили самых беспечных.
Между тем никто еще не знал пределов развязанного бездомным котом бедствия. Не знал даже самый осведомленный в Словании человек Ананья. Начальник Приказа наружного наблюдения, беспокойно расхаживая в стенах конторы, не ведал, что на западных окраинах Словании его пернатые доносчицы уже засекли беду. Да только беда эта летела к слованской столице так стремительно, что и быстробегущая молва не умела опередить несчастье, а катилась следом.
Первыми заметили огонь в небе обитатели Меженного хребта. Забравшиеся к самому снегу охотники и пастухи на высокогорных лугах, задрав головы, провожали глазами дымный след в безоблачном небе. Вот огонь полетел, думал обстоятельный горец, к добру ли?
Два часа спустя дымный огонь в поднебесье видели монахи Святогорского монастыря — народ на сверхъестественное отзывчивый. Они тотчас ударили в колокол и поспешили на покаянную молитву.
Еще через два часа огненное нечто начало спускаться с заоблачных высей, и в окрестностях столицы тысячи людей признали змея.
То был объятый дымным пламенем Смок, древний морской змей, который давно уже не давал о себе знать. Засевшие на крышах Толпеня горожане различали мерно машущие крылья, откинутые назад ноги, большую голову на вытянутой струной шее и даже как будто почерневшую от огня чешую.
Распластавшись на ветру, змей круто спустился к пылающим Попелянам, где волшебный дворец превратился в высоченный костер. При виде змея все, кто еще обретался вокруг усадьбы, обратились в повальное бегство. Смок спустился с подветренной стороны в выжженный дотла сад и засвистел. До нутра пронизывающий, сбивающий людей с ног свист оборвал трубное гудение пламени.
Казалось, еще мгновение-другое — и поваленные по окрестным полям люди навсегда оглохнут от этого умопомрачительного свиста. Но, верно, и змей выдохся — он смолк. Сбитое было с дворца пламя снова взметнулось. Поворочавшись и набравшись духа, Смок снова сомкнул пасть щелью и изо всей мочи дунул — режущий и свирепо свистящий вихрь слизнул с дворца огонь и понес его над землей.
Потемнело. Сквозь сизую пелену пробивало по-зимнему тусклое солнце. Новый, после заметного перерыва, протяжный свист вызвал из сгустившихся туч снег. Чем сильнее надрывался змей, тем пуще нахлестывал дождь, рождаясь как будто бы над самой землей. Вперемешку с потоками холодного ливня летела снежная крупа, град, и все завертел, скрывая солнце, буран.
Не прошло и получаса, как белые сугробы погребли под собой грязь. В снегу стояли обугленными раскоряками деревья. По закоптелым, в потеках, стенам дворца сочилась тающая вода. Над Попелянами и окрест сеялся холодный осенний дождик, а двумя верстами дальше сияло летнее солнце.
Пахло мокрой золой и гарью, местами над развалинами блуждающего дворца из-под сугробов струился чахлый дымок, но открытый огонь нигде уж не мог пробиться.
Змей, деятельно скакавший по всему саду, чтобы гасить пожар с того и с другого бока, устало сник. Он опустился чешуйчатым брюхом в грязь и окутался паром — вода в лужах вокруг лап кипела. От змея исходил жар едва притушенной головни, неровное дыхание его обжигало, так что поблизости снова начинали тлеть, занимались бегущими язычками пламени ломаные стволы и ветви деревьев. Змей отворачивался от дворца, чтобы не поджечь его ненароком заново. И кое-кто из свидетелей утверждал потом, что раз или два Смок, измученно вздыхая, прикрывал пасть крылом — как воспитанный человек, который желает уберечь окружающих от своего нечистого дыхания.
Толстые лапы змея скользили, он пошатывался от утомления и бестолково топтался возле пожарища. Потом Смок повернул, натужно волоча по земле граненый хвост. Ограду он кое-как переступил, раздавил брюхом и поковылял дальше, чиркая по земле кончиками полураскрытых крыльев. Жаркое, больное его дыхание опаляло на сотню шагов вокруг, и трава загоралась под брюхом, когда он останавливался передохнуть.
Вольно или невольно Смок придерживался большой государевой дороги, которая неминуемо выводила его к столице.
Нельзя утверждать, что это был намеренный замысел — подвергнуть Толпень разорению. Когда деревенского вида избы, амбары, клети захрустели у змея под брюхом, он с усилием поднял голову, мутно всматриваясь во встающий за зелеными купами Невльского предместья город. И словно бы удивился. Как заплутавший пьяница, который нежданно-негаданно обнаружил перед собой препятствие. Большая уродливая голова его на жилистой шее укоризненно покачивалась. Он тупо разглядывал город, натужно кумекая, а потом побежал — тяжело и грузно затопал, сокрушая трехпалой лапой то дом, до яблоню. Распластанные крылья секли верхушки вязов и тополей, задевая крыши, взметали брызги черепицы и тучи соломенной трухи. Разрушенное предместье уже горело; зачарованные ужасом люди прятались по закуткам. Земля тряслась в такт частому топоту.
Хорошенько разбежавшись, змей сильно махнул крылами и полетел — так низко и тяжело, что кончики крыльев, прогибаясь при взмахах, цепляли печные трубы и шпили церквей. Бурный вихрь катился за летящим змеем, вздымая пыль, поднимая в небо развешенное на веревках белье и скручивая тонкие верхушки деревьев.
Полет, однако, не задался, Как ни силился Смок набрать высоту, старательно вытянув ноги вдоль туловища, скоро устал махать. Изнемогая, он выставил ноги вперед, откинул голову и ухнул с размаху подле соборной площади. Узкие, высокие, в четыре и в пять этажей, дома стояли здесь так тесно, что, развалив все наверху вдребезги, Смок не достал твердого основания под собой. Змей барахтался, проваливаясь еще глубже, когда попадал лапой на хлипкие перекрытия; при этом он бил крыльями, сокрушая кровли по сторонам. Сиплое дыхание его воспламеняло пересохшее дерево внутренних перегородок, разбитые лестницы и потолки, соломенные крыши, довольно обычные даже на лучших улицах столицы.
Змей упорно карабкался, сокрушая все своей бронированной грудью. Народ метался в бессильном отчаянии. Грохот обрушенных стен заставлял толпеничей разбегаться, мало кто помышлял об имуществе.
Вот когда следовало поднять свой державный меч великому слованскому государю Рукосилу-Могуту! Однако чародей медлил выступить на защиту подданных… Змей же продолжал двигаться, проламывая дорогу по густонаселенным и застроенным слободам города. Помогая себе крыльями, чтобы подняться из каменных трясин и осыпей, он прокладывал через город безобразный ров. Пылавшие повсеместно пожары нельзя было тушить из-за непроходимых завалов.
А змей, видно, и сам горел. Из последних сил проломившись на берег Белой, он с шипением плюхнулся в воду, затопив при этом десяток больших и малых кораблей у причалов. На середине реки вода покрыла змея выше хребта, тут можно было остановиться. Раскаленное нутро жаждало, в бурлении кипящей воды, змей основательно хлебнул и тотчас закашлял, поперхнувшись паром.
Часа два хлюпал и возился он в реке, отмякая, и не обращал ни малейшего внимания на пылающий сплошным заревом город. Столица горела, а Смок выбрался на правый берег Белой, где стояли жалкие хижины рыбаков, и потащился на закат солнца.
Надежда взлететь заставила его разбежаться, напрягая силы. Он растопырил крылья и помчался, тяжело топая, — десяток-другой верст по густо желтеющим полям, через дороги, тропинки и перелески; размашистые подскоки переходили в полет, снова змей начинал быстро-быстро перебирать ногами и летел над самой землей… чтобы грянуться наконец в овражистую ложбину. Здесь Смок остался на вспоротом дочерна поле.
Разбросав крылья, лежал он чудовищной мертвой грудой.
Книга шестая ЛЮБОВЬ
Пронзенная стрелой, Золотинка задохнулась со слабым вскриком. На коленях, придерживаясь рукой за хлипкую ветку, она осмотрела внутренним оком рану — кровь заливала легкое. Нужно было остановить кровотечение. Блуждающей рукой Золотинка нащупала Эфремон и качнулась, пытаясь охватить помыслом обжигающую рану. И нужно было помнить: убираться, скорее убираться. Цепляясь за куст, вся в огне, она поднялась и качнулась вперед — шаг, другой, только бы устоять на зыбкой земле. И еще она ступила, еще, понимая каждый шаг как последний… И однако, не находя опоры, удерживалась она от падения и раз за разом попадала ногой в землю, хотя казалось, что промахнется.
Убежище, логово — вот что нужно было для спасения. Нора, чтобы приткнуться… прикорнуть и лежать. В голове мутилось, и Золотинка млела. Помнить… пока еще можно хоть что-то помнить. Темная груда впереди была жильем. Колодец… Туда… Еще она заставляла себя помнить, что нужно сторониться людей… сторониться всех… нужно… нужно… сделать шаг… постоять, и еще шаг.
Неодолимая потребность опуститься, опереться на землю превозмогла. Она улеглась у корней раскидистой тучи, шумливая вершина которой заслоняла звезды.
Очнулась она перед утром, смутно сохраняя в памяти вереницу непреходящих пыток, которые составляли ночь. Повернувшись на жестких колдобинах, Золотинка догадалась, что лежит среди корней дерева. Стрелы в теле нет — кажется, она сама это сделала: сцепив зубы, тянула, выламывала толстое, что неструганый дрын, древко. Стрелы не было, но засевшая в теле дыра нестерпимо горела, и Золотинка, откинув голову, залитое потом лицо, напрягалась стянуть края слишком большой, свищущей огненным сквозняком раны…
Она ощущала то слабое, нерадующее возрождение, которое приходит после десяти дней тяжелой болезни на переломе к лучшему. Затянувшиеся раны в груди и в спине сочились при каждом движении гнилой сукровицей. Голова туманилась неподъемной истомой. Непонятно как надетая на голое тело куртка задубела спекшейся кровью. Сбитые комом штаны она нащупала под собой. Шапки и котомки нет. Потерялись и башмаки. Верно, оставила их еще там, на берегу рва, где ее подстрелили.
Светлеющее небо чуть проясняло сознание. Хотенчик! — вздрогнула Золотинка. Хотенчик Юлия в застегнутом кармане куртки. На месте. Со стоном, подпирая себя сетью, она приподнялась и села. Стояла тишь на исходе ночи. Безвременье.
Золотинка поняла, что мучительно хочет пить, жажда сушила и жгла нутро. Она зашевелилась, преодолевая деревянное онемение, и кое-как дотащилась до колодца, где нашла в окованном железом ведре остатки воды.
Узкое продолговатое дупло в теле толстого дуба — в корнях его Золотинка мыкала ночь — навело на мысль об убежище. Сеть, удесятеряя усилия, помогла вскарабкаться по ветвям — дупло начиналось на высоте в два человеческих роста. Бегло глянув в заполненное трухой логово, в несколько приемов, со стонами Золотинка перевалила внутрь и съежилась до размеров крошечного человечка в несколько ладоней ростом. Теперь, спугнув жуков, можно было вытянуться на рыхлом, проваленном к середине ложе.
Дни и ночи тянулись разъятым на части бредом, который походил местами на явь… на солнце, что-то ищущее лучами в гнилой деревянистой яме над головой… на крикливые голоса… на скрип телег… на фырканье лошадей… на неподвижность тьмы с лаем собак и топотом едулопов… Пила Золотинка по ночам, а днем страдала от жажды. Голода она не замечала, не умея сосредоточиться настолько, чтобы отличить томление желудка от прочих мучительных ощущений. Голодное истощение погружало ее в слабость, не давая прийти в себя и опомниться. Сознательное побуждение, усилие ума, а не чувство голода заставило ее вспомнить о еде.
Осторожно выглянув через нижний край дупла, крошечный пигалик-Золотинка оглядел заставленную возами с сеном площадь, где до вечера галдели мужики — это был сенной торг с кое-какими кабаками в пределах видимости и постоялым двором. Собираясь по домам, мужики снедали на возах.
Неподалеку под дубом, тоскливо, без надежды когда-нибудь обрести хозяина, глядела на праздник жизни бездомная собачка, смирная с виду и худая. Ее-то и высмотрела Золотинка. Усилив помыслы Эфремоном, она окликнула собаку. Обездоленная Жучка беспокойно пялилась на вершину дуба, не понимая, кто же хозяин.
Пришлось подрасти в размерах и высунуться из дупла. Собачка завиляла хвостом, а Золотинка тотчас же внушила ей мысль о воровстве. Верно, Жучка и прежде имела понятие о том, как воруют колбасу. Трудность состояла в том, чтобы отделить колбасу от неразрывно связанных с ней представлений о палке, камнях, о погоне всей улицей, о свисте и улюлюканье. Что делать, Золотинка отдавала себе отчет, что учит нового друга дурному.
— Колбаса! — негромко проговорила она из дупла, не полагаясь на одни только бессловесные внушения.
Доверчивая (да и сама голодная до одури) собака, естественно, должна была уступить человеку. Получив отпущение грехов, ободренная и ожившая, она убежала довольно прытко. Оставалось надеяться, что чему-чему, а осторожности учить воришку не нужно. И кому довериться, если не Жучке? Буян прислал перышко, извещая о бывшем в столице переполохе, который он правильно связывал с Золотинкой, и спрашивал, что случилось, нужна ли помощь? Еще одно почтовое перышко было заполнено новыми беспокойными вопросами, Буян писал, что и сам собирается спешным порядком в Толпень. Он не напрасно тревожился, да она не знала, как ответить, не имея ни чернил, ни бумаги, ни грифеля. Потеряв котомку, она лишилась множества нужных мелочей.
На том конце майдана, где питейные заведения и постоялый двор, в сумерках уже ничего нельзя было разглядеть, когда послышался гам: с большим куском сала в зубах стремглав промчалась мимо дуба, увлекая за собой погоню, Жучка. Немалое время спустя, когда крикливая брань затихла, собачка возвратилась к дубу. Стемнело уже настолько, что Золотинка решилась спуститься, чтобы поделить сало с добытчицей и отпустить ее восвояси.
На сале с прожилками мяса дело быстро пошло на лад. Золотинка поздоровела в одну ночь, и хотя раны ее являли собой пока что затянутые кожицей дырки, куда можно было вставить кончик мизинца, она задумывалась уже о вылазке.
Шли дни, и Золотинка чуяла, что теряет время, тогда как события вершат свой подспудный ход. Притом же невозможно было сказать наперед — к добру или к худу стремится рок событий. Она все более склонялась к похожей на прозрение догадке, что движение лет подошло к незримому рубежу, когда несильный толчок в определенном месте может вызвать обвальные потрясения, способные переменить жизнь страны и сказаться на всем мире.
Так бывает в жизни великих государств. Приходит время, и покой привычных установлений становится обманчивой видимостью, за которой скрывается уже нечто новое. Незыблемый порядок сменяется неустойчивым равновесием, на взгляд сторонний и невнимательный, мало чем отличным от того же порядка. Мир всколыхнется… от толчков почти случайных, непредугаданных и, однако, несущих в себе и смысл, и предопределение. События повернут так или повернут иначе, а этот таинственный миг, когда все смешалось и расстроилось, чтобы сложиться заново — он не повторится. Великая тайна бытия.
Золотинка лежала навзничь, раскинув ноги, а руки заложив за голову. Маленький человечек, такой крошечный, что тесное дупло представлялось ему пещерой, она обнимала мыслью весь мир… и, обнимая мир, сама росла, пробивая головой облака. В возвышенном просторе крепла и закалялась для свершений ее душа…
— Гляди-ка, братцы!.. Ведь полыхает! Ей-ей, полыхает! Чтоб меня перевернуло и хлопнуло! — с восторгом заголосил где-то под дубом не совсем трезвый как будто мужичок.
Золотинка очнулась и повела носом, полагая, что пожар где-то под боком.
— Бежим, что ли? — отозвался другой голос.
— Куда ты побежишь, дурень! То ж Попеляны, княжеская усадьба.
Так начался для нее роковой день, когда исполненный честолюбивых замыслов Почтеннейший Кот наложил свою шкодливую лапу на пиршество в Попелянах. Дупло Золотинки выходило в сторону города, и она различала повсеместно забравшихся на крыши зевак — они глазели на что-то невиданное.
Далеко за полдень на опустевшем торгу, да и по городу, надо думать, повсюду, прошелестело, как грозовое дыхание, зловещее слово «Смок»! Народ обратился к небу.
Золотинка сидела в дупле, пользуясь вроде бы некой призрачной безопасностью — отдельно от задерганного и задавленного потрясениями, сбитого с толку, обескураженного народа. Но и там, в своей норе, она ощущала оцепенение, которое проняло слованский народ, как одно живое, единое существо. Морской змей. Все слышали, все поминали, осеняя себя колесным знамением и суеверно озираясь, а вот — спустилось с неба на распластанных крыльях чудовище и обмерли. Как обухом по голове. Как в первый день творения, стоял народ, беспомощный и смятенный.
Толпень горел страшно, всю ночь полыхало зарево. Подавленные, растерзанные, и мокрые, и обожженные беглецы потерянно толпились со своими случайными пожитками на майдане, неведомо чего ожидая. На следующий день Золотинка услышала, что «столица-то выгорела, матушка, почитай вся». В это трудно было поверить, потому что в рассветном мареве тянулась серая гряда городских окраин, нисколько огнем не тронутая. Впору было окликнуть какого мужичка подобродушнее, из тех, что чесали потылицу да кряхтели «поди ж ты! гляди-ка!», и подвергнуть его допросу: что же произошло и куда подевался змей, после того, как проломился через город? И отчего никто не вспоминает больше блуждающий дворец? Стоит он или провалился? Где Рукосил? И как объяснить тот всеобщий разброд и безначалие, какое она наблюдала из своей норы?
Скоро Золотинка узнала это без всяких расспросов. Узнала и нечто такое, что повергло ее в смятение и заставило оставить убежище, не дожидаясь полного исцеления.
После полудня явился на майдан глашатай — рослый детина с барабаном, который воздвигнул себя в пустыне в неколебимой уверенности, что был бы глашатай, а народ найдется, и хорошенько прошелся палочками по звонкой, тугой барабанной шкуре. Потом, без удивления обнаружив вокруг себя кое-какой народец, взревел надсадным голосом:
— Великого государя и великого князя Слованского, Меженского, Тишпакского, Подольского, Амдоского, Полесского и иных земель обладателя Рукосила-Могута указ. А о чем, тому следуют статьи.
Несмотря на изрядное расстояние, которое отделяло Золотинку от понемногу густеющей толпы, рубленая речь глашатая различалась отчетливо.
— Первое, — неспешно гвоздил бирюч. — В лето 771 от воплощения господа нашего Рода Вседержителя месяца зарева во второй день случилось в нашем Слованском государстве по попущению божию, что отдаленную нашу державу почтил своим посещением блюститель вселенной, краса морей и навершие гор достославный змей Смок.
Второе. И оный вышереченный змей и доныне в наших скудных краях назначить себе местопребывание изволил. За что мы, великий государь, дорогого гостя нижайше благодарим; надеемся и впредь пользоваться благорасположением Красы Морей и Навершия Гор в наших низменных местах.
Третье. И мы, великий государь, повелеваем всему народу нашему от мала до велика принять оную радость со смирением.
Четвертое. И пусть всякий усердный подданный, кто ревнует о благе нашего государства, принесет часть от достатков своих к нынешнему обиталищу змея на правом берегу Белой у деревни Борзна под Толпенем и возложит сию добровольную лепту к стопам дорогого гостя с душевным умилением и трепетом.
Пятое. И мы, великий государь, извещаем и доводим до сведения народа нашего, что причиною сего нечаянного события, а равно как и многих других, не столь приятных для нашего сердца нечаянностей, явилось злоковарное умышление убогих душою и телом недомерков пигаликов, каковые пигалики возымели безумную надежду поссорить нас, великого государя, и народ наш с блюстителем вселенной Смоком. Для сей же недобросовестной цели измыслили некоторые волшебства, и чары, и кощуны, и заговоры, и привороты, и блазни, и обаяния. И те нечистые недомерки, коих великое множество по неисчерпаемому великодушию своему народ наш слованский в своей земле доднесь терпит, научили и подослали к нам, великому государю, на наш государев праздник кота, оборотня и чародея. И тот противоестественный кот явился пред наши светлые государевы очи с лживыми, лукавыми речами, чтобы нас, великого государя, погубить и народ наш слованский весь извести под корень. И для той непотребной надобности сказанный кот, оборотень, бездельник и чародей, принес нам, великому государю, некоторые обманные, блазные подарки, каковые подарки, как нам, великому государю, известно, изготовили и вручили ему злопрелестные пигалики. И от тех непотребных подарков многие бедствия в нашем богом хранимом государстве случились, а иных напастей мы, великий государь, опасаемся и по сию пору.
Шестое. И мы, великий государь, указали всех сущих котов в нашем богом хранимом государстве истребить поголовно без всякого снисхождения. И если кто из людей, какого чина ни будь, сего нашего указа ослушается и, своего домашнего кота жалеючи, от смерти его избавит, и сыщется про то своевольство допряма, и таким самовольщикам чинить жестокое наказание без всякого снисхождения же.
Седьмое. И мы, великий государь, от сего дня и впредь милости своей всех пигаликов изгоев, которые в нашем государстве пребывают и благоденствуют, лишаем, от покровительства нашего отрешаем, защиты им, пигаликам, ни в чем не даем. А буде кто из наших подданных пигалика обесчестит словом или делом, ударит, ранит или убьет, имущество его отнимет, осла со двора уведет, в дом его войдет и поселится, то мы, великий государь, в тех обидах никоторым пигаликам суда нашего не даем.
Восьмое. И буде кто из пигаликов пожелает нашим, великого государя, расположением и покровительством впредь пользоваться, то мы тем пигаликам повелеваем явиться в течение трех дней после объявления сего нашего указа к нашим государевым наместникам в столице и в городах: Телячий Брод, Летич, Верхотурье, Яблонов, Ручины Пруды, Бобрик, Речица, Любомль, Крулевец, Бестеней, Ахтырка, Колобжег и Сурож. А коли кто из пигаликов в указанный срок в указанных городах к нашим наместникам для записи и допроса не явится, и всех тех пигаликов ослушников повелеваем истребить по всему нашему государству без всякой пощады.
Дано в стольном городе Толпене месяца зарева в третий день лета 771 от воплощения господа нашего Рода.
Подлинный указ подписан собственной нашей рукой.
Рукосил-Могут, князь.
Множество сразу возникших вопросов растревожили Золотинку. Как ни верти, верь не верь, загадка Почтеннейшего по-прежнему стояла во всем своем первоначальном значении и только лишь усугубилась. Не разрешив этот вопрос, не разгадав и не распутав непостижимую цепочку Юлий — хотенчик — Почтеннейший — Рукосил (а где-то сбоку надобно было найти местечко и для Лжезолотинки!), вряд ли можно было говорить о проникновении в суть вещей, которое есть и цель, и средство всякого чего-нибудь стоящего волшебника. Не постигнув природу вещей, можно ли тягаться с могущественным Рукосилом? Впрочем, если Рукосил не врет, выходит, и он промахнулся? Кто кого тогда предал, обманул, ввел в соблазн, в искушение и довел до беды?
Весь день в крайней тревоге, досадуя на изнурительную тесноту дупла, Золотинка ожидала от Буяна письма. Но письма не было.
Странно, что все эти дни ей ни разу не пришло в голову испытать хотенчик Юлия. Сейчас же, когда она хватилась за рогульку, чтобы прикинуть, в какой стороне искать Почтеннейшего, не прячется ли он где-нибудь рядом с Рукосилом, к примеру, в Вышгороде, обнаружилось, что хотенчик врет. Он произвольно тыкался во все стороны и от легкого толчка начинал вращаться, то ли выбирая все направления сразу, то ли огулом их все отрицая. Очередная, не вызывающая даже особого удивления, а просто утомительная загадка.
Золотинка с вечера наметила себе на майдане кострище и верно рассчитала, что миродеры уйдут на промысел. Никем не замеченная, она беспрепятственно набрала в запас пепла и наскребла сажи, чтобы развести ее в воде вроде туши или чернил. Вместо бумаги пошел клочок белой тряпицы, видно, вырванный в драке клок рубахи. А кисть нетрудно было связать из собачьей шерсти, из хвоста Жучки то есть. На рассвете, едва посветлело, Золотинка написала письмо и тогда же, без промедления отправила Буяну.
По обычному расчету волшебное перышко летит двадцать-тридцать верст в час — в зависимости от ветра. Так что к вечеру вполне можно было бы надеяться на ответ, а то и раньше. Пришел исполненный беспокойного ожидания вечер… потом поздний вечер… померкло небо, обращаясь в ночь… Буян не откликался.
Это жестокое молчание нельзя было объяснить никакой известной Золотинке причиной.
Связь с пигаликами оборвалась. Теперь остался только Ламбас Матчин в доме лекаря Сисея на Колдомке.
Не имея больше сил ждать, томиться и ждать, она решилась искать его в ту же ночь.
Наверху, в средоточии власти, где отмеряли назначенные народу испытания, сочли, что одной беды будет достаточно: едулопов больше не выпускали по ночам. Город и посад гудели допоздна. По пригородным пустошам горели костры, где собирались таборами и погорельцы, и разбойники, и миродеры. Золотинка вышла на опустевшую дорогу, мост через ров еще не поднимали. Проем ворот освещало зарево скрытого за башней костра. Здесь покойно расположился десяток стражников, их бердыши стояли у стены, мечи и луки они держали под рукой, а на щитах сидели.
Кто-то из этих опаленных багрянцем, искаженных тенями людей неделю назад и подстрелил Золотинку. Теперь стражники лишь окинули босоного мальчишку и его собаку взглядом… не остановили. А выше над воротами, на торчавшем из каменной кладки бревне висело нечто неправдоподобно узкое и вытянутое… похожее на худой сверток маленькое тело. Всполохи костра лизали поникшие ступни. Повешенный был маленьким человечком, вроде пигалика. Скорее всего, это и был пигалик.
Золотинка с Жучкой пробирались путаными теснинами, а месяц выбежал на простор: открылась долина, вся в нагромождении холмов и глыб. Багряные отблески костров, разложенных между каменными осыпями, черными обрушенными стенами и трубами, обнажали уродство развалин.
Вынужденная плутать в поисках прохода, Золотинка окончательно потерялась. Под босыми ногами ее громыхали камни, на мягких, усеянных непрогоревшей дрянью пепелищах вздымались удушливые тучи. И всюду оживали неведомо где таившиеся жильцы. Они не стеснялись советами и угрозами, которые мало чем отличались друг от друга. Золотинка ежечасно спотыкалась и зашибла колено, оступившись в каком-то хламе.
— Осторожней, приятель! — отозвались внизу — там, куда покатился по осыпи щебень.
Слабый, в несколько щепок костер освещал семейный стан: мужчину, женщину и детей возле домашнего очага с кое-какой случайной утварью. Отец семейства словно бы невзначай положил руку на угловатый брус с железным навесом или крюком на обломанном конце. В естественной настороженности этих людей не было, однако, той слепой озлобленности, которая нападает из страха.
— Куда идти? Не знаю, куда здесь идти, — неопределенно сказала Золотинка. Никто не ответил, но она поняла, что можно спуститься.
Мужчина с темными от трехдневной щетины щеками беззастенчиво разглядывал грязного и оборванного мальчишку. Жена упредила мужа:
— А где ваш дом?
— Я из Колобжега, — уклончиво отвечала Золотинка. На лбу и на щеках ее различались мутные пятна сажи. Такие же, впрочем, как на лице молчаливой девочки рядом с женщиной: черные пятна окружали припухлый заячий ротик, словно девочка не только полакомилась углями, но и объелась ими.
— Дядя тут, на Колдомке, — мямлила Золотинка, — у лекаря, в доме лекаря.
— Ну, Колдомка выгорела вся! В обе стороны, — возразил мужчина, словно решая тем самым некий подспудный вопрос. — Хоть шаром покати!
Жена, должно быть, почувствовала перемену в настроении мужа и быстро сказала:
— Ты ел?
— Е-ел, — запнулся незваный гость.
Некто небольшенького роста, завернутый в рогожу, зашевелился, когда заговорили о еде, но сон не сумел осилить и опять сник, выбросив из-под покрова измазанную в саже ручонку.
— Что ты ел? — недоверчиво спросила женщина. Она приласкала приблудного мальчика особенным долгим взглядом, словно и прошлое, и будущее его проницала, — взгляд ее становился печален, изможденное тенями лицо казалось старым.
— Сало ел, — призналась Золотинка.
— Ну, сказки, — добродушно сказал мужчина, ухмыляясь. — Садись, малыш. Садись вот сюда, — он показал на тряпье рядом с девочкой.
А та робко спросила:
— Можно собачку погладить?
Жучка перевернулась на спину кверху лапами в исполненное бескрайнего доверия положение и поскуливала нежно и тоненько, словно выговаривая истомившие ее чувства. Золотинка, а затем и девочка щекотали голенькое брюшко. (И, сверх того, Жучке бросили потом кости!)
И конечно, под это умилительное согласие без запинки прошел коротенький, но складный рассказ, как Золотинка — мальчишка восьми лет — осиротел два месяца назад, и знакомый купец из Колобжега сжалился отвезти его в столицу к дяде. Вот. А теперь хоть плачь. И Жучка в Толпене была ничейная, и она так… хвостиком виляла, просилась — вот и не прогнал.
Отец слушал внимательно, уставив взор в землю, изредка только позволял он себе недолгий взгляд на мальчишку, а спросил одно:
— Так куда ты теперь?
— Мужики наши говорили, что государыня Золотинка. Вот бы ее сыскать, — отвечал пацаненок.
— Ну, государыня не прячется, — усмехнулся мужчина.
— Она ведь из Колобжега, — оживился сирота, как бы обрадованный поддержкой.
Простодушный замысел искать поддержки и помощи у великой государыни мог зародиться только в бедовой мальчишеской голове. Отец и мать многозначительно переглянулись, но соображений своих не высказали.
— Ну вот что, — решил глава семьи, — ночуй, коли хочешь, с нами. А утром уж, извини, покажем тебе дорогу.
Золотинка послушно кивнула — как ребенок, который не умеет сказать спасибо там, где это нужнее всего.
Когда она проснулась, было уже светло. Ночью шел дождь, все стало мокро, грязно и уныло.
— Где государыни дом? — спросила Золотинка, как только поймала на себе неулыбчивый взгляд женщины.
— Марушка проводит тебя к дому Чапли. Это городской дворец великой государыни, — отвечала женщина как о деле решенном. — Люди говорят, княгиня Золотинка сейчас в столице. Может, тебе и повезет сердце-то государыни тронуть. Сердце-то у нее есть… — Женщина кашлянула и натянула на плечи рогожу, от холода она подрагивала, но прочая мягкая рухлядь, что имелась в «доме», лежала грудой на крепко спящем, розовом от жары малыше.
Отец, надо думать, ушел на промысел. А есть было нечего. Поэтому Золотинка перетянула рубаху веревкой, кликнула Жучку, и они с девочкой, тоже голодной, полезли на каменную осыпь под одиноко стоящей, с дырами окон стеной.
— На, ешь, — сказала Марушка, когда они пробежали достаточно, чтобы согреться. В потной ладошке ее скомкался влажный ломоть хлеба.
— Нет! — живо откликнулась Золотинка. — Ешь сама. Меня там накормят.
— Где накормят?
— Во дворце у княгини.
— А-а! — сразу поверила девочка.
Никто не пытался остановить детей. Чумазая спутница и собака придавали видимость достоверности чистой воды оборотню, каким была Золотинка. Нужно было обладать особой изуверской проницательностью, нюхом ищейки, чтобы угадать в оборванном мальчишке «злопрелестного» пигалика, и обладать талантом большого волшебника сверх того, чтобы распознать в пигалике оборотня.
Целые толпы замурзанных мальчишек и девчонок, многие из которых еще не выплакали слез сиротства — их немытые рожицы хранили разводы, — целые толпы нищих толклись на соборной площади, ожидая милостыни у церквей. Марушка сказала, что государыня не велела разгонять нищих и теперь они слоняются прямо под окнами дворца. Вот он. Чаплинов дом.
Это было высокое, в четыре жилья и выше, темное строение дикого камня. Широкие красивые окна отмечали нынешнее назначение дворца, а узкие прорези бойниц по другим местам напоминали о военном прошлом. Острые игольчатые башенки и крутая крыша венчали это суровое, но величественное здание. У простого крыльца с двойной дверью живописной вольной ватагой стояла нарядная стража, человек десять.
— Вот бы тут жить! — вырвалось вдруг у Золотинки, и она встретила испуганный взгляд девочки, на славной мордашке ее под платочком округлились глаза:
— Здесь государыня живет! — и потом, без передышки, словно в омут бросилась, выпалила: — А почему вы пигалик?
— С чего ты взяла? — смутилась Золотинка.
— Мамка с папкой говорят. Слишком уж ловкий.
Золотинка оглянулась, потом нагнулась близко-близко, будто желая сообщить нечто доверительное, и, когда девочка поверила этому движению, быстро поцеловала ее в щеку.
— А давай Жучка останется у тебя?
Вопрос заставил Марушку вспомнить родителей и усомниться.
— А мне никак, — продолжала без промедления Золотинка. — Куда я ее? Пусть с тобой будет. Пока.
— Пока, — завороженно подтвердила девочка.
С Марушкой нетрудно было договориться, сложнее было внушить эту мысль Жучке, которая не верила ни в какие «пока, покудова, пока время терпит», а жила настоящим. Она поскуливала, тревожно заглядывая в глаза. Но что могла противопоставить рыжая, с куцым обрубком вместо хвоста дворняжка многообразным хитростям людей, которые и себя-то обманывали так ловко? Какими доводами могла бы она опровергнуть просительные объятия Марушки и коварные внушения волшебницы? Жучка ушла, неубежденная, она беспокойно и укоризненно оглядывалась, а Золотинка осталась одна. Не «пока» и до времени, а просто одна — без всяких смягчающих обстоятельств.
Может статься, иного способа-то для великих дел и нет, как все отбросить, от всего отрешиться, оставить жалостливые мысли о себе и действовать. Золотинка захолодела, в душе ее поселилась с долей какого-то отчаянного веселья лихость. Недаром говорят «отчаянный» — непостижимым образом замешаны в этом слове и отчаяние, и удаль, отчего и возникает в груди сладостный холод полета насмерть.
Всё, сказала себе она. И это был исчерпывающий ответ на множество неразрешенных и неразрешимых вопросов, которые опутывали ее волю. Всё, сказала она себе, и путы распались. И направилась к собору — к соборной церкви Рода Вседержителя, что в Толпене.
Не чувствовала она расположения оценить полукруглые окна собора, плоские крыши и восьмиярусную колокольню. Красоты устремленной под небеса башни меркли перед ошеломляющим зрелищем убожества и страданий, которое наблюдалось внизу: толпы нищих, калек и недужных занимали ступени паперти, теснились под стенами между полукруглыми приделами.
Вывернутые напоказ язвы, гнойные опухоли, багровые сыпи, немытые тела источали зловоние конюшни. Разнообразие представленных тут телесных увечий поставило бы в тупик творца-вседержителя, который, созидая мир, едва ли имел в виду все эти малоприглядные подробности. Слепые, выкатив бельма или, напротив, спрятав глаза и лицо под капюшоном, что заставляло предполагать нечто уже совсем невообразимое, искали подаяние шарящими руками. Калеки тянулись к щедрому богомольцу, изощряясь в невиданных способах передвижения; тут уж шли в ход и костыли, и подпорки, деревянные ноги и подставки-скамеечки для расслабленной голени, особые, вроде игрушечных козел, упоры для рук — обрубок ветки с сучками вместо ножек, которыми отталкивались, когда ползли, подтягивая ноги в деревянных лубках. Да и ползали-то они, копошились, как-то не прямо, а все боком, как-то по-рачьи, выставив вверх колено, или же подгребая ногой, как веслом, в то время как другая нога, целая с виду, торчала под немыслимым, плясовым углом в сторону. К тому же господство грубых рогожных накидок, рваных до бахромы плащей, мешковатых балахонов и просто мешков, изображающих хламиды пустынножителей, — все эти раскидистые покровы вместо одежды не позволяли по большей части пересчитать конечности убогого, приходилось принимать недостачу на веру.
— Подайте, правоверные, последние времена наступают! — то и дело раздавались внезапные и оттого пугающие, наводящие тоску вскрики. — Исчадие адово, змей, уж по наши души!.. И никогда таковых плачевных и горестно бедных случаев не дознавали на себе даже и до сего времени!.. Мукою вечною, пришествием судии… И воздать каждому по мере дел его… — тотчас подхватывали на другом конце паперти. Убогие голосили на все лады, оглушая и слух, и разум чехардой покалеченных, больных слов: — Грехи наши тяжкие!., разверзлась земля… древлему благочестию на разорение… и осквернятся пути его на всяко время… бесчестие и срамоту дворцы те показуют… неведущим людям на соблазн!., и конечная гибель… Не достает и понятия к исправлению столь неисправного народа… Подайте!
Подавленные злой правдой этих воплей, богомольцы подавали щедро и даже как-то испуганно. На глазах Золотинки несколько калек вырвали из трясущихся рук кудлатого купчика кошелек, в котором он никак не мог разобрать деньги, и, тотчас все высыпав, поделили — не без драки — между собой. Купчик же смиренно им поклонился и пошел.
Были возле собора оборванные дети. Но они держались особняком, на отшибе, словно боялись смешаться с толпой. Золотинка в болезненном прозрении сообразила… Беспризорные малыши стали первой и, может статься, главной жертвой вчерашнего погрома, направленного против пигаликов. Кто там разбирал в пьяной, разудалой толпе между пигаликами и детьми, если разобрать это трудно даже на трезвую голову! Пигаликов мало, их еще поискать нужно, а бездомной, безответной ребятни — хоть режь!
Золотинка не знала еще тогда, что весь вчерашний день столичные кабаки поили погромщиков за государев счет.
Она подсела к рослому, но тощему малому в выцветшей синей рубахе.
— Ты откуда? — спросил тот без враждебности к чужаку, наоборот, с тем непосредственным, безотчетным дружелюбием, которое рождает между незнакомыми общая беда.
— С Колдомки.
— Ясное дело! — по-взрослому, по-старчески вздохнул он.
Мало-помалу, лишь изредка вставляя слово, Золотинка вызнала множество бродивших по городу толков о начале пожара в Попелянах, о богатствах блуждающего дворца, о размерах змея от кончиков хвоста и до пасти, о коварстве котов и о милосердии великой княгини. Когда мальчишка затрагивал, как-то пугливо, вскользь, вчерашние погромы, в лице его что-то менялось и живое выражение исчезало. Таилось там, в памяти, почувствовала Золотинка, нечто такое, что крепко мальчишку зашибло. Зато он с горячностью откликнулся на имя слованской государыни.
— Да за нее хоть помереть! — выпалил он.
Великая слованская государыня Золотинка, как обнаружилось, имела среди босяков горячих почитателей и поклонников. Они поклонялись первой красавице государства, как божеству. Доброту ее и прочие обыденные достоинства хвалили безудержно, о красоте говорили в выражениях самых невероятных и преувеличенных, словно завравшиеся любовники.
— А я ее люблю, — уверяла маленькая, лет семи или восьми, на удивление худенькая девочка. Драное, слишком короткое даже для такой малышки платьице почти не прикрывало озябшее тело. Она дрожала, наверное, от холода и от возбуждения сразу. — Умереть бы — только платья коснуться!
— Оно пахнет! Платье у нее пахнет, — поспешил заявить кто-то из особенно осведомленных.
— Дурак! Пахнет у княгини платье! Ты даешь! Она моется мылом по три раза в день!
— Ты — дурак! Она пахнет сладко! И руки, и платье, и всё… Как цветы.
— Как ладан в церкви?
— Как сто ладанов!
Спор оборвался, когда подали к дворцовому подъезду карету. Из боковой улицы выехали под цокот копыт конные витязи, за ними потянулись вереницы запряженных парами лошадей — и вот выкатилась карета с высокой крышей. Зрители накапливались в опасливом отдалении от стражи, ближе к дворцу потянулись нищие и весь праздный люд с обширной, как поле, площади. Скоро образовалась порядочная толпа. Карету подали, но княгиня, может быть, еще и не встала. Прошло не меньше часа, когда вместо государыни на крыльцо вышел благообразный вельможа с кучерявой бородой.
— Не напирать! — воскликнул он, спустившись к толпе. — Осади, осади назад!
Вельможа нес обвислый кошель, который вызывал у нищей братии лихорадочное вожделение.
— Слава великой государыне! — раздавались выкрики. — Кормилица наша! Щит правоверных! Надежда наша!
Толпа сомкнулась вокруг посланца государыни. Тогда он набрал горсть мелкого серебра и швырнул от себя подальше. Нищие, побирушки и просто задорный, охочий до легкой добычи народ, устремились в давку — туда, где попадали монеты.
Двойные двери дворца раскрылись снова — перед склонившимися дворянами явилась слованская государыня. Она остановилась на верхней ступеньке, бросив вокруг скользящий, нигде не задержавшийся взгляд, прежде чем ступить на мостовую.
С противоестественным ощущением, в котором было нечто и от ревности, Золотинка опять увидела самое себя. Слованская красавица гляделась безупречно. Сверкающие волосы Зимки-Золотинки покрывала сдвинутая на лоб, затейливо подвязанная на затылке косынка тончайшего прозрачного шелка. То было единственное облачко, набросившее пасмурную тень на прекрасный и гордый лик. Пронзительный взор, линия чуть вздернутого носа, неспокойный рот… в этом лице было еще и нечто стремительное.
Зимка-Золотинка медлила садиться в карету, не обращая внимания на склонившихся у распахнутой дверцы гайдуков.
— Вот бы нас прокатила! — Золотинка поймала взглядом одного из босяков, который только что вырвался из толкучки и еще задыхался от возбуждения.
— Но, еще скажешь! — выдохнул тот с презрительным пренебрежением к такого рода пустопорожним разговорам.
— Попроси!
— Сам проси! Чокнулся?
— И спрошу, бояться не буду! — взвинчивала страсти Золотинка.
— Тьфу! — не поверил пацан и выругался, подвинув на голове большой, не по размеру овчинный треух.
А Зимка-Золотинка, убедившись, что общество, разобрав серебро, все целиком нахлынуло к рядам стражи, ступила на подножку кареты.
— Государыня, смилуйся — пожалуй! — вскричала Золотинка противным голосом попрошайки и кинулась напролом.
Чтобы перехватить мальчишку, витязь, прянув конем, мазнул его плеткой. Но Зимка-Золотинка уже узнала пигалика. А если и не узнала — себе не поверила — то вздрогнула в предчувствии той самой беды, которую и ожидала со дня на день.
— Тебе чего? — спросила она с затаенным испугом, понятным, наверное, только для Золотинки. Слово государыни придержало ретивых охранников.
— Прокати, государыня, вот чего! — вскричал тут, как бухнул, из толпы мальчишка в меховом треухе. Все так и обомлели.
— Государыня, краешек подола поцеловать! Позволь подола коснуться! — бухнулась на колени Золотинка.
Главное, она не осталась в одиночестве. Дети галдели все скопом. То есть мятеж этот, несомненно, подходил под статью Уложения «Скоп и заговор». Скоп, неупорядоченное скопление народа, имелся налицо, а заговор живо изобразят в застенке. Вдохновленная этим обязывающим соображением, стража готовилась хватать, чья-то грубая рука уже примерилась к Золотинкиному загривку, но государыня не замедлила.
Могла ли она промедлить, если на совести ее лежал Камарицкий лес, — и об знал пигалик.
— Вот как! Забавно! — сказала она с преувеличенным оживлением. — Это кто же тут хочет покататься со своей государыней? Кто тут у нас такой смелый? Ладно, смелого прокачу! — продолжала она, обращаясь к народу.
И тотчас же должна была остановить развязного парня из лавочников, который, крякнув и заломив шапку, ступил вперед. На широкой ряшке его застыла глуповатая, сама себе не доверяющая улыбка.
— За ребенка что ли себя считаешь? — недобро ухмыльнулась государыня. — Я детей потешить. Маленьких.
Теперь все притихли, включая и Золотинку, которая не вставала с колен, не делая, впрочем, попыток целовать Зимкин подол. Взбудораженная толпа, не вовсе еще разобравшись в своих чувствах, склонялась, по видимости, к умилению с изрядной долей опаски. Никто больше не отзывался на приглашение покататься. Надо сказать, что и сам зачинщик, пацан в меховом треухе, который своевременно поддержал Золотинку, впал к этому времени в малодушие и подался назад, а не вперед, оказавшись пред ликом государыни.
Ощущая себя не очень складно в тенетах всеобщей немоты, Зимка-Золотинка догадалась поймать за руку первую подвернувшуюся девчонку. К несчастью, одурела от испуга и девочка — опрятная малышка в передничке и с корзиной для покупок, — она уперлась, вся деревянная, и скривилась мордашкой, так что толпа зевак, стража в лентах, витязи в перьях и со знаменем, величественные гайдуки-великаны и ездовые, сенные девушки у кареты — весь честной народ ужаснулся, ожидая неминучего рева.
Лжезолотинка, скрывая происходившую из нетерпения злость, тянула паршивку за руку, а та, вцепившись в корзину, где кто-то шевелился под тряпкой, обомлела до бесчувствия, до невозможности зареветь… Но беда нагрянула с другой стороны.
Неподалеку в толпе семейство добропорядочных горожан лихорадочно выдавливало из своей среды подходящего по размерам добровольца, который тоже сопротивлялся. Папаша и мамаша шипели, не разжимая губ, а мальчишка — эдакий ангелочек в сапожках, — выкатив безумные от ужаса глаза, хватался за материн подол. Да не тут-то было! Улучив миг, отец удачно рванул малыша от материнский юбки и такой снабдил его на дорогу затрещиной, что ошеломленный ангелочек хлопнулся наземь и — натурально! — взвыл.
Золотинка же, неприметно трогая болезненный рубец через плечо, который оставила плеть витязя, подумывала, не пора ли вставать с колен. И хотя по всему выходило, что пора, не вставала, понимая, что окажется в пустоте: государыня, деятельно волочившая к карете упрямую паршивку с корзиной, в который беспокоился гусь, не замечала, однако, затеявшего сыр-бор мальчишку.
А где же затерялась та худенькая, с голодными глазами нищенка в драном платьице, что мечтала коснуться государынева подола? Тут она была, на виду. Помутившись от непосильных чувств, бедняжка так и обмерла, не смея ступить вперед, но страстно еще надеясь, что прекрасное божество ее бросит неблагодарную девчонку с гусем и обратит внимание на того… на того, кто замлел от горячего, непосильного чувства.
Между тем растревоженный тряской гусь, выпростал из мешка голову, поднявшись над корзиной, и в припадке мстительного отчаяния цапнул клювом, что пришлось. Лжезолотинка со вскриком отдернула украшенную неясной отметиной руку.
Этим и окончилась борьба.
Государыня, страдальчески изломив брови, поднесла было руку к губам, но удержалась от того, чтобы поцеловать самой себе «ваву», и бросила сиплым от переживаний голосом:
— Пойдем, девочка. Все-е-ех прокачу.
Смельчаков набралось немного: в карету набились Золотинка, понятное дело, и трое самых оборванных мальчишек, среди которых затесался сорванец в меховом треухе. Все четверо, с нескладными ужимками, потея от напряжения, затиснулись на переднее сиденье, а государыня раскинула свои юбки на заднем. Сенные девушки ее остались на мостовой.
— Трогай! — крикнула звенящим голосом государыня.
В толпе прокатилось жиденькое «ура!».
Государыня, нестерпимо прекрасная, откинулась на подушки сиденья, не пытаясь даже изображать гостеприимство. Хмурый взор ее брезгливо скользнул по лохмотьям, по грязным босым ступням, которые мальчишки поджимали, не зная, куда девать. Скромно пристроившийся пигалик заставил ее болезненно подернуться. Руки Зимки, сложенные на черной с белым узором юбке, не находили места, скованные и неловкие.
Обомлевшие пацаны, разумеется, не могли оценить близкое к припадку состояние государыни, принимая эти подергивания за обычные проявления величавости. Они тихонько шептали друг другу «лафа!» и понемногу смелели, сдержанно толкаясь локтями, отодвигали занавески на окнах и выглядывали в надежде, что кто-нибудь из уличной шантрапы остолбенеет на месте, признав в карете великой государыни знакомую рожу.
Золотинка же, вихрастый розовощекий малыш, не сводила с соперницы сурового взгляда. Недобрые мысли мучили Золотинку, побуждая к какой-нибудь дикой выходке, и нужно было зажмуриться, чтобы вспомнить, зачем она здесь, зачем искала свидания. Не время было для злобы, чувства, вообще говоря, и бесполезного, и вредного.
Не время… когда бы только можно было вместить, зачем это Юлька ее любил? Любил и любит — ее, а не меня. Это не новое соображение каждый раз поражало Золотинку своей полнейшей безысходной несуразностью.
— Ну что, соколики, покатались? — сказала вдруг Лжезолотинка, нехорошо усмехнувшись. — Вываливайте!
Она смахнула пацанов, как сор со стола, освобождая место для дела. Оборванцы, верно, думали, что так и нужно. Что этого требуют обычаи и установления великокняжеского двора — спрыгивать на ходу в знак особого смирения и признательности. Тем более, что карета катилась не слишком шибко — по улице, где сплошной толпой жались к стенам, освобождая проезд, прохожие. Удостоенные великой милости посыпались вон, прыгая в объятия изумленных кумушек. Последним, вопросительно оглянувшись на Золотинку, выскочил пацан в овчинном треухе, который мнил себя зачинщиком предприятия.
Два оборотня, две Золотинки, остались наедине лицом к лицу.
— Куда прикажите ехать? — с вызывающей язвительностью осведомилась Лжезолотинка.
— О, прошу вас, не меняйте из-за меня своих привычек! — кротко отозвался пигалик, задвигая между делом тяжелые парчовые занавеси.
— Да ведь время-то какое! — возразила Лжезолотинка, опять откинувшись на подушки, и отбросила волосы, отчего они явственно зашелестели и засверкали, точно заледеневшая, покрытая инеем трава под ветром. Руки за голову, грудь открыта — Лжезолотинка нарочито подставлялась, высокомерно пренебрегая чужой враждой.