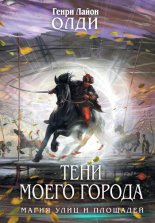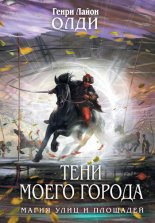Битва за Рим Маккалоу Колин
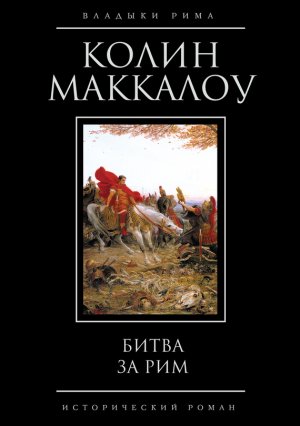
Его путешествие было обставлено по-царски. Наделенный проконсульским империем, он мог позволить себе роскошь ехать за двенадцатью ликторами в алых одеяниях, подпоясанными черными ремнями с медными пряжками, с топорами, поблескивавшими внутри связок прутьев. Восседая на белоснежной лошади, в посеребренных доспехах поверх пурпурной туники, Квинт Сервилий из семейства Авгуров, сам того не зная, вел себя как армянский царь Тигран: рядом с ним, как рядом с Тиграном, находился раб с зонтиком, защищавшим его от солнца. Попадись он на глаза Луцию Корнелию Сулле, тот живот надорвал бы от смеха. Потом Сулла выволок бы его из седла, благо лошадка под ним была низкорослая, дамская, и вывалял бы в пыли…
Каждый день Квинт Сервилий отправлял вперед отряд слуг, чтобы те готовили ему надлежащий прием на вилле у какого-нибудь местного магната или магистрата; позаботиться об удобствах для своих спутников ему и в голову не приходило. Кроме ликторов и многочисленных рабов, его сопровождали два десятка тяжеловооруженных конных стражников. Ради развлечения в этом неспешном путешествии он захватил с собой легата Фонтея, богатое ничтожество, недавно славы ради отдавшее свою семилетнюю дочь Фонтию (вместе со щедрым приданым) в коллегию дев-весталок.
По мнению Квинта Сервилия из семейства Авгуров, римские сенаторы подняли беспричинный шум, но жаловаться ему было не на что, ведь теперь он повидал в Италии столько, сколько не чаял, причем путешествуя со всеми мыслимыми удобствами. Всюду, где он появлялся, в его честь устраивали праздники и пиршества; его походная казна не оскудевала благодаря щедрости принимающей стороны, а также устрашающей мощи его проконсульского империя; из всего этого следовало, что свой преторский год он завершит с приятно раздувшейся за государственный счет мошной.
Древний Соляной тракт был ключом к процветанию Рима еще в доцарские времена, когда латинские воины-купцы просыпали здесь соль, добытую в залежах Остии. С тех пор Соляная дорога утратила былое значение и неуклонно приходила в негодность: государство не тратилось на ее поддержание, в чем Квинт Сервилий не замедлил убедиться вскоре после отъезда из Фирма-Пиценского. Сносные участки чередовались с размытыми, конские копыта скользили, что ни шаг, на выпиравших булыжниках. В довершение зол въезд в следующий значительный город на пути процессии, Аскул Пиценский, оказался перегорожен оползнем. На расчистку дороги ушло полтора дня, проведенных Квинтом Сервилием в обстановке вопиющего дискомфорта.
Весь путь на запад шел в гору, ибо сразу за узкой прибрежной полосой начинались высокие Апеннины. Тем не менее расположенный вдали от моря Аскул-Пиценский был самым крупным и важным городом всего Южного Пицена, окруженным каменными стенами внушительной высоты, перекликавшимися с окрестными горными вершинами. Поблизости текла река Труентин, превратившаяся в это время года в цепочку луж, однако сообразительные горожане давно научились извлекать воду из галечного слоя под речным дном.
Отправленный вперед авангард из слуг не бездействовал, в чем Квинт Сервилий убедился, добравшись наконец до главных городских ворот, где его встречала небольшая группа явно процветающих торговцев, сплошь в тогах римских граждан, изъяснявшихся не на греческом, а на латыни.
Квинт Сервилий слез со своей белоснежной лошадки, перекинул полу пурпурной тоги через левое плечо и изготовился с благодушной снисходительностью внимать приветствиям.
– Это ведь не римская и не латинская колония? – осведомился он неопределенно, поскольку в таких вещах познания римского претора, разъезжающего по Италии, оставляли желать лучшего.
– Нет, Квинт Сервилий, но здесь проживает около сотни римских граждан, – отвечал глава депутации, носивший имя Публий Фабриций.
– Где же тогда предводители пиценов? – сердито осведомился Квинт Сервилий. – Я ждал, что меня встретят местные жители.
– Пицены уже не одни месяц избегают нас, римлян, – стал оправдываться Фабриций. – Не знаю почему! Похоже, они питают к нам недобрые чувства. Нынче у местных празднества в честь Пикуса.
– Пикус? – удивился Квинт Сервилий. – Это дятел, что ли?
За разговором они прошли в ворота и оказались на небольшой площади, убранной гирляндами осенних цветов и усыпанной лепестками роз и мелкими ромашками.
– Для пиценов Пикус – подобие Марса, – стал объяснять Фабриций. – По их верованиям, он был царем Старой Италии, приведшим пиценов с их родных сабинских земель, что за горами, в нынешний Пицен. Здесь Пикус превратился в дятла и обозначил им границы, выстучав в деревьях дупла.
– Надо же! – бросил Квинт Сервилий, утратив интерес к рассказу.
Фабриций привел Квинта Сервилия и его легата Фонтея в собственный роскошный особняк в самой высокой точке города. Он даже позаботился об удобном размещении неподалеку ликторов и стражи, а рабов отправил на постой к своим рабам. От всех этих стараний ему угодить, особенно при виде отведенных покоев, у Квинта Сервилия резко поднялось настроение.
День выдался жаркий, солнце стояло еще высоко; приняв ванну, оба римлянина присоединились к радушному хозяину в лоджии, откуда открывался вид на город, его внушительные стены и еще более внушительные горы вокруг; римлянину о таком виде из окон городского жилища приходилось только мечтать.
– Если пожелаешь, Квинт Сервилий, – заговорил Фабриций при появлении гостей, – сегодня мы можем отправиться в театр. Там будут играть «Вакхид» Плавта.
– Звучит заманчиво, – молвил Квинт Сервилий, опускаясь в мягкое кресло в тени. – Я не был в театре с тех пор, как покинул Рим. – Он глубоко вздохнул. – У вас всюду цветы, но на улицах ни души. Все из-за праздника в честь дятла?
– Нет. – Фабриций нахмурился. – Дело скорее в новой политике италиков. Пятьдесят детей из Аскула, только италики, сегодня рано утром были отосланы в Сульмон. Вместо них Аскул ожидает пятьдесят детей из Сульмона.
– Невероятно! Похоже на обмен заложниками, – проговорил Квинт Сервилий, которого это нимало не насторожило. – Неужто пицены собрались воевать с марруцинами?
– До меня не доходило слухов о войне, – ответил Фабриций.
– То, что они отправили пятьдесят детей из Аскула в город марруцинов и ждут у себя пятьдесят марруцинских детей, определенно указывает на непростые отношения между пиценами и марруцинами, если не сказать больше. – Квинт Сервилий хихикнул. – Разве не чудесно будет, если они сцепятся? Тогда они и думать забудут о нашем гражданстве, верно? – Он пригубил вино и удивленно вскинул голову. – Мой дорогой Публий Фабриций! Вино охлаждено?!
– Ты приятно удивлен? – спросил Фабриций, радуясь, что сумел произвести впечатление на римского претора, носителя древнего и славного патрицианского имени Сервилий. – Каждый второй день я отправляю своих людей в горы за снегом, и мне все лето и всю осень хватает снега, чтобы охлаждать вино.
– Восхитительно! – одобрил Квинт Сервилий, развалившись в кресле. – Каков род твоих занятий? – спросил он вдруг.
– У меня эксклюзивный контракт с большинством местных садовников, – стал объяснять Публий Фабриций. – Я скупаю весь их урожай яблок, груш и айвы. Лучшее отправляю прямо в Рим, где фрукты продаются свежими. Остальное перерабатываю в джем на своем маленьком предприятии. Джем тоже идет в Рим. У меня также контракт на нут.
– Прекрасно!
– Да, и должен сказать, дела идут неплохо, – продолжил похваляться Фабриций. – Видишь ли, стоит италикам увидеть, что человек с римским гражданством начинает жить лучше, чем они, как они принимаются ворчать о монополиях, о несправедливых условиях торговли и обо всем прочем, о чем обыкновенно болтают бездельники. Все дело в том, что они не хотят работать, а у тех, кто хочет, маловато мозгов. Не будь нас, все их фрукты и прочее просто сгнили бы! Я пришел в эту холодную тоскливую дыру не для того, чтобы украсть их дело, а чтобы создать собственное! Когда я начинал, они не могли на меня нахвалиться, так были благодарны. А теперь для любого италика в Аскуле-Пиценском я – persona non grata. То же самое говорят все мои здешние друзья-римляне, Квинт Сервилий.
– Эту историю я слышу от Сатурнии до Аримина, – изрек претор, присланный разобраться с «италийским вопросом».
Когда солнце прошло уже треть пути по западной части неба и жара благодаря прохладному ветру с гор стала спадать, Публий Фабриций и его высокий гость направились в театр – временную деревянную пристройку к городской стене, защищавшую зрителей от солнца, которое все еще заливало сцену, где предстояло разворачиваться действию. Собралось уже тысяч пять пиценов, которых не пускали в первые два ряда полукруглого театра, отведенные для римлян.
Фабриций успел договориться о возведении в центре первого ряда помоста с навесом, где хватило места для курульного кресла Квинта Сервилия, кресла для его легата Фонтея и третьего кресла для самого Фабриция. То, что это сооружение загораживало сцену сидевшим непосредственно за ним, ничуть его не заботило. Его гостем был римский претор с проконсульским империем, а это было куда важнее, чем удобства каких-то италиков.
Троица знатных зрителей проникла в театр по тоннелю под кавеей и появилась примерно в дюжине рядов от помоста, в проходе, ведшем к орхестре – пустому полукругу между рядами и сценой. Впереди шествовали ликторы с фасциями, в которых поблескивали топоры, за ними выступали претор с легатом, рядом с ними семенил Фабриций. Замыкали шествие стражи. Жена Фабриция, которую еще не знакомили с римскими гостями, сидела с подругами справа от помоста, на один ряд дальше; первый ряд был отведен только для римских граждан.
При появлении процессии по рядам пиценов пробежал ропот, зрители подались вперед и вытянули шеи, желая разглядеть шествующих про проходу. Ропот перерос в рокот, в рык, в вой, перемежаемый улюлюканьем и свистом. Изумленный и обескураженный этим враждебным приемом, Квинт Сервилий из семейства Авгуров, задрав нос, взошел на помост и царственно воссел на своем курульном кресле, словно монарх. За ним на помост поднялись Фонтей и Фабриций. Ликторы и стражники заняли места в первом ряду по бокам от помоста, зажав голыми коленями свои фасции и копья.
Началась пьеса – одна из лучших, самых смешных у Плавта, сопровождаемая сладкозвучной музыкой. Состав исполнителей из странствующей труппы был смешанным: здесь были и римляне, и латиняне, и италийцы, но не греки, так как труппа играла только латинские комедии. Каждый год выступали они на празднике Пикуса в Аскуле-Пиценском, но на этот раз здесь царили новые антиримские настроения. Актеры принялись играть с удвоенным рвением, всеми средствами стараясь усилить комический эффект в надежде, что к концу представления сумеют развеселить пиценов, пришедших в театр в угрюмом настроении.
К несчастью, среди труппы тоже произошел раскол. Двое римлян из их числа беззастенчиво развлекали троицу на помосте, латиняне же и италики сосредоточились на жителях Аскула. После пролога стала разворачиваться интрига, главные действующие лица обменялись потешными репликами, красивая парочка запела дуэтом под аккомпанемент флейты. Потом зазвучала первая кантика знаменитого тенора, сопровождавшаяся звуками лиры. Певец, италиец из Самния, прославившийся не только голосом, но и умением импровизировать на злободневные темы, вышел на край сцены и запел, обращаясь непосредственно к зрителям на почетном помосте:
- Привет тебе, о римский претор,
- Привет – и брысь, ты зря приехал:
- На нашем празднике, вестимо,
- Мы презираем роскошь Рима.
- Напрасно ты свой взор незрячий
- Под веками брезгливо прячешь:
- Не уследишь, как сын Аскула
- Свернет тебе с размаху скулу!
- А после наши горожане
- Спесивца без порток оставят.
- Чем выше трон твой водружен,
- Тем неустойчивее он,
- Тем злей пинок, тем гаже тина,
- Где суждено издохнуть Риму!
На этом импровизация прервалась: один из стражников Квинта Сервилия, не вставая, метнул в него копье, которое до этого сжимал коленями, и самнитский тенор упал замертво, пронзенный насквозь, с застывшим на лице выражением безграничного презрения.
Зал притих. Пицены не могли поверить в происшедшее, никто не знал, как поступить. Пока все сидели в оцепенении, актер-латинянин Саунион, любимец зрителей, лихорадочно зачастил из дальнего угла сцены, в то время как четверо его товарищей уносили мертвое тело; двое актеров-римлян куда-то подевались.
– Любезные пицены! – тараторил он, по-обезьяньи цепляясь за колонну и делая вид, что хочет на нее влезть; маска висела у него на руке. – Молю, не смешивайте меня с этими людьми! – Он указал на помост с римлянами. – Я простой латинянин, я тоже мучаюсь оттого, что по спине нашей ненаглядной Италии гуляют взад-вперед фасции, я тоже возмущен поступками этих заносчивых римских хищников!
При этих его словах Квинт Сервилий встал со своего курульного кресла, сошел с помоста, пересек орхестру и поднялся на сцену.
– Если ты не хочешь, чтобы и тебе проткнули грудь копьем, паяц, убирайся отсюда! – обратился он к Сауниону. – Никогда в жизни я еще не подвергался таким оскорблениям! Ваше счастье, италийское отребье, что я не приказываю своим людям перебить вас всех!
Он повернулся к залу, где акустика была так хороша, что слова, произнесенные обычным голосом, были отлично слышны в самых верхних рядах.
– Я не забуду сказанного здесь, – сказал он. – Римскому auctoritas нанесено смертельное оскорбление. Вы, червяки, копошащиеся в своей куче италийского дерьма, дорого заплатите за это, обещаю!
Дальше события разворачивались с такой скоростью, что никто потом не мог восстановить и объяснить их ход. Все пять тысяч пиценов в зале навалились одной ревущей, молотящей кулаками толпой на римлян в двух первых рядах. Из пустого только что полукруга орхестры на стражников, ликторов и римских граждан в тогах обрушились тысячи ударов. Не поднялось ни одно копье, не взмахнул ни один топор, прятавшийся до того среди прутьев фасций, не покинул ножен ни один меч. Стражников, ликторов, мужчин в тогах и их разодетых жен буквально разорвали на части. Театр утонул в крови, куски тел летали, как мячи, из края в край орхестры. Толпа ревела, визжала, рычала от радости и ненависти, превращая сорок пришлых римлян и двести римских торговцев и их жен в бездыханное кровоточащее мясо. Фонтей и Фабриций погибли в числе первых.
Не уцелел и Квинт Сервилий из семейства Авгуров. Толпа выплеснулась на сцену, прежде чем он сообразил ее покинуть, и с садистическим наслаждением оторвала ему уши, открутила нос, выдавила глаза, поотрывала все пальцы, чтобы потом содрать с них кольца, после чего под оглушительные вопли схватила за ноги, за руки и за голову и с легкостью порвала на шесть частей.
Когда все было кончено, пицены Аскула пустились в дикий пляс, потом собрали куски тел убитых римлян в высокую кучу на форуме, а тех римлян, которые не были в театре, таскали за волосы по улицам, пока они не испустили дух. К наступлению темноты в Аскуле не осталось в живых ни одного римского гражданина и даже ни одного родственника римских граждан. Город задраил свои тяжелые ворота и принялся обсуждать, как теперь запастись продовольствием и как выживать. Никто не жалел о вспышке безумия; в людях прорвался огромный назревший нарыв ненависти, и теперь они наслаждаясь своим неистовством, клялись никогда больше не покоряться Риму.
Через четыре дня после событий в Аскуле-Пиценском известие о них достигло Рима. Двое актеров-римлян, удравших со сцены, сумели спрятаться и, дрожа от ужаса, наблюдали из укрытия чудовищную расправу в театре, а потом улизнули из города, прежде чем захлопнулись его ворота. Четыре дня добирались они до Рима: то брели пешком, то упрашивали пустить их в запряженную мулами повозку или подсадить на коня, но боялись при этом вымолвить хотя бы словечко об Аскуле, пока не оказались в безопасности. Будучи актерами, они сумели описать увиденное так красочно, что весь Рим содрогнулся от такого небывалого ужаса. Сенат объявил траур по своему погибшему претору, а девы-весталки принесли жертву в память о Фонтее, отце своей новой малолетней товарки.
Если какое-то обстоятельство при этом и можно было назвать удачным, то разве что уже состоявшиеся выборы, благодаря которым сенат избежал опасности борений с Филиппом. Новыми консулами стали Луций Юлий Цезарь и Публий Рутилий Луп; известный своей порядочностью – Цезарь – по денежным соображениям оказался привязан к тщеславной, зато богатой посредственности – Лупу. В этом году снова было избрано восемь преторов, среди которых, как всегда, были патриции и плебеи, толковые и бестолковые. Курульным эдилом стал косоглазый младший брат консула Луция Юлия Цезаря Цезарь Страбон. Среди квесторов оказался не кто иной, как Квинт Серторий, обладатель заслуженного в Испании венка из трав, открывшего ему путь к любой должности. Гай Марий, двоюродный брат его матери, уже добился для Сертория сенаторского ценза, и после избрания новой пары цензоров ему было обеспечено место в сенате. С судопроизводством он был мало знаком, зато обладал прославленным для столь молодого человека именем, а также магической притягательностью для простонародья, отличавшей и Гая Мария.
В группу народных трибунов, весьма достойных, затесалось одно зловещее имя – Квинт Варий Север Гибрида Сукрон. Его носитель поклялся, что, как только новая коллегия вступит в должность, он постарается, чтобы все, кто поддерживал предоставление италикам гражданства, снизу доверху, поплатились за свою опрометчивость. Известие о бойне в Аскуле-Пиценском пришлось для Вария как нельзя кстати; еще не приступив к своим обязанностям, он без устали сновал между всадниками и завсегдатаями Форума, заручаясь поддержкой для своей программы возмездия в народном собрании. Сенат, уставший от бесконечных упреков Филиппа и Цепиона, не мог дождаться, когда истечет их год.
Вскоре после страшного известия из Аскула-Пиценского в Рим нагрянула депутация из двадцати италийских аристократов, присланная из новой столицы Италики, но ни словом не обмолвившаяся ни об Италике, ни об Италии; она всего лишь просила принять их в сенате, чтобы обсудить возможность предоставления римского гражданства всем живущим южнее – и не Арна и Рубикона, а реки Пад в Италийской Галлии! Новая граница была придумана словно специально для того, чтобы прогневить весь Рим, от сената до простонародья. Выходило, что вожди новой страны, Италии, жаждали уже не уравнивания в правах, а войны.
Запершись с депутацией в сенакуле – небольшом строении по соседству с храмом Согласия, принцепс сената Марк Эмилий Скавр попытался сладить с этим вопиющим бесстыдством. Верный сторонник Друза, Скавр после гибели трибуна не видел возможности и дальше настаивать на предоставлении римских прав италийцам: он не был самоубийцей.
– Передайте вашим предводителям, что не может быть никаких переговоров до полного возмещения содеянного в Аскуле, – высокомерно молвил Скавр. – В сенате вас не примут.
– Происшествие в Аскуле-Пиценском – всего лишь свидетельство того, насколько решительно настроена Италия, – возразил глава депутации, марс Публий Веттий Скатон. – Требовать чего-либо от Аскула не в нашей власти. Решение будут принимать пицены.
– Решение примет Рим! – отрезал Скавр.
– Мы еще раз просим сенат принять нас, – сказал Скатон.
– В сенате вас не примут, – твердо повторил Скавр.
После этого все двадцать человек вышли, причем ни один, как заметил Скавр, не выглядел удрученным. Скатон, выходивший последним, сунул Скавру свернутый в трубочку документ:
– Прошу от имени народа марсов принять это, Марк Эмилий.
Скавр не разворачивал документ, пока не вернулся домой. Там он получил его назад от писца, в тревоге расправил (он успел о нем забыть) и с растущим недоумением принялся разбирать написанное.
На рассвете он спешно созвал заседание сената, на которое явились далеко не все; Филипп и Цепион, как водится, остались дома. Зато присутствовал Секст Цезарь, а также новоизбранные консулы и преторы, все завершавшие полномочия народные трибуны и все новые, за бросавшимся в глаза исключением Вария. Пришли и консуляры; проведя подсчет, Секст Цезарь с облегчением убедился в наличии кворума.
– У меня в руках, – начал принцепс сената Скавр, – документ, подписанный тремя марсами: Квинтом Поппедием Силоном, называющим себя консулом, Публием Веттием Скатоном, называющим себя претором, и Луцием Фравком, называющим себя советником. Зачитываю:
Сенату и народу Рима. Мы, избранные представители народа марсов, заявляем от имени народа об отказе от наших союзнических обязательств по отношению к Риму. Мы более не станем платить Риму налогов, десятины, пошлин и сборов, которые могут от нас потребовать. Мы более не будем поставлять Риму войска. Мы забираем у Рима город Альбу-Фуценцию со всеми его землям. Просим считать это объявлением войны.
Сенат загудел; Гай Марий протянул руку, и Скавр передал ему документ. Свиток медленно переходил из рук в руки, пока все присутствующие не убедились в его подлинности и недвусмысленности.
– Выходит, мы вынуждены воевать, – заключил Марий.
– С марсами?! – воскликнул великий понтифик Агенобарб. – В разговоре со мной за Коллинскими воротами Силон предупреждал о назревающей войне, но в одиночку марсы не в силах нас одолеть! У них не хватит людей, чтобы воевать с Римом. Двумя легионами, которые он тогда привел, исчерпываются их силы.
– Действительно странно, – согласился Скавр.
– Если только к ним не присоединятся другие италийские племена, – сказал Секст Цезарь.
Но в это не мог поверить никто, включая Мария. Заседание завершилось, сенаторы так и не пришли ни к какому заключению, не считая решения внимательно следить за италиками, хотя об отправке к ним новой пары преторов не могло быть и речи! Сервий Сульпиций Гальба, претор, изучавший «италийский вопрос» южнее Рима, сообщил письмом, что уже повернул назад. После его возвращения, решил сенат, самое время будет определиться с дальнейшими действиями. Война с италиками? Возможно, но не сейчас.
– Знаю, при жизни Марка Ливия я искренне верил, что война с италиками на пороге, – сказал Марий Скавру после заседания, – но теперь, когда его не стало, я полон сомнений и не перестаю спрашивать себя, ни на это ли он рассчитывал. Честно говоря, не знаю! Неужели вызов нам бросают только марсы? Как будто так. С другой стороны, я никогда не считал Квинта Поппедия Силона болваном.
– Полностью согласен с тобой, Гай Марий, – закивал Скавр. – О, почему я не прочел эту бумагу, пока Скатон оставался в Риме? Чую нутром, боги играют с нами.
В это время года в сенаторских умах не оставалось места для того, что происходило за пределами Рима, даже для самых серьезных и требующих обдумывания событий; никто не хотел принимать решения в момент, когда завершался срок полномочий прежней пары консулов, а новая пара нащупывала возможности приобрести союзников в сенате.
Таким образом, весь декабрь сенат и Форум были заняты внутренними делами; даже самые ерундовые события, происходившие непосредственно в Риме, способны были отвлечь от объявленной марсами войны. К такой ерунде относилось, к примеру, опустевшее после гибели Марка Ливия Друза жреческое место. Даже по прошествии стольких лет великий понтифик Агенобарб помнил, что место, отданное Друзу, должно было принадлежать ему; поэтому он спешно предложил кандидатуру своего старшего сына Гнея, недавно обручившегося со старшей из дочерей патриция Луция Корнелия Цинны, Корнелией Цинной. На это место в жреческой коллегии претендовать мог только плебей, поскольку Друз был плебеем. Список кандидатов включал самых прославленных представителей плебейских родов. В него входил Метел Пий Свиненок, еще один обиженный – ведь место его отца отошло по итогам голосования Гаю Аврелию Котте. Но в последний момент принцепс сената Скавр всех удивил, назвав имя патриция – Мамерка Эмилия Лепида Ливиана, брата Друза.
– Это незаконно по двум причинам! – вскинулся великий понтифик Агенобарб. – Во-первых, он патриций. Во-вторых, он Эмилий, а у нас уже есть один понтифик из Эмилиев – это ты.
– Ерунда! – отрезал Скавр. – Я выдвигаю его не как усыновленного Эмилия, а как родного брата погибшего жреца. Он – Ливий Друз, и я утверждаю, что его имя может быть внесено в список.
Коллегия понтификов приняла решение, что в создавшейся ситуации Мамерка правомерно считать Ливием Друзом, и добавила его в список кандидатов. Вскоре выяснилось, насколько избирателям полюбился Друз: Мамерк победил во всех семнадцати трибах и стал жрецом вместо своего брата.
Гораздо серьезнее – так, по крайне мере, тогда казалось – были действия Квинта Вария Севера Гибриды Сукрона. Когда в десятый день декабря вступила в свои права новая коллегия народных трибунов, Квинт Варий тут же внес законопроект об обвинении в измене любого, кто поддерживал предоставление гражданских прав италийцам. Все девять его коллег спешно наложили вето даже на обсуждение такого закона. Но Варий, беря пример с Сатурнина, пригласил в комиций толпу наемных головорезов, которая угрозами принудила остальную коллегию отозвать вето. Угрозами он добился и другой цели – заставил замолчать оппозицию, так что в начале нового года был учрежден особый суд по делам о государственной измене, прозванный всем Римом комиссией Вария, уполномоченный судить только сторонников предоставления гражданства италийцам. При этом полномочия суда были настолько размыты, что обвинение могло быть предъявлено любому; коллегия присяжных состояла исключительно из всадников.
– Он будет использовать этот суд для преследования своих личных врагов, а также врагов Филиппа и Цепиона, – предрекал принцепс сената Скавр, не делавший из своего мнения тайны. – Вот увидите! Это самый позорный закон в нашей истории!
Варий не замедлил доказать правоту Скавра, наметив свою первую жертву – несгибаемого ультраконсерватора Луция Аврелия Котту, бывшего претором пятью годами раньше, сводного брата Аврелии с отцовской стороны, никогда не принадлежавшего к ярым сторонникам предоставления прав италикам. Котта перешел на эту позицию вместе со многими в сенате в дни упорной борьбы, которую вел там Друз; в основе этой перемены во мнении Котты лежала его неприязнь к Филиппу и к Цепиону. Еще более серьезной его ошибкой стало полное игнорирование Квинта Вария.
Старейший Котта в своем роду, он прекрасно подходил на роль первой жертвы комиссии Вария: он стоял ниже консуляров, но выше сенатских pedarii, заднескамеечников без права голоса. В случае обвинительного приговора суд Вария превратился бы в инструмент террора для сената. Первый же день разбирательств ясно продемонстрировал Луцию Котте ожидавшую его участь: коллегия присяжных состояла из ненавистников сената, а председатель суда, могущественнейший всадник-плутократ Тит Помпоний, почти не обращал внимания на протесты защиты.
– Мой отец не прав, – сказал молодой Тит Помпоний, стоявший в толпе, собравшейся поглазеть на дела комиссии Вария.
Собеседником его был другой член малочисленной группы судейских помощников Сцеволы Авгура – Марк Туллий Цицерон; будучи младше Тита Помпония на четыре года, он превосходил его умом – если не здравомыслием – на все сорок лет.
– В каком смысле? – осведомился Цицерон, прибившийся к молодому Титу Помпонию после смерти Суллы-младшего. Эта трагедия стала первой в жизни Цицерона; даже теперь, по прошествии многих месяцев, он горевал по умершему другу, которого ему очень не хватало.
– Уж больно он рвется в сенат, – стал мрачно объяснять Тит Помпоний. – Это желание ест его поедом, Марк Туллий! Все, что он делает, направлено на то, чтобы пролезть в сенат. Потому он и проглотил наживку, услужливо подсунутую Квинтом Варием, – стать председателем этого суда. Конечно, отмена законов Марка Ливия Друза лишила его верного места в сенате, поэтому Квинту Варию удалось его в это втравить. Ему обещали, что если он сделает все, как ему скажут, то пройдет в сенат, как только будут избраны новые цензоры.
– Но твой отец – деловой человек, – возразил Цицерон. – Когда он станет сенатором, ему придется свернуть все свои дела, оставшись только землевладельцем.
– Не беспокойся, свернет! – с горечью сказал молодой Тит Помпоний. – У него есть я, мне еще нет двадцати лет, а на моих плечах уже лежит большая часть работы в компании. Честно говоря, я почти не слышу слов признательности! Ему, видишь ли, стыдно заниматься делом!
– Так в чем же тогда твой отец не прав? – не унимался Цицерон.
– Да во всем, тупица! – вспылил молодой Тит. – Ему хочется в сенат! И напрасно! Он – всадник, один из самых влиятельных римских всадников! Не вижу ничего дурного в том, чтобы принадлежать к десятку влиятельнейших эквитов Рима. Он владеет государственным конем, которого передаст мне, все спрашивают у него совета, он обладает большой властью в комиции, консультирует казначеев. Чего ему еще? Нет, ему понадобилось в сенат! Стать одним из болванов в задних рядах, которому даже слова взять нельзя, не говоря о том, чтобы произнести яркую речь!
– Иными словами, он карьерист, – подытожил Цицерон. – Что ж, не вижу в этом ничего дурного. Я сам такой.
– Мой отец и так на самом верху! И по происхождению, и по богатству. На протяжении многих поколений Помпонии состоят в родстве с Цецилиями из ветви Пилия; выше – только патриции. – От рождения принадлежа к всаднической аристократии, молодой Тит не сознавал, как больно ранят собеседника его слова. – Твой карьеризм, Марк Туллий, я еще понимаю. Попав в сенат, ты будешь «новым человеком», а став консулом, пополнишь ряды нобилей. Значит, тебе следует обхаживать всех знаменитых людей, каких только сможешь, плебеев и патрициев. Мой отец – другое дело: для него стать сенатором pedarius – шаг назад.
– Место в сенате не может быть шагом назад! – повысил голос Цицерон. В последние дни речи молодого Тита стали особенно ядовитыми. До Цицерона дошло: сообщая, что он родом из Арпина, он сразу навлекал на себя поношение, которому подвергался даже самый видный из арпинцев, сам Гай Марий. Раз Гай Марий был италиком, не разумевшим по-гречески, то кем мг быть Марк Туллий Цицерон, если не более образованным вариантом Гая Мария? Туллии Цицероны никогда особенно не жаловали Мариев, пускай представители двух родов и сочетались порой узами брака. Однако, лишь очутившись в Риме, Марк Туллий Цицерон проникся к своему земляку настоящим презрением, как и к месту его и своего рождения.
– Короче говоря, – молвил молодой Тит Помпоний, – когда я стану paterfamilias, то буду довольствоваться долей всадника. Пусть хоть оба цензора упадут передо мной на колени, их мольбы будут тщетны! Клянусь тебе, Марк Туллий, я никогда, никогда, никогда не буду сидеть в сенате!
Тем временем отчаяние Луция Котты росло на глазах. Поэтому никто не удивился, когда при возобновлении заседания комиссии на следующий день стало известно, что Луций Аврелий Котта предпочел удалиться в добровольное изгнание, а не ждать неизбежного вердикта CONDEMNO. Это позволяло собрать большую часть имущества и ценностей и увезти их с собой; если бы он дождался приговора, то все это конфисковали бы по решению суда и последующая ссылка оказалась бы куда тяжелее из-за нехватки средств.
Время для обналичивания активов было неудачное, потому что в отличие от сената, отказывавшегося верить в очевидное, и от комициев, отвлекаемых Квинтом Варием, деловые люди чуяли неладное и принимали соответствующие меры. Деньги припрятывались, ценные бумаги дешевели, мелкие компании проводили срочные собрания. Производители и импортеры предметов роскоши обсуждали вероятность принятия законов о резком сокращении расходов в случае войны и продумывали переход на потребную для войны продукцию.
Однако не происходило ничего такого, что могло бы уверить сенат в серьезности намерений марсов: никто не сообщал о наступающих армиях, о военных приготовлениях каких-либо италийских племен. Беспокоило лишь одно: Сервий Сульпиций Гальба, претор, отправленный на юг полуострова, никак не возвращался. От него до сих пор не было вестей.
Деятельность комиссии Вария тем временем приобрела размах. Был осужден и приговорен к изгнанию и конфискации имущества Луций Кальпурний Бестия; та же судьба постигла Луция Меммия, отправленного на остров Делос. В середине января к суду был привлечен Антоний Оратор, но он произнес такую блестящую речь в свою защиту и сорвал такие дружные рукоплескания завсегдатаев Форума, что присяжные из осторожности вынесли оправдательный вердикт. Обозленный этим малодушием, Квинт Варий нанес мощный удар: следующим в государственной измене был обвинен сам принцепс сената Марк Эмилий Скавр.
Скавр явился на суд в гордом одиночестве, облаченный в toga praetexta и буквально лучась dignitas и auctoritas. Он бесстрастно выслушал обвинение Квинта Вария (тот неизменно сам выступал обвинителем), зачитавшего длинный список преступлений подсудимого. Когда Варий наконец умолк, Скавр фыркнул и повернулся не к присяжным, а к толпе.
– Слышали, квириты? – прогрохотал он. – Выскочка из испанского Сукрона смеет обвинять Скавра, принцепса сената, в измене! Скавр отвергает обвинения! Кому вы верите?
– Скавру! Скавру! Скавру! – грянула толпа. Ей стали вторить присяжные; в конце концов они вскочили с мест, подняли торжествующего Скавра и на руках пронесли его по всему Нижнему форуму.
– Вот болван! – сказал потом Скавру Марий. – Неужели он и впрямь решил, что может осудить тебя за измену? Неужели всадники питали такую надежду?
– После того как им удалось осудить беднягу Публия Рутилия, они решили, наверное, что могут разделаться с кем угодно, – сказал Скавр, поправляя тогу после триумфального марша по Форуму на плечах побежденных.
– Кампанию против знаменитых консуляров Варию следовало бы начать с меня, а не с тебя, – сказал Марий. – Уже в оправдании Марка Антония им нужно было уловить тревожный сигнал. Теперь им показали, что к чему. Полагаю, Варий сделает перерыв на несколько недель, а потом снова примется за свое, только его жертвы будут уже не столь высокопоставленными. Бестия не в счет, он известный хищник. Бедному Луцию Котте не хватило поддержки. Аврелии Котты, конечно, могущественны, но недолюбливают Луция, им больше по душе сыновья его дяди Марка Котты и Рутилии. – Марий помолчал, то высоко приподнимая, то хмуря брови. – Главный недостаток Вария – в том, что он не римлянин. Ты римлянин, я тоже, а он нет. Но он этого не понимает.
Скавр не проглотил наживку.
– Филипп и Цепион тоже не понимают, – презрительно бросил он.
Месяца, отведенного Силоном и Мутилом на мобилизацию, хватило с лихвой. Тем не менее по его окончании, ни одна из италийских армий не двинулась на Рим. Причин тому было две. Одну Мутил понимал, но вторая доводила его до отчаяния. Переговоры с вождями Этрурии и Умбрии продвигались со скоростью улитки, а в военном и большом совете никто не хотел обнажать меча, пока не прояснятся их результаты; с этим Мутил был готов согласиться. Но очевидным было и непостижимое нежелание выступить первыми – причиной которого была не трусость, а вековое, впитанное с молоком матери благоговение перед Римом; оно доводило Мутила до белого каления.
– Дождемся, пока Рим сделает первый шаг, – предлагал на военном совете Силон.
– Дождемся, пока Рим сделает первый шаг, – вторил ему на большом совете Луций Фравк.
Узнав, что марсы передали сенату документ об объявлении войны, Мутил разгневался, полагая, что Рим сразу проведет мобилизацию. Но Силон оставался тверд.
– Так было нужно, – настаивал он. – Существуют военные законы, а наряду с ними – общечеловеческие. Теперь Рим не может сказать, что его не предупреждали.
Что бы ни говорил и что бы ни делал после этого Мутил, другие италийские вожди оставались верны своему решению: пусть войну начинает Рим.
– Если бы мы выступили прямо сейчас, они бы не устояли! – надрывался Мутил на военном совете; его помощник Гай Требаций твердил то же самое на большом совете.
– Как же вы не видите, что чем больше времени мы даем Риму на подготовку, тем меньше наши шансы на победу! То, что никто в Риме нас не замечает, – величайшее преимущество! Мы обязаны выступить! Завтра же! Промедление равносильно поражению!
Но все остальные, кроме самнита Мария Эгнация, заседавшего вместе с Мутилом в военном совете, лишь важно качали головами; даже Силон не соглашался с Мутилом, хотя видел в его предложениях логику.
– Это было бы неправильно, – слышали в ответ самниты, как ни напирали.
Бойня в Аскуле-Пиценском тоже не произвела должного впечатления; Гай Видацилий из Пицена отказывался отправить в город гарнизон, который защитил бы жителей от римской расправы. Римляне обычно тянут с ответными действиями, утверждал он, а то и вовсе от них отказываются.
– Мы должны выступить! – гнул свое Мутил. – Все крестьяне твердят, что зима будет мягкая, поэтому откладывать выступление до весны нет смысла! Выступаем!
Но выступать никто не хотел, поэтому все стояли на месте.
Так обстояли дела, когда среди самнитов возникли первые признаки бунта. Случившееся в Аскуле ни одна сторона бунтом не сочла; решили, что город исчерпал свое терпение и нанес ответный удар. Но тут самопроизвольно вскипело огромное самнитское население Кампании, перемешанное в сложных пропорциях с римлянами и латинянами, в котором поколениями зрело недовольство.
Первые известия об этом доставил в Рим Сервий Сульпиций Гальба, наконец-то вернувшийся в феврале месяце, потрепанный и без охраны. Новый старший консул Луций Юлий Цезарь немедленно собрал сенат.
– Шесть недель меня держали в плену в Ноле, – сообщил Гальба притихшему сенату. – Прибыв туда, я едва успел отправить вам сообщение, что возвращаюсь домой. Сначала у меня не было намерения заглядывать в Нолу, но раз я оказался поблизости от этого города с большим самнитским населением, то в последний момент решил туда свернуть. Я остановился у одной старушки, лучшей подруги моей матери – разумеется, римлянки. Она рассказала мне о странных событиях в Ноле: внезапно там прекратили всякие дела с римлянами и латинянами, перестали продавать им даже еду! Ее слугам пришлось ездить за покупками в Ацерр. Когда я пересекал город со своими ликторами и стражей, нам вслед непрерывно улюлюкали и свистели, но разглядеть беснующихся было невозможно.
У Гальбы был удрученный вид: он понимал, что привез плохие вести.
– В ночь после моего прибытия в Нолу самниты заперли городские ворота и полностью завладели городом. Всех римлян и латинян пленили в их домах. Мои ликторы, стража, секретари тоже оказались взаперти. Меня заперли в доме хозяйки, поставив у входных дверей и у задних ворот самнитский караул. Там я и томился, пока три дня назад хозяйка не сумела отвлечь внимание караульных, чтобы дать мне возможность сбежать. Переодетый самнитским купцом, я выскользнул из городских ворот, пока за мной не началась охота.
Скавр наклонился вперед:
– Видел ты кого-нибудь из начальства, пока находился в плену, Сервий Сульпиций?
– Никого, – ответил Гальба. – Я переговаривался с караульными у дверей, вот и все.
– Что они говорили?
– Только что самниты взбунтовались, Марк Эмилий. У меня не было способа убедиться, правда ли это, поэтому после бегства я целый день прятался, лишь только видел издали кого-нибудь, похожего на самнита. Когда я добрался до Капуи, то узнал, что, по крайней мере, в той части Кампании о бунте никто не слыхивал. О событиях в Ноле вообще никто не знал! Днем самниты Нолы держали ворота распахнутыми и делали вид, что все в порядке. Поэтому в Капуе мой рассказ всех удивил. И встревожил, добавлю я! Дуумвиры Капуи просили меня отправить им инструкции сената.
– Тебя кормили, пока ты сидел взаперти? А что твоя хозяйка? Ей удавалось делать покупки в Ацеррах? – поинтересовался Скавр.
– Еды было в обрез. Хозяйке разрешали покупать продукты в Ноле, но лишь ограниченное количество и по страшно завышенным ценам. Латинян и римлян из города не выпускали, – объяснил Гальба.
На сей раз сенат был полон. Если, учредив свою комиссию, Варий чего-то и добился, то сплочения сенаторских рядов и повышения интереса к любому событию, достаточно драматичному, чтобы затмить его делишки.
– Можно мне взять слово? – спросил Гай Марий.
– Если не желают говорить те, кто старше тебя, – холодно молвил младший консул Публий Рутилий Луп, держатель фасций в феврале и не сторонник Мария.
Желающих говорить раньше Мария не нашлось.
– Раз Нола удерживает римских и латинских граждан и лишает их самого необходимого, то она, без сомнения, взбунтовалась против Рима. Задумайтесь: в июне прошлого года сенат отправил двоих своих преторов изучить то, что наш уважаемый консуляр Квинт Лутаций назвал «италийским вопросом». Около трех месяцев назад в Аскуле-Пиценском был убит претор Квинт Сервилий, а вместе с ним – все римские граждане в городе. Около двух месяцев назад в Ноле был схвачен и пленен претор Сервий Сульпиций, а вместе с ним – все римские граждане в городе.
Два претора – один на севере, другой на юге – и два ужасных события на севере и на юге. Вся Италия, вплоть до самых ее глухих углов, знает и понимает значение и важность римского претора. Тем не менее, отцы-законодатели, в одном случае произошло убийство, в другом – длительное пленение. То, что пленение Сервия Сульпиция не завершилось трагедией, объясняется тем, что ему удалось бежать. Для меня очевидно, что в ином случае его тоже ждала бы смерть. Два римских претора, да еще с проконсульским империем, подверглись нападению, причем нападавшие определенно не боялись возмездия! О чем это говорит? Ответ один, коллеги-сенаторы. Это говорит о том, что Аскул и Нола осмелели, ибо знали, что возмездие им не грозит! Иными словами, и Аскул, и Нола ждут, что до того, как Рим нанесет ответный удар, между Римом и их частью Италии вспыхнет война.
Все сенаторы сидели с прямыми спинами, внимая каждому слову Мария. Он сделал паузу и обвел взглядом лица, останавливаясь на некоторых; у Луция Корнелия Суллы сверкали глаза, на лице Квинта Лутация Катула Цезаря застыла смесь любопытства и ужаса.
– Я повинен в том же преступлении, что и остальные, отцы-законодатели. После гибели Марка Ливия Друза некому было предупредить меня о надвигающейся войне. Я уже был склонен приписать ему ошибку. Когда поход марса Силона на Рим кончился ничем, я тоже был готов счесть это уловкой ради получения гражданства. Когда делегат от марсов вручил нашему принцепсу сената письмо с объявлением войны, я отмахнулся, ибо оно исходило от одного-единственного италийского племени, хотя в делегации их было представлено целых восемь. И – не стесняюсь сознаться в этом – я никак не мог поверить в то, что в наше время какой-либо италийский народ действительно пойдет на нас войной.
Он дошел до закрытых дверей, от которых был виден весь сенат.
– То, что рассказал нам нынче Сервий Сульпиций, все меняет, проливая новый свет и на события в Аскуле. Аскул – город в Пицене. Нола – город самнитов Кампании. Оба не римские и не латинские колонии. Полагаю, из этого мы должны заключить, что марсы, пицены и самниты объединились против Рима. Возможно, в этом союзе состоят все восемь народов, направившие некоторое время назад к нам свою депутацию. Нетрудно предположить, что, вручая главе сената документ о формальном объявлении войны, марсы предостерегали нас. Остальные семь народов не снизошли до подобной формальности. Марк Ливий Друз не уставал твердить, что италийские союзники вот-вот объявят нам войну. Теперь я ему верю, надо только уточнить, что италийские союзники уже переступили черту. Война объявлена.
– Ты действительно считаешь, что это война? – спросил великий понтифик Агенобарб.
– Да, Гней Домиций.
– Продолжай, Гай Марий, – попросил Скавр. – Хочу послушать тебя, прежде чем выступить самому.
– Я почти закончил, Марк Эмилий. Добавлю только, что нужно провести мобилизацию, причем незамедлительно. Что мы должны выяснить, так это размер противостоящих нам сил. Все имеющиеся у нас в наличии войска следует направить на охрану наших дорог и доступа в Кампанию. Необходимо понять, как к нам относятся латиняне и что будет с нашими колониями во враждебных областях, когда грянет война. Как вам известно, у меня обширные владения в Этрурии, так же как у Квинта Цецилия Метелла Пия и у некоторых других Цецилиев. У Квинта Сервилия Цепиона не меньше земель в Умбрии. Гней Помпей Страбон и Квинт Помпей Руф – крупнейшие землевладельцы севера Пицена. Поэтому я думаю, что мы можем рассчитывать на союз с Этрурией, Умбрией и Северным Пиценом – если немедленно начнем переговоры с их вождями. Впрочем, вожди Северного Пицена сидят сейчас здесь, в сенате.
Марий кивнул принцепсу сената Скавру:
– Само собой, Рим может быть уверен, что я готов встать во главе его войск.
Скавр поднялся:
– Я полностью согласен со всем сказанным Гаем Марием, отцы, внесенные в списки. Терять время недопустимо. Знаю, сейчас февраль, тем не менее предлагаю забрать фасции у младшего консула и передать их старшему. В таких серьезных делах главенство должно принадлежать старшему консулу.
Рутилий Луп гневно вскочил, но его популярность среди сенаторов была слишком мала; он настоял на том, чтобы вопрос решился большинством, но подавляющее большинство выступило против него. Пришлось ему, негодуя, уступить первенство Луцию Юлию Цезарю, старшему консулу. В сенате находился друг Лупа, Цепион, но двое других его друзей, Филипп и Квинт Варий, отсутствовали.
Торжествующий Луций Юлий Цезарь быстро доказал, что глава сената не ошибся, оказав ему доверие. Главные решения были приняты в тот же день. Обоим консулам предстояло возглавить армию, доверив управление Римом городскому претору Луцию Корнелию Цинне. С провинциями разобрались быстро, так как оставались в силе прежние решения. Как и предполагалось, Сентий остался в Македонии, наместники в Испании тоже сохранили свои места. Луций Луцилий отправлялся наместником в провинцию Азия. Чтобы не дать царю Митридату шанс, пока Рим будет разбираться с внутренней смутой, в Киликию отряжался Публий Сервилий Ватия, ответственный за порядок в Анатолии. Самым важным решением было предоставление полномочий наместника в Заальпийской и Италийской Галлии Гаю Целию Кальду.
– Ясно, – заявил Луций Юлий Цезарь, – что если Италия взбунтуется, то на полуострове не наберется достаточно верных нам боеготовых войск. В Италийской Галлии много латинских колоний, есть и римские. Гай Целий, находясь в Италийской Галлии, станет набирать и обучать для нас солдат.
– Если мне позволят предложить, – загрохотал Гай Марий, – то я стою за отправку вместе с Гаем Целием квестора Квинта Сертория. В этом году на него возложены фискальные обязанности, и он еще не член сената. Но, как все здесь наверняка знают, Квинт Серторий – истинный воин. Пусть приобретает казначейский опыт в военных условиях.
– Принято, – тут же произнес Луций Цезарь.
Возникали, конечно, колоссальные финансовые проблемы. Казна была полна и вполне отвечала обычным запросам, но…
– Если война окажется более масштабной или более затяжной, чем мы рассчитываем, то денег понадобится больше, – сказал Луций Цезарь. – Я за то, чтобы мы действовали без промедления. Предлагаю возобновить прямое налогообложение со всех римских граждан и с обладателей латинских прав.
Предложение, естественно, натолкнулось на яростное сопротивление многих группировок в сенате, но Антоний Оратор произнес прекрасную речь, принцепс сената Скавр тоже, и в результате эта мера была утверждена. Tributum взимался не постоянно, а только при необходимости; после разгрома великим Эмилием Павлом Персея Македонского он был упразднен и заменен налогом, который собирали с не-римлян.
– Если придется воевать более чем шестью легионами, то доходов, поступающих из провинций, не хватит, – сообщил главный трибун казначейства. – Все расходы на оружие, еду, жалованье легионеров и поддержание боеготовности будут нести теперь Рим и римская казна.
– Прощайте, италийские союзники! – свирепо прорычал Катул Цезарь.
– Если придется задействовать десять-пятнадцать легионов, то каким будет размер налога? – спросил Луций Цезарь, неприязненно относившийся к этой части своих начальственных полномочий.
Главный трибун казначейства и его многочисленные подчиненные долго считали и наконец представили результат:
– Один процент от стоимости имущества согласно цензу.
– С неимущих, как всегда, взятки гладки! – крикнул Цепион.
– Зато им придется сражаться, Квинт Сервилий, – напомнил Марий с сарказмом в голосе.
– Раз мы обсуждаем финансы, – продолжил Луций Юлий Цезарь, игнорируя эту перепалку, – то полезно будет поручить умудренным сенаторам надзор за военными закупками, особенно доспехов и оружия. Обычно это обязанность praefectus fabrum, но мы пока не знаем ни где будут располагаться наши легионы, ни каковы будут их потребности. Поэтому я считаю необходимым поручить надзор за военными поставками сенату, по крайней мере временно. В Капуе стоят четыре готовых к бою легиона, еще два сейчас набираются там и проходят подготовку. Все они предназначались для службы в провинциях, но теперь об этом не может быть и речи. Провинциям придется довольствоваться имеющимися у них войсками.
– Луций Юлий, – не выдержал Цепион, – это же смешно! На основании каких-то двух происшествий в двух городах мы спешим вернуть tributum, обсуждаем увеличение числа легионов до пятнадцати, поручаем сенаторам развернуть закупку тысяч кольчуг, мечей и всего прочего, отправляем людей в провинции, которые официально даже таковыми не являются… Что дальше? Предложите призвать всех римских и латинских граждан мужского пола моложе тридцати пяти лет?
– Совершенно верно, – с чувством ответил Луций Цезарь. – Но ты, дорогой Квинт Сервилий, можешь не тревожиться: тебе давно перевалило за тридцать пять. – Помолчав, он добавил: – По крайней мере, по годам.
– Мне кажется, – веско промолвил Катул Цезарь, – Квинт Сервилий, возможно – повторяю, возможно! – не так уж не прав. Нам следует довольствоваться теми силами, что собраны сейчас под римскими орлами, и заниматься дальнейшими приготовлениями по мере подтверждения слухов о массовом восстании, а слухи эти могут и не подтвердиться.
– Когда нам потребуются солдаты, Квинт Лутаций, они должны быть готовы воевать и хорошо снаряжены, – ядовито проговорил Скавр. – К этому моменту они должны быть обучены. – Он повернул голову вправо. – Гай Марий, сколько времени нужно для превращения свежего рекрута в хорошего воина?
– Чтобы его можно было посылать в бой – сто дней. Но и тогда никакой он не хороший воин, Марк Эмилий. Хорошим воином он становится в первом бою, – ответил Марий.
– А можно выучить его быстрее, чем за сто дней?
– Можно – при качественном сырье и с центурионами-наставниками выше среднего уровня.
– Тогда нам стоит поискать выдающихся центурионов, – мрачно бросил Скавр.
– Давайте вернемся к начатому разговору, – твердым голосом сказал Луций Цезарь. – Речь шла о praefectus fabrum из числа сенаторов, который бы закупил оружие и организовал снабжение еще не существующих легионов. Я бы предложил назвать имена нескольких людей, которым можно поручить это ответственное дело; а потом кандидат, набравший наибольшее число голосов, выберет себе помощников. И все они должны быть людьми, негодными для воинской службы. Прошу предлагать кандидатов.
Прозвучало, среди прочих, имя Луция Кальпурния Пизона Цезонина, сына старшего легата Гая Кассия, погибшего в Бурдигале, в устроенной германцами засаде. В результате неизвестной болезни, поражавшей летом детей, Пизон сильно хромал на левую ногу и потому не мог служить в армии. Зять Публия Рутилия Руфа, отправившегося в изгнание в Смирну, Пизон отличался умом и по-прежнему скорбел об отце, чья безвременная смерть лишила его многого, не в последнюю очередь денег. При известии, что он будет отвечать за все военные поставки и сможет самостоятельно подобрать себе помощников, Пизон радостно сверкнул глазами. Грош ему цена, если он не сумеет принести пользу Риму и заодно наполнить свой пустой кошелек! Но он молчал и лишь спокойно улыбался, не сомневаясь, что преуспеет в том и другом.
– Теперь к вопросу о командовании! – сказал Луций Цезарь; он уже утомился, но не собирался завершать заседание, пока не будет решен этот последний вопрос. – Как нам лучше организовать свои действия?
Вопрос следовало задать непосредственно Гаю Марию, но Луций Цезарь не принадлежал к числу его приверженцев, к тому же считал, что постаревший, перенесший удар Марий уже далеко не тот, кем был. Он выступил первым и, видимо, сказал все, что хотел. Луций Цезарь обвел взглядом лица на ярусах по обеим сторонам, прикидывая, кому лучше предоставить слово. Задав вопрос об организации, он заторопился, чтобы не дать ответить Марию.
– Луций Корнелий, именуемый Сулла, я хотел бы услышать твое мнение, – проговорил старший консул, очень отчетливо, поскольку городской претор тоже был Луцием Корнелием, но носил другой когномен – Цинна.
Сулла вздрогнул, хотя ответ был у него готов.
– Если нашими врагами будут те восемь народов, которые отправили к нам депутацию, – начал он, – то, скорее всего, на нас нападут с двух сторон: с востока – на Соляной дороге и на Валериевой дороге с двумя ее разветвлениями, и с юга – где самниты имеют влияние от Адриатики до Кратерного залива в Тусканском море. Сначала про юг. Если апулы, луканы, венузины присоединятся к самнитам, гирпинам и френтанам, то юг сам станет грозным театром военных действий. Второй театр военных действий мы можем называть либо северо-восточным по отношению к Риму, либо центральным, в обоих случаях имея в виду территории к северо-востоку от Рима. Народы, относящиеся к этому центральному театру, – марсы, пелигны, марруцины, вестины и пицены. Обратите внимание, что сейчас я не говорю об Этрурии, Умбрии и Северном Пицене.
Сулла перевел дух и спешно продолжил, пока все это было еще свежо в его голове.
– На юге наши враги будут делать все, чтобы отрезать нас от Брундизия, Тарента и Регия. В центре, или на севере, они попытаются отрезать нас от Италийской Галлии, действуя, конечно, на Фламиниевой и на Кассиевой дорогах. В случае их успеха единственными нашими путями в Италийскую Галлию останутся Аврелиева дорога и дорога Эмилия Скавра до Дертоны, а оттуда до Плаценции…
– Спустиь сюда, Луций Корнелий, именуемый Сулла, – перебил его Луций Цезарь.
Спускаясь, Сулла едва заметно подмигнул Марию; ему доставляло удовольствие излагать свои стратегические соображения вместо прежнего кумира. Сулла пошел на это по нескольким причинам: он горько завидовал Марию, чей сын был жив-здоров; кроме того, он чувствовал себя уязвленным, поскольку после его возвращения из Киликии никто в сенате, включая Мария, не предложил ему сделать доклад о его восточной экспедиции; и, самое главное, он прекрасно понимал, что толковое выступление откроет перед ним самые заманчивые дали. Тем хуже для Гая Мария, мелькнуло у него в голове. Не хочу ему досаждать, но придется!
– Думаю, – продолжил он свою речь, – что, как и сказал Луций Юлий, в сражениях нам понадобятся оба консула. Одному придется идти на юг из-за Капуи, жизненно важной для нас. Потеряв ее, мы лишимся лучших наших училищ и города, где прекрасно налажено военное обеспечение. Кроме консула-полководца, понадобится также консуляр, который возглавит набор и обучение в самой Капуе. На того, кто двинется на юг, обрушатся все удары самнитов и их союзников. Самниты попытаются прорваться через Ацерры и Нолу на запад, к портам в южной части Кратерного залива: Стабиям, Салерну, Саренту, Помпеям и Геркулануму. Если наши враги захватят их все или хотя бы один из них, то смогут бороздить Тусканское море смелее, чем Адриатическое севернее Брундизия. Так они отрежут нас от областей дальше к югу.
Сулла был посредственным оратором, так как почти не учился риторике, а став сенатором, чаще пропадал на войнах, чем заседал в сенате. Но сейчас ему требовалось не ораторское искусство, а четкость и убедительность.
– Северный, он же центральный, театр гораздо сложнее. Надо исходить из того, что все земли между Северным Пиценом и Апулией, включая Апеннинские горы, находятся во вражеских руках. Здесь величайшая трудность для нас – сами Апеннины. Если мы хотим сохранить Этрурию и Умбрию, то должны выстоять в самом начале кампании против этих италийских племен. В противном случае Этрурия и Умбрия переметнутся к неприятелю, и мы лишимся наших дорог и Италийской Галлии. На этом театре должен командовать один из консулов.
– Нам обязательно нужно назначить главнокомандующего, – напомнил Скавр.
– Не получится, принцепс сената. Два театра военных действий, о которых я говорил, разделены нашими землями, – твердо возразил Сулла. – Лаций – обширная область, она заходит на север Кампании, а это та половина Кампании, которая, скорее всего, останется нам верна. Сомневаюсь, что юг Кампании сохранит верность, если восставшие одержат хотя бы одну победу, так много там самнитов и гирпинов. Чего стоит Нола! На востоке Лация высятся неприступные Апеннины, а тут еще Помптинские болота. Главнокомандующему пришлось бы метаться между двумя удаленными друг от друга зонами конфликта и всегда опаздывать. О том, чтобы надзирать сразу за двумя, не может быть речи. Мы же будем биться на двух фронтах, если не на трех! На юге может развернуться единая кампания, ибо там, где соединяются Самний, Апулия и Кампания, Апеннины наименее высоки. Другое дело – северный, он же центральный театр: там правильнее говорить о двух театрах – северном и центральном. Виноваты Апеннины, в тех местах они выше всего. Земли марсов, пелигнов и, возможно, марруцинов образуют отдельную зону, где не будет пиценов и вестинов. Я не вижу способа сдержать всех италиков, если драться только в центре. Придется, вероятно, отправить армию в бунтующие части Пицена через Умбрию и Северный Пицен, чтобы она спустилась с гор по их Адриатическому склону. Одновременно надо будет вторгнуться на земли марсов и пелигнов восточнее Рима.
Сулла сделал паузу, хотя и ненавидел себя за эту слабость. Что чувствует сейчас Гай Марий? Если ему были не по нраву речи Суллы, тот предоставлял ему возможность об этом заявить. И Гай Марий не упустил шанса высказаться. Сулла напрягся.
– Пожалуйста, продолжай, Луций Корнелий, – только и молвил прежний кумир. – Я сам не смог бы изложить все это лучше.
Светлые глаза Суллы сверкнули, губы чуть раздвинулись в улыбке, но он сразу посерьезнел и пожал плечами:
– Полагаю, это все. Хочу еще раз напомнить, что я исходил из того, что в восстании участвуют не менее восьми италийских племен. Не думаю, что должен предлагать кандидатуры. Тем не менее оговорюсь, что те, кто отправится на северо-восточный театр, должны располагать там обширной сетью клиентов. Если бы действовать в Пицене выпало Гнею Помпею Страбону, то у него есть там опора – тысячи клиентов. То же самое, пусть в меньшей степени, относится, как я знаю, к Квинту Помпею Руфу. В Этрурии крупнейший землевладелец с тысячами клиентов – Гай Марий. В Умбрии никто не сравнится с Квинтом Сервилием Цепионом. Было бы прекрасно, если бы эти люди могли содействовать нашей армии на северном, или центральном, театре.
Сулла кивнул Луцию Юлию Цезарю и вернулся на свое место под восхищенный (как он думал) ропот. Его попросили высказать свое мнение раньше остальных в сенате, что было большим шагом к известности. Невероятно! Неужели он наконец-то нащупал свой путь?
– Все мы должны поблагодарить Луция Корнелия Суллу за столь четкое и продуманное изложение фактов, – заговорил Луций Цезарь, и его улыбка обещала Сулле новые отличия. – Лично я согласен с ним. Но что скажет сенат? Есть у кого-нибудь иные соображения?
Никто не поднял руку.
Раздался кашель принцепса сената Скавра.
– Тебе решать, Луций Юлий, – молвил он. – Но, если не возражают отцы, внесенные в списки, я бы предпочел остаться в Риме.
– Я считаю, что в Риме ты будешь нужнее, ведь город покинут оба консула, – учтиво молвил Луций Цезарь. – Глава сената будет незаменим для нашего доброго городского претора, Луция Корнелия, именуемого Цинна. – Он покосился на другого консула, Лупа. – Публий Рутилий Луп, желаешь ли ты принять бремя командования в центре и к северу от Рима? – спросил он. – Я, старший консул, считаю необходимым взять на себя командование на капуанском направлении.
Луп просиял и расправил плечи:
– Я с большой радостью принимаю на себя такую ответственность, Луций Юлий.
– Итак, раз сенат не выдвигает возражений, я принимаю командование в Кампании. Своим главным легатом я выбираю Луция Корнелия, именуемого Сулла. Командование в самой Капуе и руководство всей деятельностью там я возлагаю на консуляра Квинта Лутация Катула Цезаря. Другими моими старшими легатами будут Публий Лициний Красс, Тит Дидий и Сервий Сульпиций Гальба, – сказал Луций Цезарь. – Кого назовешь для себя ты, консул Публий Рутилий Луп?
– Гнея Помпея Страбона, Секста Юлия Цезаря, Квинта Сервилия Цепиона и Луция Порция Катона Лициниана, – громко перечислил Луп.
После этого повисла тишина. Казалось, ей не будет конца. «Кто-то должен ее нарушить!» – подумал Сулла и непроизвольно, не готовый что-либо сказать, открыл рот.