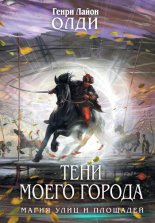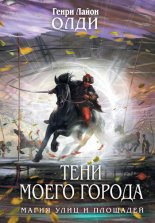Битва за Рим Маккалоу Колин
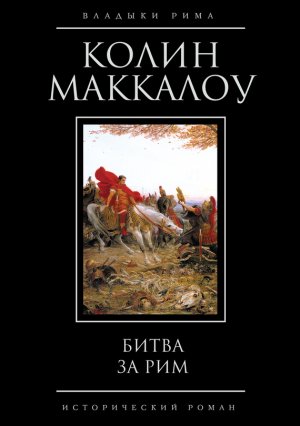
Когда Мария увели, толпа разбилась на кучки и взволнованно загудела; почти никто не уходил дальше таверн по периметру площади. Там Авл Белей, наблюдавший все от начала до конца, стал переходить от группы к группе, не умолкая ни на минуту.
В Минтурнах было несколько общественных рабов, среди которых выделялся один – чрезвычайно расторопный, приобретенный городом у странствующего работорговца двумя годами раньше. С тех пор городу ни разу не пришлось пожалеть об уплаченной за него внушительной сумме – пяти тысячах денариев. Теперь этому парню по имени Бургунд, гиганту-германцу из кимвров, было двадцать лет. Он был на целую голову выше самых высоких мужчин Минтурн, имел могучую мускулатуру и обладал силой, от которой у всех вокруг захватывало дух, – полностью искупавшей отсутствие блестящего ума и душевной тонкости; чего и не приходилось ожидать от малого, попавшего в рабство в шестилетнем возрасте, после сражения при Верцеллах, и с тех пор принужденного к существованию варвара-невольника. Не для него были привилегии и заработки образованных греков, продававшихся в рабство, в надежде хорошо устроиться; Бургунду платили сущую мелочь, жил он в убогой бревенчатой хижине на краю города и полагал, что к нему пожаловала в своей волшебной повозке, влекомой коровами, сама богиня плодородия Нерта, когда его вызывала к себе какая-нибудь горожанка, любопытствовавшая, каков из этого гиганта-варвара любовник. Бургунда никогда не посещала мысль о бегстве, да и участь свою он не считал несчастливой; напротив, он припеваючи прожил в Минтурнах эти два года, чувствуя свою важность, – ведь его здесь ценили. Ему давали понять, что со временем его жалованье вырастет, ему позволят жениться и завести детей. А если он продолжит усердно трудиться, то его детям даруют свободу.
Другие общественные рабы занимались прополкой, уборкой, малярничали и выполняли прочие нехитрые обязанности, тогда как на долю Бургунда выпадал тяжкий труд, требовавший большой силы. Он прочищал после наводнений забитые дренажные канавы и стоки Минтурн, оттаскивал облепленные мухами туши крупных животных, издохших в общественном месте, рубил деревья, представлявшие опасность, отлавливал бродячих собак, рыл в одиночку рвы. Подобно всем великанам, германец был смирным и понятливым, сознавал свою силу и не нуждался в том, чтобы ее доказывать; понимал он и то, что если играючи отвесит кому-нибудь оплеуху, то бедняга, чего доброго, помрет. Поэтому он приобрел привычку аккуратного обращения с пьяными моряками и с чрезмерно агрессивными человечками, вздумавшими его взнуздать, за это он был вознагражден несколькими шрамами и репутацией безобидного добряка.
Принужденные к незавидной обязанности казнить Гая Мария и полные решимости исполнить свой долг по возможности по-римски (понимая притом, что не заслужат этим любви горожан), магистраты тут же послали за Бургундом, мастером на все руки.
Тот, не подозревая, какие события разыгрались в Минтурнах, знай себе собирал в кучи огромные камни близ Аппиевой дороги, готовясь к ремонту городских стен. Окликнутый другим рабом, он зашагал к форуму своим широким, обманчиво неторопливым шагом; рабу-посыльному приходилось то и дело переходить на бег, чтобы от него не отстать.
Старший магистрат ждал за форумом, в проулке рядом с залом собраний и с храмом Юпитера Всеблагого Всесильного; чтобы толпа на форуме не узнала о происходящем и не взбунтовалась, с казнью нельзя было тянуть.
– Ага, Бургунд, как раз тот, кто мне нужен! – вскричал дуумвир (чей коллега, обладавший меньшим влиянием, куда-то загадочным образом подевался). – В подвале сидит пленник. – Он отвернулся и бросил через плечо делано – безразличным тоном: – Задуши его. Он изменник, приговоренный к смерти.
Германец постоял неподвижно, потом поднял свои огромные ладони и уставился на них; никогда еще ему не приказывали убить человека. Убить вот этими руками. Это было бы для него так же просто, как для любого другого свернуть шею цыпленку. То, что он обязан повиноваться, не вызывало сомнения; но ощущение благополучия, с которым он жил все это время в Минтурнах, внезапно пропало, унесенное ветром одиночества. Его превращали в городского палача, точно так же, как прежде ему поручали дела, за которые не взялся бы никто другой. Его синие глаза, обычно безмятежные, в ужасе уставились на храм Юпитера Всеблагого Всесильного, за которым шумел форум. Внизу, под храмом, находился узник, которого ему приказывали задушить. Не иначе важная птица. Один из вождей италиков в войне?
Бургунд тяжело вздохнул и направился к дальнему углу храмового подиума, где находилась дверь в недлинный лабиринт. Чтобы пройти в нее, ему пришлось не просто наклонить голову, а согнуться чуть ли не вдвое. По обеим сторонам узкого каменного коридора располагались двери, в дальнем конце в щель, забранную железной решеткой, сочился свет. В этом мрачном месте хранились городские летописи и архивы, местные законы и статуты, казна. За первой дверью слева изредка томился тот, кого по решению дуумвиров нужно было немного усмирить, прежде чем отпустить.
Эта дубовая дверь толщиной в три пальца была еще меньше входной; Бургунд отодвинул засов, сгорбился и пролез в камеру. Свет в нее, как и в коридор, проникал через зарешеченное отверстие; находясь в задней стене основания храма, эта дыра почти не пропускала внутрь звуков. Света в нее сочилось так же мало, тем более что глаза Бургунда еще не привыкли к темноте.
Выпрямившись, насколько это было возможно, гигант-германец разглядел в углу какую-то серую кучу, в которой с трудом угадывалась человеческая фигура. Человек, кто бы это ни был, встал и посмотрел на своего палача.
– Чего тебе? – громко спросил узник властным голосом.
– Мне сказано тебя задушить, – бесхитростно ответил Бургунд.
– Ты германец? – прозвучал резкий вопрос. – Из какого племени? Давай отвечай мне, дубина!
Приказ был отдан еще резче, потому что Бургунд начинал видеть в темноте. Два огненных глаза смотрели на него так свирепо, что он смутился и замялся:
– Я из кимвров, domine.
Огромный голый человек с неистовым взглядом заметно шатался.
– Что?! Раб, в придачу из побежденных мною, осмелится убить Гая Мария?
Бургунд вздрогнул, захныкал, схватился за голову и попятился.
– Пошел вон! – прогрохотал Гай Марий. – Я не приму смерть в поганом подземелье от рук какого-то германца!
Бургунд с воем выбежал, оставив дверь камеры распахнутой, и в несколько прыжков достиг открытого пространства форума.
– Нет, нет! – крикнул он собравшимся на площади, обливаясь слезами. – Я не могу убить Гая Мария! Я не могу убить Гая Мария! Я не могу убить Гая Мария!
Авл Белей пересек форум и взял великана за дрожащую руку:
– Все хорошо, Бургунд, больше тебя об этом не попросят. Перестань плакать, будь умницей. Довольно!
– Я не могу убить Гая Мария, – повторил Бургунд, вытирая сопли локтем, потому что Белей не выпускал его ладонь. – И другим не могу позволить его убить!
– Никто не собирается убивать Гая Мария, – твердо заверил его Белей. – Это недоразумение. Все, успокойся. Сделай доброе дело – ступай к Марку Фурию, возьми у него одежду и вина. Отнеси то и другое Гаю Марию. Потом отведи Гая Мария ко мне в дом и жди там вместе с ним.
Великан успокоился, как ребенок, радостно улыбнулся Авлу Белею и побежал, куда было сказано.
Белей повернулся к толпе, снова многочисленной, и нашел глазами выбежавших из зала собраний дуумвиров; его взгляд не сулил им обоим ничего хорошего.
– Что же, жители Минтурн, вы согласны, чтобы наш прекрасный город взял на себя подлое дело убийства Гая Мария?
– Мы должны, Авл Белей, – ответил запыхавшийся старший магистрат. – Он повинен в государственной измене!
– Какое бы преступление он ни совершил, мне все равно, – сказал Авл Белей. – Минтурны не могут казнить Гая Мария.
Толпа поддержала Авла Белея оглушительным ревом. Пришлось магистратам немедленно созвать собрание для обсуждения положения. Решение было предрешено: Гая Мария следовало освободить. Минтурны отказывались брать на себя ответственность за смерть шестикратного римского консула, спасшего Италию от германцев.
– Итак, – обратился немного погодя к Гаю Марию довольный Авл Белей, – я счастлив сообщить, что готов вновь посадить тебя на мой корабль и передаю тебе наилучшие пожелания всех жителей Минтурн, включая наших безмозглых магистратов. Обещаю, в этот раз твой корабль выйдет в море и тебя уже не приволокут на берег.
После ванны, утолив голод, Марий чувствовал себя гораздо лучше.
– Покинув Рим, я все время сталкиваюсь с проявлениями доброты, Авл Белей, но такой, как в Минтурнах, я еще не встречал. Никогда не забуду это место. – Он оглянулся на возвышавшегося над ним Бургунда и одарил его самой искренней улыбкой, на которую оказалось способно его наполовину парализованное лицо. – Того, что ты спас меня, германец, я этого тоже не забуду. Благодарю тебя!
Белей вскочил:
– Для меня было бы огромной честью предложить тебе кров, Гай Марий, но мне не будет покоя, пока я не увижу, как твой корабль покидает гавань. Позволь мне прямо сейчас проводить тебя на пристань. Ты сможешь выспаться уже на борту.
Когда они вышли из дома Белея на улицу, там собрались почти все Минтурны, желавшие проводить его на корабль; все выкрикивали приветствия, которым Гай Марий внимал с царственным достоинством. Потом все двинулись к морю, полные такой радости, такого осознания важности содеянного, каких не знали много лет. У причала Марий при всех обнял Авла Белея.
– Твои деньги ждут тебя на борту, – сказал Белей, не стесняясь слез. – Я отправил туда еще одежды для тебя, а также вина – оно не в пример лучше того, что обычно лакает мой капитан! Еще я отправляю с тобой раба Бургунда, иначе тебе некому будет помочь. Ему нельзя оставаться в городе, вдруг вернется тот отряд и кто-нибудь из наших проболтается… Он не заслуживает смерти, поэтому я купил его для тебя.
– С радостью беру Бургунда, Авл Белей. А тех, кто меня искал, больше можешь не опасаться. Я знаю того, кто им заплатил, – это человек без власти и влияния, он просто хочет сколотить себе репутацию. Сначала я подозревал Луция Суллу; окажись я прав, дела обстояли бы куда серьезнее. Но если люди консула тоже меня ищут, они еще не добрались до Минтурн. Этих ищеек натравил на меня жадный до славы privatus. – Марий стиснул зубы и прошипел: – Секст Луцилий поплатится за это!
– Мой корабль в твоем распоряжении, пока ты не сможешь снова вернуться домой, – с улыбкой сказал Белей. – Капитан все знает. На счастье, его груз – фалернское вино, промедление ему только на пользу. Счастливого пути!
– Желаю тебе всяческих успехов, Авл Белей, – сказал Гай Марий. – Никогда тебя не забуду.
Наконец-то этот полный волнений день остался позади; мужчины и женщины Минтурн, стоявшие на причале, махали кораблю, пока он не исчез за горизонтом, а потом разошлись с чувством, что победили в войне. Авл Белей ушел домой последним, уже в сумерках, улыбаясь на ходу; ему в голову пришла замечательная мысль. Он найдет лучшего на всем полуострове художника и закажет ему серию фресок на сюжет злоключений и спасения Гая Мария в Минтурнах. Пускай красуются в новом храме Марики в чудесной священной роще! Ведь она морское божество, мать Латина и бабка Лавинии, вышедшей замуж за Энея и родившей Юла, а значит, имеет особое значение для Гая Мария, женатого на Юлии. А еще Марика – покровительница их города. Минтурны не могли совершить более славного деяния, чем спасти Гая Мария; благодаря фрескам их слава вскоре разнесется по всей Италии.
С того времени опасности отступили от Гая Мария, при всей дальности и изнурительности его скитаний. На Энарии девятнадцать беглецов воссоединились и стали ждать Публия Сульпиция – но тщетно. Через восемь дней они со скорбью заключили, что он уже не прибудет, и отчалили без него. Выйдя в открытое Тусканское море, они не видели суши, пока не подошли к северо-западному мысу Сицилии и не пристали к берегу в рыбацком порту Эрицина.
Марий хотел бы остаться на Сицилии, чтобы не слишком удаляться от Италии; невзирая на замечательное, учитывая все выпавшие ему тяготы, состояние здоровья, он вполне отдавал себе отчет, что голова у него не в порядке. Он стал забывчив; порою слова, произносимые другими, звучали для него как невнятный говор скифов или сарматов; его преследовали неприятные запахи, глаза застилали мохнатые рыболовные сети, то и дело его бросало в невыносимый жар; бывало, он переставал понимать, где находится. Душевное состояние было и того хуже: всюду ему мнилось пренебрежение, а то и оскорбительное презрение.
– То внутри у нас, что позволяет нам мыслить, – одни говорят, что оно располагается в груди, другие, например Гиппократ, – что в голове, и я склонен с ним согласиться, ибо думаю глазами, ушами и носом, так почему все это должно располагаться так же далеко от источника мыслей, как от сердца и печени?.. – заговорил он однажды с сыном, ожидая с ним в Эрицине ответа от наместника; произнеся эти слова, он запнулся и свирепо свел мохнатые брови на переносице. – Позволь, я начну сначала… Что-то грызет меня изнутри, изводит понемногу, Марий-младший. Я все еще помню наизусть целые книги и, поднатужившись, могу мыслить здраво, могу проводить собрания, могу делать все, что делал раньше. Но не всегда. Все меняется, и мне не дано этого постигнуть. Порой я даже перестаю осознавать перемены… Не серчай на меня за туманность речей, за причуды. Я должен сохранять ясность мыслей, ведь в один прекрасный день я стану консулом в седьмой раз. Марфа сказала, что это произойдет, а она никогда не ошибалась. Никогда… Я уже говорил тебе это, не так ли?
Марий-младший сглотнул, борясь с комком в горле:
– Да, отец, говорил. Много раз.
– А говорил ли я тебе, что она напророчила кое-что еще?
Серые глаза сына впились в перекошенное, дряхлое лицо отца, в последнее время ставшее багровым. Вздохнув, Марий-младший подумал, что, вероятно, отец опять заговаривается, хотя, возможно, у него еще продолжается период просветления.
– Нет, отец.
– Да, было кое-что еще. Она сказала, что мне не быть величайшим человеком в истории Рима. А знаешь ли ты, кому она предрекла славу величайшего римлянина всех времен?
– Нет, не знаю, отец. Но хотел бы узнать. – В сердце Мария-младшего не было ни капли надежды: он знал, что своего имени не услышит. Сын великого человека не может не сознавать своего несовершенства.
– Она сказала, что это будет юный Цезарь.
– Edepol!
Марий вдруг заерзал, превратился в седого дитятю, ужаснув сына.
– Да не тревожься ты, сынок! Этому не бывать! Я никому не дам возвыситься надо мной. И потому намерен утопить звезду Цезаря-младшего на глубоком морском дне.
Сын встал:
– Ты утомлен, отец. Я заметил, что усталость сильно усугубляет те состояния, на которые ты жалуешься. Тебе надо поспать.
Наместником Сицилии был клиент Гая Мария Гай Норбан, отражавший в Мессине попытку вторжения на Сицилию Марка Лампония, командовавшего восставшими луканами и жителями Бруттия. Гонец Мария, отправленный со всей поспешностью в Мессину по Валериевой дороге, привез через тринадцать дней ответ.
Полностью сознавая свои клиентские обязанности перед тобой, Гай Марий, я являюсь также наместником римской провинции с преторским империем, и честь обязывает меня ставить долг перед Римом выше долга перед патроном. Твое письмо пришло уже после того, как я получил официальное указание от сената не оказывать тебе и другим бежавшим никакого содействия. Мне приказано поймать тебя и при возможности убить. Этого я, конечно, сделать не могу, а могу лишь приказать твоему кораблю покинуть сицилийские воды.
В личном порядке я желаю тебе удачи и надеюсь, что ты обретешь где-то приют и безопасность, хотя сомневаюсь, что это возможно на какой-либо римской территории. Сообщаю, что Публия Сульпиция схватили в Лавренте. Его голова красуется теперь на ростре в Риме. Подлое убийство! Но ты лучше поймешь мое положение, когда я скажу, что голову Сульпиция поместил на ростре не кто иной, как сам Луций Корнелий Сулла. Нет, не отдал приказ, а сделал это собственноручно.
– Бедный Сульпиций! – проговорил Марий, смахивая слезу. Слезы теперь легко наворачивались ему на глаза. Потом он расправил плечи. – Отлично, отплываем! Посмотрим, какой прием нам окажут в провинции Африка.
Но их не пустили и туда; наместник Публий Секстилий тоже получил соответствующий приказ и мог сделать для беглецов только одно – посоветовать попытать счастья где-то еще, прежде чем долг не принудит его выследить их и убить.
Пришлось им плыть в Русикад – порт, обслуживавший Цирту, столицу Нумидии. Страной правил царь Гиемпсал, сын Гауды, человек, на которого можно было положиться. Он получил письмо Мария, находясь у себя во дворце в Цирте, недалеко от Русикада. Распятый на рогах величайшей дилеммы всего своего царствования, он медлил с ответом. Гай Марий усадил на трон его отца; вдруг он теперь вздумает сбросить с трона сына? На главенство в Нумидии претендовал также Луций Корнелий Сулла.
Проведя несколько дней в раздумьях, царь перебрался с частью своего двора в Икозий, подальше от римлян, и пригласил туда Мария с его спутниками. Он позволил им сойти на берег и предоставил в их распоряжение несколько удобных вилл. Он часто приглашал их в свой небольшой дворец, сильно уступавший роскошью его резиденции в Цирте. Ввиду ограниченности пространства царь оставил в столице некоторых жен и всех наложниц, взяв с собой в Икозий только царицу Софонисбу и двух младших жен, Саламбо и Анно. Образованный человек, приверженец лучших традиций эллинистических монархий, он не любил восточной помпезности и позволял гостям свободно общаться с его родственниками: сыновьями, дочерьми, женами. Увы, это повлекло осложнения.
Двадцатиоднолетний Марий-младший обладал несомненной мужской привлекательностью. Он был красивым белокожим блондином, стройным и мускулистым; непоседливость не позволяла ему погрузиться в умственную деятельность, поэтому он искал разрядки в охоте – занятии, не увлекавшем царя Гиемпсала. Младшая царская жена Саламбо, напротив, обожала охотиться. Африканские равнины кишели живностью: слонами и львами, страусами и газелями, антилопами и кабанами, леопардами и гну; Марий-младший днями осваивал охоту на зверей, которых раньше не видывал. За проводника и наставника при нем неизменно находилась царица Саламбо.
Гиемпсал воображал, возможно, что так как эти экспедиции происходят у всех на виду, при участии многочисленной свиты, то само присутствие его подданных служит достаточной гарантией добродетели его младшей жены, потому не видел вреда в том, что та проводит столько времени в обществе Мария-младшего; возможно также, что царь был только рад надолго отправить этого беспокойного юнца куда подальше. Сам он уединялся в это время с Марием (чье душевное и умственное состояние в Икозии заметно улучшилось) и беседовал с ним о былых временах, узнавая подробности кампаний в Нумидии и в Африке против Югурты. Гиемпсал делал подробные записи для своего семейного архива, мечтая о том, как когда-нибудь его сыновья или внуки возвеличатся и породнятся со знатными римлянками. Сам он иллюзий не питал: даже будучи царем и правя обширными богатыми землями, для римской знати он вместе со своей родней был не более чем трава под ногами.
Разумеется, тайна выплыла наружу. Один из клевретов доложил царю, что дни Саламбо и Марий-младший проводят вполне невинно, не то что ночи… Это открытие повергло царя в панику; с одной стороны, он не мог простить жене неверность, а с другой – не мог поступить с прелюбодеем так, как водилось в таких случаях, – лишить жизни. Он вышел из положения со всем достоинством, сообщив Гаю Марию, что ввиду щепетильности возникшего положения беглецам больше нельзя оставаться у него, и попросив отплыть, как только будет снаряжено судно Мария.
– Молодой дурень! – в сердцах сказал Марий сыну, направляясь с ним на пристань. – Почему ты не довольствовался обычными женщинами? Обязательно надо было похитить одну из жен Гиемпсала?
Марий-младший ухмыльнулся, попробовал напустить на себя сокрушенный вид, но не смог.
– Прости, отец, но уж больно она хороша. К тому же это не я соблазнил ее, а она меня.
– Надо было ее отвергнуть.
– Надо было, – ответил Марий-младший, далекий от раскаяния. – Но я не отверг. Она была чудо как хороша!
– Ты применил правильное время, сынок: «была». Из-за тебя глупая женщина рассталась с головой.
Прекрасно зная, что Марий недоволен только потому, что теперь им придется сняться с места, иначе гордился бы сыном, склонившим к неверности чужеземную царицу, Марий-младший продолжал улыбаться. Судьба Саламбо их обоих не волновала, ведь она заранее знала, что разоблачение будет стоить ей головы.
– Тем хуже для нее, – бросил Марий-младший. – Уж больно…
– Хватит повторять одно и то же! – перебил его отец. – Будь ты меньше или если бы я мог устоять на одной ноге, то ты получил бы такой пинок, что недосчитался бы зубов! Здесь нам было так удобно!
– Можешь пнуть, если хочешь. – С этими словами Марий-младший нагнулся и шутя подставил отцу зад, широко расставив ноги и просунув голову между колен. Он не испытывал страха. Преступление такого сорта отец мог с легкостью простить сыну; к тому же отец еще ни разу в жизни не поднимал на него руку, тем более ногу.
Марий поманил верного Бургунда, тот обхватил его за пояс и принял на себя его вес. Старик отвел ногу и нанес удар носком тяжелого сапога прямиком в чувствительное место, промеж ягодиц. Только гордость помешала Марию-младшему лишиться чувств от невыносимой боли. Он промучился несколько дней и все это время убеждал себя, что отец причинил ему страдания не нарочно и что он сам неверно оценил отцовское отношение к инциденту с Саламбо.
Из Икозия они снова поплыли вдоль североафриканского побережья на восток и ни разу не пристали к берегу, пока не достигли нового места назначения – острова Церцина в заливе Малый Сирт. Здесь их ждала наконец безопасная гавань, ведь на Церцине осели и вели теперь мирную жизнь несколько тысяч ветеранов из бывших легионов Мария. Подустав от выращивания пшеницы на своих наделах в сотню югеров каждый, поседевшие ветераны встретили своего старого полководца с распростертыми объятиями, обласкали его и его сына и поклялись, что никакой армии, присланной Суллой из Рима, не удастся отбить у них Гая Мария и лишить его свободы.
После памятного пинка Марий-младший стал еще больше беспокоиться за отца и не спускал с него глаз; с глубокой печалью он замечал все новые признаки расстройства рассудка и дивился тому, как многое прощается отцу в память о былом. Он восхищался характером отца, вдруг усилием воли снова превращавшегося в нормального человека. Тому, кто не наблюдал за ним постоянно и вблизи, как сын, казалось, что все в порядке, не считая периодических потерь памяти, озадаченности на лице и манеры отклоняться от темы, если она не вызывала у него интереса. Но выдюжит ли Марий седьмое консульство? В этом Марий-младший сильно сомневался.
Союз новых консулов, Гнея Октавия Рузона и Луция Корнелия Цинны, был в лучшем случае непростым, а в худшем выливался в прилюдные споры в сенате и на Форуме, заставлявшие весь Рим гадать, который из двоих одержит верх. Первый порыв низложить Суллу окончился ничем, когда Помпей Страбон обратился к Цинне с учтивым частным письмом, где уведомлял, что если тот желает остаться консулом – а его ручные народные трибуны желают остаться в живых, – то Луция Корнелия Суллу следует с миром отпустить на Восток. Зная, что Октавий – человек Помпея Страбона и что единственные остающиеся в Италии легионы подчиняются двум наиболее непреклонным союзникам Суллы, Цинна напустился на своих народных трибунов Вергилия и Магия, не желавших сдавать своих позиций; в конце концов Цинне пришлось прямо сказать им, что если они не передумают, то он сам переменит мнение, перейдет на сторону Октавия и вышвырнет их с Форума и из Рима.
В первые восемь месяцев консульства у Октавия и Цинны хватало проблем в Риме и в Италии; казна была по-прежнему пуста, и приток денег никак не налаживался, к тому же Сицилия и Африка второй год страдали от засухи. Тамошние правители, Норбан и Секстилий, получили приказ сделать невозможное под страхом лишения преторского империя, но добиться снабжения столицы хлебом, пусть для этого пришлось бы даже покупать зерно под векселя, поручителями по которым выступят их солдаты. Никакие соображения уже не принудили бы консулов и сенат к повторению событий, приведших к недолгой славе Сатурнина, воспользовавшегося голодом римской черни; неимущих необходимо было накормить. Сталкиваясь с некоторыми из тех ужасных затруднений, что мешали Сулле в его консульский год, Цинна не брезговал ни одним источником дохода, какой только мог найти; обоим наместникам в Испании были отправлены письма с требованием выжать из их провинции все до последней капли. Наместнику Галлии Публию Сервилию Ватии велено было идти в варварской Заальпийской Галлии на любой риск, одновременно хорошенько нажав на кредиторов в Италийской Галлии. Получив гневные ответы, Цинна сжег их, прочтя только начало. У него оставалось два невыполнимых желания: чтобы Октавий взял на себя больше неблагодарных задач и чтобы Рим по-прежнему мог получать доходы от провинции Азия.
Кроме всего прочего, на Рим оказывали давление имевшие теперь избирательные права италики, горько сетовавшие на статус в своих трибах, хотя согласно leges Corneliae их голоса в трибах вообще потеряли вес. Их аппетит разожгли законы Публия Сульпиция, отмена которых не могла их не прогневить. Даже после двух с лишним лет войны среди италийских союзников оставались важные люди, которые теперь засыпали сенат письмами с жалобами от собственного имени и от имени менее знатных италийских собратьев. Цинна рад был бы пойти им навстречу и в законодательном порядке распределить всех новых граждан поровну по всем тридцати пяти трибам, но ни сенат, ни старший консул Октавий на это ни за что не согласились бы. Законы Суллы связывали Цинну по рукам и ногам.
Первый луч надежды блеснул в месяц секстилий; согласно донесениям, Сулла увяз в Греции и лишился возможности нагрянуть в Рим, чтобы обеспечить выполнение своих законов и поддержать своих сторонников. По мнению Цинны, пришло время наладить отношения с Помпеем Страбоном, по-прежнему сидевшим в Умбрии и в Пицене со своими четырьмя легионами. Никому не сказав, куда направляется, даже жене, Цинна устремился на встречу с Помпеем Страбоном, чтобы узнать, что тот думает теперь, когда Сулла с головой погрузился в войну с Митридатом.
– Я готов заключить с тобой такую же сделку, какую раньше заключил с другим Луцием Корнелием, – молвил косоглазый владыка Пицена, не оказавший гостю теплого приема, но, по крайней мере, выслушавший его. – Ты не мешаешь мне и моим людям в моем углу нашего великого, огромного римского мира, а я не тревожу тебя в могучем городе.
– Так вот о чем вы условились! – воскликнул Цинна.
– Именно об этом.
– Мне необходимо пересмотреть многие изменения, внесенные другим Луцием Корнелием в нашу систему управления, – заговорил Цинна, стараясь, чтобы его голос звучал бесстрастно. – Кроме того, я хочу поровну распределить новых граждан по всем тридцати пяти трибам, и мне нравится мысль о распределении по трибам римских вольноотпущенников. – Как ни отвратительно ему было просить дозволения на необходимые действия у этого пиценского мясника, он сделал над собой усилие и невозмутимо продолжил: – Как ко всему этому относишься ты, Гней Помпей?
– Поступай как знаешь, – безразлично бросил Помпей Страбон, – главное, не трогай меня.
– Даю тебе слово, что не трону тебя.
– Много ли значит твое слово, Луций Цинна? Не больше чем твои клятвы?
Цинна залился густой краской.
– Той клятвы я не давал, – ответил он с достоинством. – Я все время сжимал в руке камень, и это лишило клятву силы.
Помпей Страбон запрокинул голову; его хохот напоминал лошадиное ржание.
– Какие мы адвокаты с Форума! – проговорил он, отсмеявшись.
– Я не связан клятвой, – повторил все еще красный Цинна.
– Раз так, то ты много глупее другого Луция Корнелия. Когда он вернется, ты проживешь не дольше, чем снежинка в огне.
– Раз ты такого мнения, зачем позволять мне делать то, что я собираюсь?
– Мы с другим Луцием Корнелием понимаем друг друга, вот в чем дело, – ответил Помпей Страбон. – Что бы ни произошло, он обвинит не меня, а тебя.
– Что, если другой Луций Корнелий не вернется?
Это вызвало новый взрыв смеха.
– На это не рассчитывай, Луций Цинна! Другой Луций Корнелий, без сомнения, – избранник Фортуны. Его жизнь ошеломляет.
Цинна вернулся в Рим, не проведя во владениях Помпея Страбона ни минутой больше, чем продлилась их короткая беседа; переночевать он предпочел в доме, хозяин которого не так действовал ему на нервы. Правда, приютивший его житель Ассисия донимал его рассказами о том, как мыши сожрали носки Квинта Помпея Руфа, что предрекло его гибель. «В общем и целом, – размышлял Цинна, вернувшись в Рим, – северяне мне не по нутру! Слишком они приземленные, слишком привержены древним богам».
В начале сентября в Риме проходили величайшие в году игры – ludi Romani. Три года подряд они были скромными и обходились дешево из-за войны в Италии и ввиду отсутствия огромных сумм, которые курульные эдилы обычно извлекали ради игр из своих кошельков. Большие надежды, возлагавшиеся на прошлогоднего эдила Метелла Целера, не оправдались. Но пара текущего года была сказочно богата, и к секстилию появились явные свидетельства того, что они сдержат слово и устроят запоминающиеся игры. По всему полуострову разнесся слух о предстоящих великолепных играх. В результате все, кто мог себе позволить путешествие, внезапно решили, что лучшее средство от всех бед военного времени – это поездка в Рим на ludi Romani. Тысячи италиков, недавно получивших гражданство и махнувших рукой на то, что их обвели вокруг пальца, стали к концу секстилия прибывать в Рим. Здесь были все: любители театра, колесничных бегов, травли диких зверей, веселых зрелищ. Особенное наслаждение предвкушали ценители театра: старика Акция уговорили покинуть его дом в Умбрии и лично поставить новую пьесу.
Цинна наконец-то тоже решил действовать. Его союзник, плебейский трибун Марк Вергилий созвал «неофициальное» народное собрание и объявил толпе (в которой было много приезжих италиков), что намерен добиться от сената равномерного распределения новых граждан по трибам. Задачей этого собрания было привлечь внимание тех, кому эта тема была небезразлична, ибо Марк Вергилий не мог выносить на обсуждение законопроекты в органе, лишенном права их принимать.
Затем Вергилий выступил со своим предложением в сенате, где ему было твердо сказано, что отцы-законодатели не станут обсуждать этот вопрос теперь, как не обсуждали его в январе. Вергилий пожал плечами и сел на скамью трибунов, рядом с Серторием и другими. Он сделал то, о чем его просил Цинна, – выяснил настроение сенаторов. Остальное зависело уже от самого Цинны.
– Хорошо, – сказал Цинна своим сторонникам, – теперь за дело возьмемся мы. Пообещаем всему миру, что если наши законы, призванные преобразовать прежние установления и изменить статус новых граждан, пройдут в центуриатных комициях, то мы предложим всеобщую долговую амнистию. Обещания Сульпиция вызывали подозрения, потому что он действовал в интересах заимодавцев в сенате, мы же этим не запятнаны. Нам поверят.
Цинна не делал секрета из своей программы, хотя и не стремился слишком дразнить тех, кто не мог одобрить всеобщее списание долгов. Положение большинства – даже представителей первого класса – было таким отчаянным, что его мнение стало склоняться в пользу Цинны, и он стал вдруг получать поддержку; ведь на каждого всадника, всякого сенатора, не имевшего долгов или дававшего деньги в рост, приходилось шесть-семь всадников и сенаторов, залезших в долги, причем глубоко.
– Мы в беде, – сказал старший консул Гней Октавий Рузон своим соратникам Антонию Оратору и братьям Цезарям. – Размахивая перед столькими алчными и нуждающимися носами такой приманкой, как всеобщее списание долгов, Цинна добьется желаемого, даже от первого класса и от центурий.
– Отдадим ему должное, он достаточно умен, чтобы не собирать плебейское и всенародное собрание и не протаскивать свои законопроекты через них, – раздраженно сказал Луций Цезарь. – Если он проведет свои предложения через центурии, то согласно установлениям Луция Корнелия они будут иметь силу законов. При нынешнем уровне сбора налогов и нехватке частных денег центуриатные комиции сверху донизу непременно проголосуют так, как хочет Луций Цинна.
– А неимущие взбунтуются, – добавил Антоний Оратор.
Но Октавий покачал головой. Он был среди них самым ловким дельцом.
– Неимущие не взбунтуются, Марк Антоний! – нетерпеливо бросил он. – У тех, кто в самом низу, не бывает ни долгов, ни денег. В долг берут средние и верхние слои. Обычно им приходится просить в долг, чтобы продолжать подниматься выше, а чаще для того, чтобы не скатиться вниз. Ростовщики не дают денег тем, кто не имеет поручителей. Поэтому чем выше смотришь, тем больше вероятность увидеть должников.
– Выходит, ты уверен, что центурии проголосуют за всю эту неприемлемую чушь? – спросил Катул Цезарь.
– А ты нет, Квинт Лутаций?
– Боюсь, что тоже уверен.
– Что же мы можем сделать? – спросил Луций Цезарь.
– Я знаю, как быть, – сказал Октавий, морщась. – Однако я буду делать это, не сказав никому, даже тебе.
– Как думаете, что у него на уме? – спросил Антоний Оратор, когда Октавий удалился в сторону Аргилета.
Катул Цезарь покачал головой:
– Понятия не имею. – Он нахмурился. – Хотел бы я, чтобы у него была хотя бы десятая часть мозгов и способностей Луция Суллы! Но чего нет, того нет. Он – человек Помпея Страбона, и этим все сказано.
Брат Катула, Луций Цезарь, поежился.
– Меня не отпускает неприятное чувство, – сказал он. – Что бы он ни задумал, это будет не то, что нужно. Беда!
Антоний Оратор не стал тратить время на сетования.
– Полагаю, следующие десять дней я проведу за пределами Рима.
В конце концов все согласились, что ничего разумнее этого им все равно не придумать.
Цинна, уверенный в себе, поспешил назначить день предварительного слушания своих законопроектов в центуриатных комициях – за шесть дней до сентябрьских ид, через два дня после начала Римских игр. Тема долгов была такой насущной и должники так спешили избавиться от своего тяжкого бремени, что уже на заре назначенного дня тысяч двадцать собрались на Марсовом поле, чтобы послушать предложения Цинны. Все до одного надеялись проголосовать, хотя Цинна твердо объяснил, что это невозможно: голосование означало бы, что первый же его закон вступит в противоречие с lex Caecilia Didia prima (так поступил Сулла, успевший протащить свои меры). Нет, решительно заявил Цинна, необходимо будет выдержать законный срок, три нундины. Однако он пообещал, что внесет новые законопроекты на других сходках, прежде чем завершится период между вынесением на обсуждение и принятием первого закона. Этим он всех успокоил, создав впечатление, что долги будут списаны задолго до того, как Цинна сложит консульские полномочия.
В этот первый день Цинна вознамерился поставить на обсуждение два закона: о распределении новых граждан по трибам и о помиловании и призвании обратно в Рим девятнадцати беглецов. Собственность всех их, от Гая Мария до последнего всадника, осталась в неприкосновенности: в последние дни своего консульства Сулла не предпринял попыток ее конфисковать, а новые народные трибуны, обладавшие правом вето в сенате, дали понять, что не пропустят ни одно предложение о конфискации.
Поэтому, когда двадцать тысяч римлян пяти имущих классов сошлись на поросшем травой Марсовом поле, они ждали одного-единственного закона, который желали одобрить, – о призвании в Рим беглецов; распределять новых граждан по трибам им было неинтересно, потому что это уменьшило бы их власть в трибутных комициях, к тому же все знали, что этот закон послужит прелюдией к возвращению трибутным комициям законодательных полномочий. Цинна и его народные трибуны пришли на Марсово поле первыми, чтобы потом, расхаживая в густеющей толпе, отвечать на вопросы и успокаивать тех, у кого оставались сомнения насчет италиков. Самым большим утешением служило, конечно, обещание списать всем долги.
Многочисленные собравшиеся так увлеклись разговорами промеж себя, зевками и ожиданием выступления Цинны, уже поднявшегося вместе со своими ручными народными трибунами на ораторский помост, что не заметили внезапно нахлынувшей людской волны. Все вновь пришедшие были в тогах, молчаливые, похожие на римлян третьего и четвертого классов.
Гней Октавий Рузон не зря служил у Помпея Страбона старшим легатом; его средство против напастей, обрушившихся на Рим, было отлично организовано и тщательно проинструктировано. Тысяча нанятых им (на деньги Помпея Страбона и Антония Оратора) армейских ветеранов окружила толпу, после чего сбросила тоги и предстала во всеоружии, прежде чем кто-либо из безоружных понял, что попал в ловушку. Сначала раздался пронзительный свист, а потом наймиты врезались в толпу со всех сторон, деловито орудуя мечами. Сотни, тысячи были изрублены, еще больше было затоптано самими паникующими избирателями. Теснимая кольцом убийц, толпа не понимала, где искать спасения, и долго не покидала поле, где мерно взлетали и опускались окровавленные мечи.
Цинна и шестеро его трибунов не попали в ловушку, в отличие от своих слушателей, и, спрыгнув с платформы, разбежались. Из числа тех, кто был внизу, посчастливилось остаться в живых двум третям. Когда Октавий явился полюбоваться на содеянное по его плану, несколько тысяч римлян центуриатных комиций из высших классов лежали на Марсовом поле мертвые. Октавий был зол, ведь он хотел, чтобы первыми пали Цинна и его плебейские трибуны; но даже у людей, продающихся за деньги, чтобы убивать беззащитных, существовал свой кодекс, из которого следовало, что убивать действующих магистратов – неоправданный риск.
Квинт Лутаций Катул Цезарь и его брат Луций Юлий Цезарь, находившиеся в Ланувии, узнали о бойне, прозванной всем Римом Октавиевым днем, через считаные часы после того, как она разразилась. Они помчались в Рим и предстали перед Октавием.
– Как ты мог? – с рыданием вопрошал Луций Цезарь.
– Ужасно! Отвратительно! – вторил брату Катул Цезарь.
– Избавьте меня от этой ханжеской трескотни! – презрительно молвил Гней Октавий. – Вы сами согласились, что это необходимо, и дали свое молчаливое согласие на том условии, что останетесь в стороне. Так что бросьте ваши завывания! Я сделал то, чего вы желали, – усмирил центурии. Выжившие не проголосуют за законы Цинны, чем бы он теперь их ни соблазнял.
Потрясенный до глубины души, Катул Цезарь смотрел на Октавия во все глаза:
– Никогда в жизни я не потворствовал насилию как методу политической борьбы, Гней Октавий! Я не давал на это своего согласия, ни молча, ни вслух. Если ты так истолковал мои слова или слова моего брата, то совершил ошибку. Насилие дурно само по себе, но это! Настоящая резня! Категорически недопустимая и достойная одного – проклятия!
– Мой брат прав, – сказал Луций Цезарь, утирая слезы. – Теперь на нас клеймо, Гней Октавий. Самые убежденные из консерваторов оказались ничем не лучше Сатурнина и Сульпиция.
Видя, что никакие его речи не убедят этого последователя Помпея Страбона в том, что он совершил ужасную ошибку, Катул Цезарь попытался до некоторой степени вернуть свое dignitas.
– Как я слышал, на протяжении двух дней Марсово поле представляет собой поле ужаса, старший консул. Родственники пытаются опознать тела и забрать их, чтобы похоронить, но твои подручные зарывают трупы, прежде чем родственники успевают их увидеть, в широком рву, среди грядок лука и салата рядом с Прямой улицей – какой ужас! Из-за тебя мы стали хуже варваров, потому что мы не настолько глупы, как варвары! Теперь мне жизнь не мила.
Октавий осклабился:
– На этот случай у меня есть предложение: вскрой себе вены, Квинт Лутаций! Пойми, это уже не Рим твоих высокородных предков. Это Рим братьев Гракхов, Гая Мария, Сатурнина, Сульпиция, Луция Суллы и Луция Цинны! Мы вляпались по самые уши, и теперь все летит кувырком. Если бы все шло по правилам, не было бы резни Октавиева дня.
Братья Цезари были потрясены: они поняли, что Гней Октавий Рузон горд тем, что совершил.
– Кто дал тебе денег, чтобы нанять убийц, Гней Октавий? Не Марк ли Антоний? – спросил Луций Цезарь.
– Да, он изрядно потратился. И не жалеет об этом.
– С него станется! – фыркнул Катул Цезарь. – Антоний есть Антоний! – Он вскочил и хлопнул себя по ляжкам. – Зло причинено, и его ничем не загладить. Но учти, Гней Октавий, я к этому непричастен. Я чувству себя, как Пандора после того, как она открыла свой ящик.
– Что с Луцием Цинной и с народными трибунами? – осведомился Луций Цезарь.
– С ними покончено, – лаконично ответил Октавий. – Разумеется, они объявлены вне закона. Надеюсь, очень скоро их постигнет кара.
Катул Цезарь остановился в дверях таблиния Октавия и оглянулся с суровым видом:
– Ты не вправе лишить действующего консула его консульского империя, Гней Октавий. Начало всему этому положила попытка оппозиции отнять у Луция Суллы его консульское право командовать римскими армиями. Но даже тогда никто не пытался лишить его консульской власти. Нет таких римских законов, установлений, прецедентов, чтобы магистрат, управляющий орган, комиции могли подвергнуть курульного магистрата судебному преследованию и тем более лишить его должности до истечения срока его полномочий. Народного трибуна можно изгнать из сената, если действовать по правилам, квестора тоже, если он изменил своему долгу. Но на консулов и всех других курульных магистратов, пока не истечет их срок, это не распространяется, Гней Октавий.
Гней Октавий самодовольно усмехнулся:
– Знаешь, Квинт Лутаций, я раскрыл секрет успеха. Он в том, чтобы поступать по своему усмотрению.
Луций Цезарь поспешил за братом прочь из таблиния Октавия.
– Завтра заседает сенат! – крикнул тот им вслед. – Предлагаю вам присутствовать.
В Риме, в отличие от Иерусалима или Антиохии, не терпели пророков и прорицателей; жрецы совершали ауспиции в сугубо римском духе – отлично зная, что им не дано предвидеть ход будущих событий, и просто строго следуя неизменному ритуалу.
Но был, впрочем, и в Риме свой пророк – патриций из рода Корнелиев по имени Публий Корнелий Куллеол. Никто уже не помнил, чему он был обязан своим неблагозвучным прозвищем, ибо он был древним старцем, как всем казалось, с начала времен. Он влачил полунищенское существование, пробавляясь подачками от своих родичей Сципионов, и обычно сидел на Форуме, наверху короткой лестницы маленького круглого храма Венеры Клоакины, который оказался встроенным в более новое здание базилики Эмилия. Не будучи ни Кассандрой, ни религиозным фанатиком, он ограничивался предсказаниями результатов политических событий, не смея предрекать ни конца света, ни пришествия нового, неизмеримо более могущественного божества. Зато он предсказал Югуртинскую войну, Сатурнина, Союзническую войну и войну на Востоке, против Митридата, – последняя, предостерегал он, затянется на целое поколение. Благодаря этим успехам он пользовался большим уважением, несмотря на его смехотворный когномен, означавший «маленькая мошонка».
На заре того утра, когда братья Цезари вернулись в Рим, сенат собрался в первый раз после бойни в Октавиев день; этого заседания сенаторы боялись сильнее, чем любого другого на их памяти. До сих пор худшими злодеяниями, совершенными именем Рима, становились дела отдельных лиц или толпы на Форуме; резню же в Октавиев день могли заклеймить как преступление сената.
Сидевший на верхней ступеньке храма Венеры Клоакины Публий Корнелий Куллеол был настолько привычной фигурой, что никто из отцов-сенаторов не обратил на него особого внимания, хотя он всех их видел и радостно потирал ручонки. Если он сделает то, за что ему уже щедро заплатил Гней Октавий Рузон, то в случае успеха больше не должен будет сидеть на этих жестких ступеньках и сможет наконец оставить свое пророческое ремесло.
Сенаторы толпились в портике курии Гостилия, разбившись на кучки, но обсуждая одно и то же – Октавиев день – и громко удивляясь, как такое дело можно решить на заседании. Тут раздался душераздирающий визг, и все поневоле обернулись на Куллеола, вставшего на один большой палец ноги, выгнувшего спину, растопырившего руки, скрючившего пальцы и пускавшего обильную пену. Куллеол не имел привычки пророчествовать в трансе, поэтому все решили, что у него случился припадок. Сенаторы и завсегдатаи Форума глазели на него в остолбенении, но некоторые бросились ему на помощь и попытались уложить его на землю. Он не глядя отбивался, царапаясь, кусаясь и все шире разевая рот. Наконец он снова издал крик, в котором в этот раз можно было разобрать слова.
– Цинна! Цинна! Цинна! Цинна! Цинна! – вопил он.
Вся аудитория Куллеола напрягла слух, чего отродясь не бывало.
– Если Цинну и шестерых его плебейских трибунов не отправить в изгнание, Рим падет! – выкрикнул он, трясясь и корчась, после чего повторил то же самое несчетное число раз, пока не рухнул и не был унесен в бессознательном состоянии.
Потрясенные сенаторы обнаружили, что консул Октавий давно уже пытается начать заседание, и ринулись, обгоняя друг друга, в курию Гостилия.
Впрочем, то, как старший консул собирался объяснить ужасные события на Марсовом поле, так и осталось неведомо; Гней Октавий Рузон предпочел сосредоточить все свое внимание (как и внимание сената) на небывалом приступе одержимости у Куллеола и на том, что тот попытался донести до внимания Форума.
– Если младший консул и шестеро плебейских трибунов не будут изгнаны, Рим падет, – задумчиво повторил Октавий за прорицателем. – Великий понтифик и фламин Юпитера, что скажете об этих пророчествах Куллеола вы?
Великий понтифик Сцевола покачал головой:
– Я, пожалуй, воздержусь и промолчу, Гней Октавий.
Октавий уже открыл рот, чтобы настоять, но нечто во взгляде Сцеволы заставило его передумать: перед ним был человек, который мог пойти на многое, защищая свои консервативные убеждения, но запугать и одурачить его было совсем не просто. Не раз уже Сцевола безоговорочно осуждал в сенате приговор, вынесенный Гаю Марию, Публию Сульпицию и остальным, требовал помиловать их и призвать назад, в Рим. Нет, с великим понтификом тягаться не стоило; Октавий знал, что располагает куда более покладистым свидетелем в лице Луция Корнелия Мерулы, которого он успел на всякий случай сильно припугнуть.
– Фламин Юпитера? – торжественно обратился к нему Октавий.
Фламин Юпитера встал, он был очень взволнован.
– Принцепс сената Луций Валерий Флакк, Гней Октавий, курульные магистраты, консуляры, отцы, внесенные в списки. Прежде чем высказаться о словах прорицателя Куллеола, я должен поведать вам о происшедшем вчера в храме Великого Бога. Я, как всегда, прибирался в целле, как вдруг обнаружил позади постамента статуи Великого Бога лужицу крови. Рядом лежала голова птицы – дрозда, merula. Это прозвище ношу я сам. На что же взирал я, тот, кому по древнейшим нашим, самым почитаемым законам запрещено становиться свидетелем смерти? На свою смерть? На смерть Великого Бога? Не зная, как истолковать это предзнаменование, я обратился к великому понтифику, но и он не знал. Тогда мы обратились в особую коллегию младших жрецов, decemviri sacris faciundis, и попросили их заглянуть в Книги Сивиллы, но и они не дали ответа.
Завернутый в двухслойный плащ, как требовал его сан, Мерула обильно потел, чего с ним отродясь не бывало; все его гладкое круглое лицо под остроконечным шлемом из слоновой кости блестело от пота. Сглотнув, он продолжил:
– Но я кое-что выяснил сам. Найдя голову дрозда, я стал искать тело птицы и нашел под золотым плащом статуи Великого Бога ее гнездо. В нем лежали шесть мертвых птенцов. Мне понятно, что это, должно быть, натворила кошка: поймала птицу и съела, оставив только голову. Но до птенцов не добралась, и они умерли от голода.
Фламин Юпитера поежился:
– Я нечист. После этого заседания сената я должен продолжить церемонии по очищению себя и храма Юпитера Всеблагого Всесильного. То, что я стою перед вами, – результат моих раздумий о знамении, и не столько о гибели дрозда, сколько обо всем случившемся. Однако лишь после того, как я услышал слова Публия Корнелия Куллеола, произнесенные в пылу столь не свойственного ему пророческого исступления, до меня дошел весь истинный смысл.
В сенате стояла мертвая тишина, все глаза были обращены на фламина Юпитера, слывшего человеком честным до наивности, что побуждало принимать его речи всерьез.
– «Цинна» не значит «дрозд», – продолжил жрец, – но это слово значит «пепел», в него, в пепел, я и превратил голову мертвой птицы и тела шести птенцов. Как требовал того очистительный обряд, я предал их огню. Я, конечно, могу только гадать об истинном значении всего этого, но сейчас мне представляется, что знамение указывает на Луция Корнелия Цинну и шесть его плебейских трибунов. Они прогневали Великого Бога, из-за них Риму грозит огромная опасность. Кровь означает, что из-за консула Луция Цинны и тех шестерых трибунов произойдут раздоры и смуты. Я нисколько в этом не сомневаюсь.
Сенат загудел, решив, что Мерула закончил, но стих, когда он снова заговорил.
– И еще одно, отцы, внесенные в списки. Ожидая в храме великого понтифика, я взглянул для утешения в улыбающееся лицо статуи Великого Бога. Оно хмурилось! – Он задрожал, бледный как полотно. – Я выбежал из храма, потому что не смог находиться внутри.
Его волнение передалось остальным, гудение возобновилось.
Гней Октавий Рузон, поднявшись, уставился на братьев Цезарей и на великого понтифика Сцеволу так, как смотрела, должно быть, та кошка на голову сожранного ею в храме дрозда.
– Полагаю, члены сената, теперь наш долг – выйти на Форум и с ростры рассказать всем о случившемся. Вы спросите тех, кто вас выслушает, что они об этом думают, после чего сенат продолжит заседание.
Рассказ о случившемся с Мерулой в храме и о пророчестве Куллеола прозвучал с ростры; слушатели пришли в ужас, особенно после данного Мерулой разъяснения и слов Октавия, что он потребует отстранения Цинны и всех шестерых народных трибунов. Никто из присутствующих не возражал.
Вскоре после этого Гней Октавий Рузон повторил в сенате, что Цинна и народные трибуны должны быть лишены их магистратур.
Тогда слово взял великий понтифик Сцевола:
– Принцепс сената, Гней Октавий, отцы, внесенные в списки! Как всем вам известно, я – один из самых преданных сторонников римских установлений и законов, которые из них вытекают. По моему мнению, не существует законного способа отстранить консула от власти до истечения срока его полномочий. Однако есть еще религиозные запреты и ограничения. Не может быть сомнений, что Юпитер Всеблагой Всесильный выразил свою озабоченность двумя способами: через собственного жреца и через старца, известного своими правдивыми предсказаниями. Учитывая эти два почти совпавшие события, я предлагаю объявить консула Луция Корнелия Цинну nefas, святотатцем. Формально это не лишает его консульской магистратуры, но нечестивец не может исполнять обязанности консула. То же самое относится к плебейским трибунам.
Как Октавий ни хмурился, понтифика лучше было не перебивать; казалось, Сцевола придумал выход – увы, такой, что Цинна избегал смертного приговора, а целью Октавия была расправа. Цинну необходимо было вывести из игры!
– Свидетелем происшедшего в храме Юпитера Всеблагого Всесильного стал сам flamen Dialis. Он – жрец Великого Бога, а жречество древнее царского правления. Ему нельзя воевать, нельзя смотреть на мертвецов, нельзя прикасаться к металлу, из которого делается оружие. Посему я предлагаю назначить фламина Юпитера Луция Корнелия Мерулу консулом-суффектом – не на место Луция Цинны, а его местоблюстителем. Таким образом, старшему консулу Гнею Октавию не придется обходиться без коллеги. Лишь в чрезвычайной ситуации, во время войны с италиками, был нарушен обычай, и у власти находился один консул, но в мирное время никто не должен править единолично.
Решив сделать хорошую мину при плохой игре, Октавий кивнул:
– Я согласен, Квинт Муций. Пусть фламин Юпитера сидит в курульном кресле Луция Цинны как местоблюститель! Теперь я предлагаю сенату проголосовать по двум тесно связанным вопросам. Тех, кто за то, чтобы рекомендовать центуриатным комициям объявить консула Луция Цинну и шестерых плебейских трибунов святотатцами, и изгнать их из Рима и из всех римских владений, и назначить фламина Юпитера консулом-местоблюстителем, – прошу встать справа от меня. Тех, кто против, – слева. Прошу разделиться.
Сенат одобрил это двойное постановление без единого голоса против, после чего центуриатные комиции почти из одних сенаторов собрались на Авентине, за померием, но внутри стен, ибо собраться на пропитавшейся кровью земле септы было бы немыслимо. Предложение приобрело силу закона.
Старший консул Октавий объявил, что удовлетворен, и Цинна был отстранен от управления. Правда, Гней Октавий ничего не предпринимал для укрепления своего положения и защиты Рима от беглецов, официально объявленных нечестивцами. Он не собирал легионов и не писал своему повелителю – Помпею Страбону. Пребывая в уверенности, что Цинна и шестеро его плебейских трибунов со всех ног кинутся на далекий африканский остров Церцина, к Гаю Марию и восемнадцати другим беглецам.
Цинна, однако, не собирался покидать Италию, шестеро его плебейских трибунов тоже. Спасшиеся от резни на Марсовом поле, они забрали деньги и скудные пожитки и встретились у камня-указателя на Аппиевой дороге, у самых Бовилл, чтобы решить, куда отправиться дальше.
– Я беру Квинта Сертория и Марка Гратидиана с собой к Ноле, – распорядился Цинна. – Легионом у Нолы командует Аппий Клавдий Пульхр, которого солдаты ненавидят. Я намерен сместить его и по примеру моего тезки Суллы повести легион на Рим. Но сначала мы должны собрать наших многочисленных сторонников. Вергилий, Милоний, Арвина, Магий, вас я посылаю за поддержкой к италикам. Говорите всем одно и то же: что римский сенат изгнал своего законно избранного консула за его намерение равномерно распределить новых граждан по трибам, а также из-за убийства Гнеем Октавием тысяч достойных и законопослушных римлян, собравшихся на законную сходку. – Он выдавил усталую улыбку. – На полуострове не избежать новой войны! Мы с Корнутом заберем тысячи мечей и прочего военного снаряжения марсов и их союзников, оно хранится в Альбе-Фуценции. Раздать его – твоя задача, Милоний. А я, отобрав легион у Аппия Клавдия, нагряну на склады в Капуе.
Четверо народных трибунов устремились в Пренесте, Тибур, Реате, Корфиний, Венафр, Интерамнию и Сору, где просили их выслушать и легко добивались внимания. Италики, хоть и устали воевать, отдавали все деньги, какие могли, на новую кампанию. Силы постепенно росли, вокруг Рима медленно сжималось кольцо.
Сам Цинна без труда добился смещения Аппия Клавдия Пульхра, командира осаждавшего Нолу легиона. Тот, суровый и отчужденный, втайне оплакивал смерть жены и судьбу своих шестерых детей-сирот и сложил командование, не предприняв попытки напомнить солдатам об их долге. Сев на коня, он поскакал к Метеллу Пию в Эсернию.
Добравшись до Нолы, Цинна понял, насколько ему повезло, что при нем находился Квинт Серторий. Тот, прирожденный военный человек, еще за двадцать лет до этого заслужил уважение простых солдат; в Испании те увенчали его травяным венком, еще дюжины менее значимых венков он удостоился в кампаниях против нумидийцев и германцев, он был родственником Гая Мария, а этот легион он набрал в Италийской Галлии тремя годами раньше. Солдаты хорошо его знали и любили столь же сильно, сколь ненавидели Аппия Клавдия.