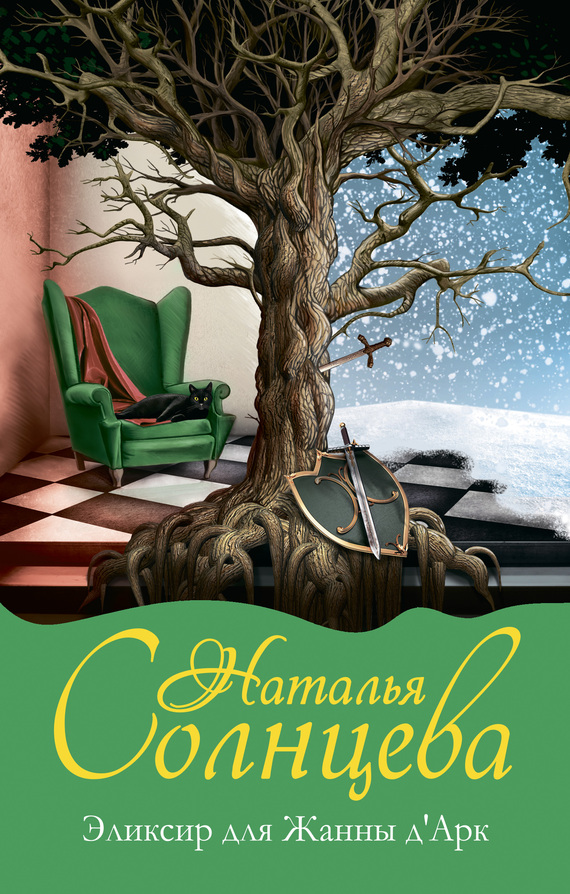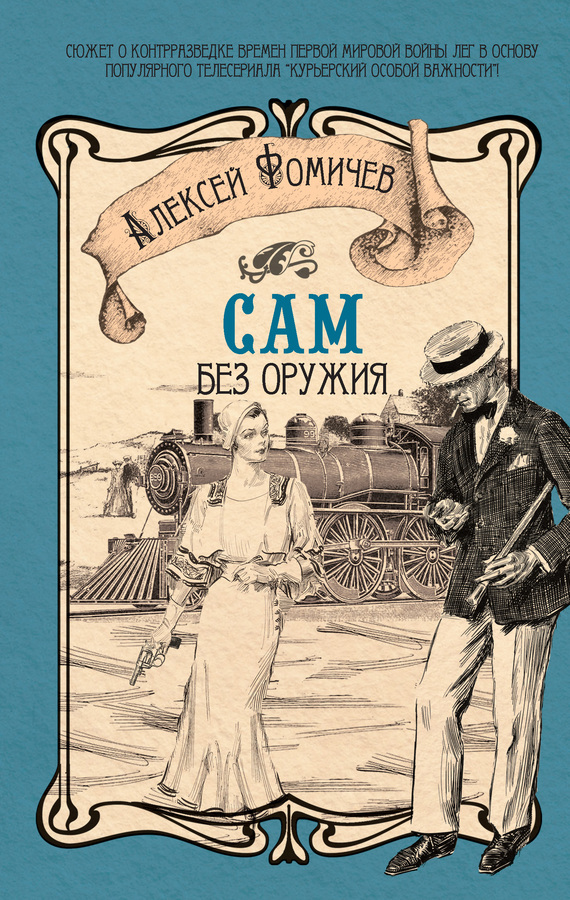Наперекор судьбе Винченци Пенни

– Во всяком случае, это самое безопасное место, которое у нас есть, – заметил Бой. – Думаю, оно еще раз послужит нам тихой гаванью. Конечно, сейчас трудно что-либо утверждать. Нам остается лишь надеяться.
– В прошлую войну нам просто повезло, – сказала леди Бекенхем. – В смысле подготовки, с устройством госпиталя было гораздо меньше возни. А сейчас наша главная забота – устройство туалетов. На этаже, где предполагается разместить спальни, их всего два. Еще один – на нашем этаже, но это наш личный туалет, и Бекенхем проводит там половину своего времени. Придется в спешном порядке сооружать дополнительные туалеты. Уверена, что школа в состоянии это оплатить. Или следует обратиться за правительственной субсидией?
– В любом случае может оказаться, что заниматься этим будет некому, – заметила Селия. – Ты помнишь, как в ту войну ощущалась острая нехватка мужских рабочих рук.
– Мы с Билли готовы вам помочь, – с энтузиазмом предложил Джей. – Когда в прошлый раз мы меняли крышу, то научились и водопроводным работам.
– Сомневаюсь, – возразила ему леди Бекенхем. – Эта работа куда серьезнее, чем прикрутить один кран или покрыть пол плиткой. Не забывай, что никто тебя из армии не отпустит. Похоже, планы под угрозой срыва. Стыдно, конечно. Очень стыдно.
– Постойте, – не сдавался Джей. – Здесь же был водопроводчик. Билли, помнишь его фамилию?
– Барбер, – ответил Билли, который всегда присоединялся к семейному торжеству Литтонов, когда в Эшингем приезжала Барти. – Но он наверняка тоже ушел в армию.
– Точно, Барбер. Помню, он еще хвастался, что у него очень смышленая жена. Он ее научил своему ремеслу. Говорил, что она может работать не хуже, чем он. Если он ушел в армию, давайте позовем ее.
– Замечательная мысль, – оживился лорд Бекенхем. – Женщина-водопроводчик. Надеюсь, она хорошенькая?
– Возможно, и была когда-то, – ответил Джей, подмигивая Билли. – Кажется, ей сейчас лет пятьдесят.
– Можно и в пятьдесят оставаться привлекательной, – холодно заметила Селия.
– А это просто находка, – обрадовалась леди Бекенхем. – Билли, ты знаешь, где они живут? Съезди к ним завтра же и пригласи сюда.
Билли съездил и договорился. Глава семьи действительно уже был в армии. Но в Новый год за работу взялись его жена и дочь, которая, к вящему удовольствию лорда Бекенхема, оказалась миловидной девушкой. Но что еще важнее, она работала столь же умело, как и ее мать. Они обе часами трудились в холодных помещениях Эшингема. К концу февраля было сооружено шесть новых туалетов, расположенных рядом с просторной ванной комнатой второго этажа.
– Ваша светлость, на этом этаже легче обеспечить нужный напор воды, чем на верхнем. Поэтому я рискнула бы вам предложить установить здесь еще и пару душевых кабин. Иначе ребятам будет трудно мыться.
Леди Бекенхем согласилась, что так оно и есть. Мать и дочь Барбер установили душевые. Затем Билли Миллер сказал, что две душевые кабины на такую ораву недостаточно, и предложил установить еще две на первом этаже, рядом с кладовой. Ученики получали дополнительные возможности для соблюдения личной гигиены, Барберы – дополнительный заработок, а Билли – дополнительные основания для общения с мисс Джоан Барбер. К весне все установленное оборудование исправно работало, а роман Билли и Джоан набирал силу.
Никогда еще Кит не был так счастлив, что говорило о многом. Любимое дитя своих родителей, мальчик, выросший в комфорте, практически никогда не слышавший отказов в своих просьбах, не имел причин жаловаться на жизнь. Но когда морозная зима сменилась ранней весной и над шотландскими вересковыми пустошами в ослепительно-синем небе запели жаворонки и пустельги, Кит почувствовал себя почти в раю. Он вдруг понял, что всегда мечтал летать. Полеты дарили ему головокружительную, пьянящую свободу и силу.
Когда он впервые залез в кабину самолета и машина, слегка покачиваясь, поднялась в воздух, когда он увидел, как земля остается внизу, а вокруг – только небо, ему было не сдержать охвативших его чувств. Он возбужденно кричал и смеялся, испытывая такой восторг, перед которым меркли все прежние «наземные» удовольствия. С тех пор острота ощущений не оставляла его, а возрастающее количество часов, проведенных в воздухе, не делало полеты привычным, рутинным занятием. Он летел сквозь облака, он скользил над зубчаткой лесов и просторами холмов. Он научился ориентироваться не только по карте, но и по узорам дорог и дорожек, нередко заменявших ему карту. Кит чувствовал себя неуязвимым. Держа в руках штурвал самолета, он ликовал, ощущая, что не только самолет, но и весь окружающий мир подчиняется его воле. Это была его стихия. Кит знал, что родился покорителем пространств. В определенном смысле небо стало для него родным домом. В те дни, когда у него не было полетов, он не знал, куда себя деть. В душе появлялась пустота. Но стоило ему снова подняться в воздух, и он мгновенно оживал, обретая прежнюю радость.
Не всегда в шотландском небе сияло солнце. Не всегда самолет вел себя так, как хотелось бы. Но чувство легкости и душевного комфорта не оставляло Кита. Он был на своем месте. Он играючи приобретал опыт военного летчика. Умение ориентироваться было у него врожденным, а приборная доска с обилием постоянно меняющихся данных казалась ему предельно простой. Он чувствовал машину, более того, он ощущал самолет продолжением себя и потому мог летать и в бурю, и в условиях густой облачности. Самый сильный ветер не мог заставить его отклониться от курса. А летные задания все усложнялись. Групповой полет – в авиации это называлось «идти в конвое» – в любой момент мог превратиться в сугубо индивидуальный, когда все зависело только от твоего умения, сообразительности и интуиции. Однако Киту и это давалось значительно легче, чем многим его однополчанам. Его самолет никогда не терял управления. Если Кит вдруг камнем падал вниз или летел в перевернутом положении, это был только его выбор или выполнение задания. Он обожал мертвые петли. В общем-то, это нравилось всем ребятам. Если бы командование позволило, они бы часами «петляли» в небе.
«Странная» война продолжалась месяц за месяцем. Молодые летчики набирались опыта и все сильнее жаждали настоящих боевых действий. Наконец в марте их эскадрилье было приказано передислоцироваться в городок Биггин-Хилл, находившийся в графстве Кент, близ Бромли. Киту и его однополчанам это название ничего не говорило. Они и представить не могли, что очень скоро Биггин-Хилл станет вызывать в душах и сердцах те же чувства и воспоминания, что вызывали такие памятные места войны, как Дюнкерк, Арнем и пляжи Нормандии.
Киту и большинству остальных летчиков эскадрильи предстояло летать на новых «спитфайрах», успевших стать легендарными самолетами. Они имели те же моторы, что и «харрикейны», но меньше весили, а потому необычайно быстро набирали высоту. «За каких-то восемь минут мы поднимаемся на двадцать тысяч футов, – с гордостью писал матери Кит. – Мы можем летать со скоростью 362 мили в час. В воздушном бою они просто великолепны. И не волнуйся: кабина защищена пуленепробиваемым стеклом».
Селии этот аргумент казался не слишком убедительным.
В отличие от других летчиков, Кит был бы не прочь задержаться в Шотландии подольше. Помимо счастья в воздухе, он нашел счастье на земле, где теперь был столь же счастлив, как и за штурвалом самолета. Он влюбился в Катриону Макьюэн – дочь врача из деревни Кальдермир, находившейся вблизи их авиабазы. Этой черноволосой синеглазой девушке не исполнилось и восемнадцати. Она собиралась покинуть родные места и поехать в Эдинбург, чтобы учиться на медсестру при Эдинбургском лазарете. С Китом они встретились на танцах. Это была любовь с первого взгляда. У Кита и раньше были подруги, к которым он относился почти так же, как к друзьям мужского пола. Он ценил их привлекательную внешность, с удовольствием гулял, взявшись за руки, иногда целовался. Но дальше никогда не заходил. Катриона сумела занять его сердце и мысли. Абсолютное счастье, какое он испытывал в ее присутствии, пьянящее телесное желание – все это напоминало ему авиацию. Киту казалось, что и здесь он нашел то, что бессознательно искал.
Их отношения не выходили за грань поцелуев и ласк. Они оба пока еще не знали интимной близости и старались не торопиться, уважая друг друга и подчиняясь довольно консервативным шотландским традициям. Однако чем дальше, тем все более сильными и страстными становились их поцелуи, в которых теперь ощущалось сексуальное желание. Смелее становились и ласки. Кита вдруг потянуло на познание тела Катрионы. В один из вечеров девушка мягко, но решительно убрала его руку со своего бедра и дрожащим голосом сказала, что если они не прекратят, то скоро оба попадут в беду… Катриона никак не думала, что их расставание наступит всего через сорок восемь часов, и когда Кит сообщил ей об этом, она заплакала.
Люк опять задерживался, и Адели это очень не нравилось. По его просьбе она приготовила обед к семи часам вечера и уложила детей пораньше. Мадам Андре согласилась за ними присмотреть.
– А вы с мсье Люком сходите куда-нибудь, развейтесь. Выпейте по рюмочке вина или посмотрите кино. Кстати, в «Одеоне» идет чудный фильм «Бальная записная книжка». Вам наверняка понравится.
Мадам Андре восхищалась Аделью и сочувствовала ее одинокой и весьма нелегкой жизни. Наблюдательная француженка заметила и старую норковую шубу, и еще более старую, но не утратившую своего великолепия коляску. Она видела мать Адели и понимала, что Адель была рождена для более счастливой и обеспеченной жизни.
Иное отношение вызывал у мадам Андре Люк. Ему она не симпатизировала. Поначалу, договариваясь о найме квартиры, он был само очарование, но затем обращал на мадам Андре не больше внимания, чем на предмет мебели. Она не сомневалась, что Люк считает ее глупой старухой, как и всех консьержек. Однако он недооценивал наблюдательность мадам Андре, также свойственную всем консьержкам. А она очень гордилась своей способностью подмечать мелочи и делать выводы. Мадам Андре заметила, что с некоторых пор Люк стал возвращаться домой все позже и позже. Пару раз он вообще вернулся около полуночи, а один раз и того позже. Такому поведению семейного мужчины было лишь одно объяснение, и мадам Андре очень боялась, что Люк обманывает мадемуазель Адель.
Адель, со своей стороны, ничуть не боялась обмана, и причина ее уверенности была проста: у Люка не было денег даже на самое скромное ухаживание. Он содержал ее и детей, а кроме них, ему приходилось содержать свою капризную и требовательную жену Сюзетт, жившую в теплой, комфортабельной квартире. Любая женщина, ожидавшая от Люка чего-то большего, чем порция аперитива, была бы крайне разочарована. Вся ревность, все негодование Адели было направлено на свою главную соперницу – его работу. Если Люк отсутствовал дома, значит он сидел в своем теплом, уютном кабинете в издательстве «Константен и сыновья» на бульваре Османа. Работа была его любовницей, с которой он постоянно изменял Адели. Он забывал свою chre famille ради тепла, комфорта и интересных разговоров. Адель в этом не сомневалась.
Такая убежденность нагляднее всего показывала, что Адель Литтон по-прежнему оставалась англичанкой, не способной понять нюансы французской философии.
– Мне пора уходить, – глядя на каминные часы в спальне, сказал Люк. – Меня ждет обед.
– Всего лишь обед? Люк, у тебя усталый вид.
– Да, я устал. Очень устал. Работаешь как проклятый, а потом приходишь в неприбранную квартиру и знаешь, что опять придется спать урывками. Никак не думал, что Адель – такая никудышная хозяйка.
– Прежде всего, она англичанка. Пожалуй, мне стоило бы тебя предупредить.
– По правде говоря, ты должна была меня предупредить. Но что теперь говорить? Уже слишком поздно.
– Люк, никогда не бывает поздно. Тебе ли этого не знать? Нет ничего необратимого.
– Даже двое детей?
– И здесь есть разумное решение, – пожала она плечами. – Отправь ее вместе с детьми в Англию. Тем более она хочет туда вернуться. Там ей будет гораздо лучше.
– Но… я люблю своих детей. Очень люблю. Они такие милые, такие умненькие.
– Тогда мне нечем тебе помочь, – сказала она, снова пожимая плечами. – Значит, все-таки есть что-то необратимое.
Она сдвинула свою руку ниже и принялась его ласкать, улыбаясь и чувствуя приближение неминуемого.
– Сюзетт…
Обеду придется подождать. Люк отдался наслаждениям. Как здорово заниматься тем, что тебе приятно, и не беспокоиться насчет разбуженных и плачущих детей. Как приятно лежать в этой чудесной, теплой квартире. Он успел забыть, как здесь чудесно.
Наконец он сказал, что ему пора. Он сел на краешке постели, закурил сигарету «Голуаз». Сюзетт протянула руку, взяла у него сигарету, затянулась, потом вернула ему и стала ласкать его спину.
– А ты исхудал, chri.
– Да, поскольку жизнь тжела. Для всех нас, но в особенности для меня. Похоже, Адель до сих пор не понимает, сколько жертв я вынужден приносить ради нее. – Он вздохнул, посмотрел на обнаженную Сюзетт и вдруг начал ласкать ей грудь. – А ведь у нас, Сюзетт, могли быть свои дети. Ты ведь мне часто это предлагала. Зачем я вел себя так эгоистично? Если бы не мой проклятый эгоизм, все могло бы пойти совсем по-другому.
За день до отлета из Шотландии Киту дали увольнительную, и они с Катрионой отправились прогуляться по холмам вокруг деревни. Девушка была явно расстроена, тогда как его настроение было более радостным.
– Ну что, доволен? – наконец спросила она с почти нескрываемой досадой.
Кит был вынужден признаться, что да. Он рад, что наконец-то займется делом, которому его учили.
– Я тоже рада за тебя, но я бы лучше предпочла остаться с тобой. Наверное, в этом заключается разница между мужчинами и женщинами.
– Наверное. Мне очень жаль, дорогая.
Последнее слово Кит добавил с нервозностью в голосе. Раньше он никогда не называл Катриону так.
Это слово волшебным образом подействовало на девушку. Она протянула Киту свою маленькую ладошку и улыбнулась:
– Кит, тебе не в чем себя упрекать. Я понимаю. И твое настроение вполне естественно. Когда теперь я снова увижу тебя?
– В первый же мой отпуск, – ответил Кит, словно забывая, что с началом боевых действий отпуска сразу же отменят, забывая, что между Лондоном и Эдинбургом весьма приличное расстояние и билет на поезд стоит денег. – Я буду писать тебе каждый день.
– Не говори так. Вряд ли у тебя получится писать мне каждый день, а мне это лишь добавит волнений.
Столь бесхитростная логика глубоко тронула Кита.
– Тогда я буду писать при всякой удобной возможности.
– Это уже лучше.
– Я тебя люблю, – произнес Кит, глядя в ее синие глаза. – Я тебя очень люблю. Ты такая красивая.
– И я тебя люблю.
А потом, совершенно внезапно, поскольку он очень любил Катриону и скорая разлука с ней вдруг сделалась для него ощутимой и болезненной, Кит, чтобы хоть немного унять боль, сказал ей:
– Я бы хотел, чтобы… Я подумал, если мы… – Всегда такой красноречивый, он сейчас осекся и замолчал.
– О чем ты подумал, Кит? – спросила Катриона, улыбаясь и с нежностью глядя на него.
– Ты знаешь, о чем я подумал. Наверняка знаешь, правда?
– Да. Знаю.
– И что ты ответишь?
– Я отвечу «да». Да, да, да!
– Значит, мы… помолвлены?
– Да. Конечно, неофициально.
– Естественно. Я ведь даже не преподнес тебе кольцо.
– Это не имеет значения. Я и так знаю, что люблю тебя, Кит.
– И я люблю тебя, Катриона.
На этом они расстались, пообещав всегда оставаться верными друг другу. Вместо колец они обменялись фотографиями и любовными письмами. Текст писем был одинаковым и скреплялся их подписями. Свое письмо Кит спрятал во внутренний карман мундира и пообещал, что всегда будет носить у сердца. Катриона, чьи глаза потемнели от слез, пообещала, что, пока жива, никогда не полюбит другого.
А наутро Кит уже летел в транспортном самолете к новому месту службы и больше думал о новой жизни, чем о прежней, какой бы прекрасной та ни была. На календаре было первое апреля. «Странная» война неумолимо превращалась в настоящую.
Первый налет немецкая авиация совершила не на Лондон и даже не на Дувр, а на военно-морскую базу на Оркнейских островах. Англичанам на небольшом примере показали, что их ждет в ближайшем будущем. Затем Германия вторглась в Данию и Норвегию. Налет выявил полную неготовность английской службы ПВО к отражению ударов с воздуха. Англию захлестнула волна возмущения и недовольства правительством. Чемберлен почти мгновенно лишился большинства в палате общин, а через несколько дней ее возглавил Черчилль, ставший премьер-министром. Тогда Англия впервые услышала его необычайно сильный и властный голос, который потом они регулярно слышали на протяжении всех пяти военных лет. Жестокий в своей честности, грубый в своей искренности, но способный вдохновлять, хотя Черчилль не обещал им скорой и легкой победы. Наоборот, премьер-министр говорил, что дорога к победе может оказаться долгой и неимоверно трудной, где англичан ждут «кровь, пот, слезы и работа на износ… Так не будем же мешкать и вступим на эту дорогу, объединив наши усилия».
Селия сидела у приемника, слушала речь премьера и все сильнее холодела от ужаса. Она думала о Джайлзе, по-прежнему находящемся во Франции. О Бое, который должен был вот-вот покинуть Лондон. О Джее, с нетерпением ожидавшем отправки к местам возможных боевых действий. И конечно же, прежде всего она думала о Ките. Всех их затягивало в ужасный, страшный вихрь войны. По щекам Селии текли слезы, но слова Черчилля, как ни странно, несли ей непонятное успокоение.
Глава 27
– Дорогая, я думаю, что теперь тебе действительно лучше вернуться в Англию. И нашим малышам тоже. Я все сильнее боюсь за вас.
Люк смотрел на нее с нежностью и искренней заботой. У Адели комок подкатил к горлу.
– Люк… нет. Я… не могу. Только не сейчас. Здесь мой дом. Здесь дом наших детей.
– Но этот дом становится опасным. И именно сейчас, когда Гитлер захватывает страну за страной. С моей стороны было бы жестоко настаивать, чтобы ты и дети оставались здесь. Жестоко и эгоистично.
– Неужели ты думаешь, что он вторгнется во Францию и дойдет до Парижа?
– Боже сохрани. Нет, конечно. Но я хочу, чтобы ты и малютки находились в безопасности. И времени для отъезда остается все меньше.
Адель вздохнула. Она не имела права бросать Люка. Было бы крайне жестоко забрать детей и уехать от него. Он ведь ее муж, а она его жена, и не имеет значения, что это не подтверждено официальными бумагами или церковным обрядом. Здесь ее дом, здесь у нее семья. Нужно помнить об этом и быть смелой.
– Нет, Люк. Я никуда не поеду. Прости. Тебе не удастся так легко от меня избавиться.
Разговор происходил 9 мая 1940 года.
– Мама? Ты слушала новости? Прости за глупый вопрос. Наверняка слушала. Гитлер захватил Голландию. И Бельгию с Люксембургом тоже. Боже мой, это настоящая война. Бой был прав.
– Когда он уезжает?
– Сам не знает. Их могут отправить в любой момент. Как жаль, что Делл не с нами.
– Мне тоже жаль.
– Ты не думаешь, что нам пора увозить детей в Эшингем? Я про девочек.
– Да, согласна. Здесь с каждым днем все опаснее.
– А сейчас… ты что собираешься делать?
– Сейчас? – Тон матери явно намекал на всю глупость вопроса. – Я отправляюсь в издательство. На работу.
Поднимаясь по лестнице в свой любимый кабинет, Селия думала о том, как работа помогла ей пережить прошлую войну. Поможет и сейчас. За этими стенами она сумеет укрыться от реальности, спрятаться от страхов, убедить себя, что книги, каталоги, книжные магазины, купоны – это самое главное. Так оно и есть: войны кончаются, а жизнь продолжается. Нельзя поддаваться настроениям большинства, у которых война заслонила все. Нет, война не может и не должна все заслонять. Даже когда твой младший сын вот-вот поднимется в воздух и вступит в бой, а его самолет защищен от врага и вражеского огня не больше, чем мотоцикл. И все равно война не должна…
Зазвонил телефон.
– Селия?
– Да. Здравствуй, Себастьян.
– Должно быть, ты очень тревожишься. Я лишь хотел сказать, что я рядом. Думаю о тебе. И о Ките. И держу твою руку. Мысленно.
– Мог бы прийти и сделать это не мысленно.
На календаре было 10 мая.
– Дорогая, вы до сих пор в Париже?
Это был Седрик. Все такой же элегантный. Он сидел на скамейке вблизи фонтанов на площади Сен-Сюльпис, одетый в белый фланелевый костюм и белую рубашку. Его светлые кудри стали еще длиннее. Рядом с Седриком сидел не менее элегантный молодой блондин.
– Да, Седрик, я до сих пор здесь, – ответила Адель. Она нажала тормоз коляски и бросилась фотографу в объятия. – Как я рада вас видеть.
– И я вас тоже. Вы ничуть не утратили своей крсоты. Познакомьтесь, это Филипп. Филипп Лелон. Жаль, мы вас не встретили сегодня раньше. Вы бы нам наверняка помогли. Мы работаем для «Стайла». Для съемки нам понадобилось шесть детских колясок и шесть карликовых пуделей, которых мы должны были туда посадить. Задача непростая, но вы бы мигом ее решили.
«Не мигом», – подумала Адель, и ее захлестнула волна тоски по прежней жизни. Но коляски она, пожалуй, смогла бы найти. И пуделей тоже.
– Интересный сюжет. Наверное, вы повеселились.
– Нет. Собачки нам немало крови попортили. Но что уж там говорить? Это моя завершающая работа для «Стайла». Да и вообще для всех парижских журналов. Бегу отсюда, как перепуганный кролик. Я и Филиппа долго убеждал поехать со мной, но он заявил, что я говорю полнейшую чушь и что все опасности сильно преувеличены.
– Пожалуй, я согласна с Филиппом, – сказала Адель. – Я никуда не собираюсь уезжать. Немцам не дойти до Парижа.
– Жаль, у меня нет вашей уверенности. Но я не любитель рисковать.
– Неужели английская редакция «Стайла» до сих пор поддерживала контакты с Парижем? – удивилась Адель. – Я уже давно не слежу за журналами.
– Да, пока это было возможно. Филипп – их самый ценный фотограф. К тому же он прекрасно знает все новости и сплетни. Кстати, дорогая, почему бы вам не предложить им свои услуги? Они были бы только рады.
– Вряд ли я им подойду. Все, что долетает до моих ушей, я слышу лишь на детской площадке в Люксембургском саду, – сказала Адель. – Ничего сенсационного. Седрик, я так рада вас видеть. А вы всерьез считаете наше положение небезопасным?
– Разумеется, дорогая, – ответил он. Тон фотографа был серьезным, почти раздраженным. – Вы бы тоже считали, если бы разбудили свой здравый смысл.
– Возможно, он у меня исчез… Нони, ангел мой, не подходи так близко к дороге.
– Какое восхитительное создание, – вдруг сказал Филипп Лелон. – Вы не против, если я сделаю пару фотографий вашей дочки?
– Ничуть. Вы хотите прямо здесь? Нони, дорогая, ты ведь не будешь возражать? Этот джентльмен хочет тебя сфотографировать.
– Нет, – ответила Нони, улыбаясь взрослым своей неторопливой, серьезной улыбкой.
– Bon. Давайте поставим ее на фоне фонтанов. Улыбайся, крошка. Головку чуть поверни… Нет, в эту сторону… Так, готово… И еще разок.
Довольный фотограф спрятал аппарат в футляр.
– Я пришлю вам снимки, – пообещал он. – Седрик даст мне ваш адрес.
– Конечно. Но я живу совсем рядом. – Адель махнула в сторону улицы. – Видите большую черную дверь слева? Вы все-таки возьмите у Седрика адрес. Большое вам спасибо за съемку. А теперь мне нужно идти. Седрик, передайте всем огромный привет от меня. Надеюсь, вас не затруднит позвонить Венеции и сказать, что со мной все в порядке. Пусть не волнуется. И пожалуйста, не добавляйте к этому ваших собственных мнений. Мои родные и так волнуются. Поднимают шум на пустом месте.
– Я нахожу их волнения вполне оправданными. Но обещаю вам ничего от себя не прибавлять. Дорогая, у вас не найдется времени пропустить с нами по бокальчику аперитива?
– Как ни печально, но увы, – вздохнула Адель. – До свидания, дорогой Седрик. Была рада познакомиться с вами, Филипп. С нетерпением буду ждать снимков Нони. Уверена, вы сделали потрясающие снимки моей малышки.
– Можете не сомневаться, – подхватил Седрик. – Au revoir, mon ange. Берегите себя.
– Постараюсь, – сказала Адель.
Она еще раз поцеловала фотографа и потом стояла, глядя вслед им обоим. Ей было невероятно грустно.
– У меня есть серьезный повод пригласить тебя на обед, – сказал Бой. – Завтра я уезжаю.
– Завтра? Боже, как это неожиданно. И куда?
– Куда-то на север Шотландии. Предложили пройти специальную подготовку. Что-то похожее на обучение десантников. Это все, что я могу сказать.
– А чем ты там будешь заниматься?
– Дорогая, это же армия. Буду заниматься тем, чем прикажут. Возможно, вскоре придется понюхать пороху. Ходят разговоры о нападении на Норвегию. Думаю, ты понимаешь, что сведения эти сугубо конфиденциальные.
– Само собой.
– Согласись, это щекочет нервы.
– Наверное, – сказала Венеция. – Только не всем нравится такая щекотка… Бой, я очень боюсь. За детей. За Джайлза с Китом. И за Адель, конечно. Я ужасно за нее боюсь. Жаль, что она не с нами.
– А как насчет меня? За меня ты не боишься?
– Боюсь. Очень боюсь за тебя, – ответила Венеция, удивляясь, что ее слова полностью соответствуют ее чувствам.
Она очень боялась за Боя.
Они обедали в «Савое». Зал был практически целиком заполнен нарядно одетыми людьми. Венеция надела свое новое черное платье, расшитое бисером.
– Наверное, у меня теперь долго не будет новых платьев, – сказала она, когда Бой похвалил наряд.
Он улыбнулся и обвел глазами зал. Люди непринужденно беседовали, приветствовали друзей, танцевали. Глядя на них, не верилось, что война уже идет.
Однако Бой сегодня был не слишком разговорчив и даже несколько рассеян. Они пару раз потанцевали.
– Давай сядем, – предложил он.
Они вернулись за свой столик. Венеция смотрела на бывшего мужа. Как всегда, элегантный. В смокинге. Только непривычно серьезный.
– Скажи, что ты чувствуешь? – спросила Венеция.
– Нечто странное. С одной стороны, испытываю какой-то подъем. Даже облегчение, что все «странности» этой войны закончились и я наконец-то проверю, хорошо ли меня обучили.
– А с другой стороны – страх? – осторожно спросила она. – Или совсем не боишься?
– Чуть-чуть, – улыбаясь, ответил Бой, но тут же погасил улыбку. – Конечно боюсь. Только дурак не боится. Я же могу не вернуться. Или вернуться раненым, причем серьезно, когда о прежней жизни придется забыть. Для меня это было бы самым тяжелым.
– Понимаю, – сказала Венеция. – Особенно при твоем деятельном характере. Но ведь у тебя потрясающее самообладание, а на войне это очень важно. Пожалуй, так владеть собой еще может только моя мама. Она очень смелый человек. Наверное, самый смелый из всех, кого я знаю. Себастьян того же мнения.
– Ну, уж он-то должен знать.
– Почему ты так говоришь? – спросила заинтригованная Венеция, но лицо Боя вновь стало непроницаемым.
– Наверное, шампанское в голову ударило, вот и болтаю разные глупости.
– Врун!
– Не стану возражать. Это ты и сама знаешь.
– Да, это я знаю, – согласилась Венеция, рассеянно ковыряя у себя в тарелке. Есть ей совсем не хотелось.
– Тебе бы лучше уехать из Лондона, – сказал Бой.
– Никак не могу. У меня работа. Я не хочу ее бросать. Мне важно то, чем я занимаюсь.
– Думаю, ты тоже смелая, – произнес Бой, глядя на нее. – Я всегда восхищался твоей смелостью.
– Я? Не говори глупости. Что смелого в жизни я сделала?
– Очень многое. Прежде всего, не подчинилась требованиям матери. Настояла на замужестве со мной. Как потом оказалось, допустила большую ошибку.
– Послушай…
– Родила детей.
– Все женщины рожают детей.
– Но сколько шума и крика они при этом поднимают. Капризы через край. Во всяком случае, мне так говорили. А у тебя – ни жалоб, ни стонов. Это мне тоже говорили… Еще вспомнил. Ты же потрясающе охотилась.
– Бой, когда ты в последний раз видел меня на охоте?
– Давненько. Но я никогда этого не забуду. Буду помнить так же, как первую нашу встречу… Это было в Эшингеме. Ты, наверное, уже и не помнишь, как ловко ты тогда перескочила через высокий забор. Лихая наездница. Ты восседала на маминой лошадке… Забыл только кличку лошади.
– Должно быть, Бабочка. Она обожала прыгать через заборы.
– Правильно. Я тогда следил за тобой, разинув рот. Чуть из седла не выпал.
– Ты не рассказывал.
– Не рассказывал? Наверное, чтобы не расплескать это воспоминание… А потом жизнь как-то быстро нас закрутила, и нам стало не до охоты. Дети. Потом мое дрянное поведение.
– Боже мой, – прошептала Венеция и торопливо провела рукой по глазам.
– Что с тобой?
– Сама не знаю. Столько времени прошло, столько ошибок… И вот теперь…
– Я… – Он замолчал, глядя в свой фужер.
– Что, Бой? Что ты хотел сказать?
– Так, ничего.
Венеция еще не видела его таким взволнованным и не умеющим найти слова.
– Ты ведь хотел мне что-то сказать.
– Нет… то есть… – Бой втянул в себя воздух и заговорил. Торопливо, словно боялся, что Венеция его перебьет. – Да, я хотел тебе кое-что сказать. Не знаю, поверишь ли ты мне и хочешь ли от меня это слышать. Но я решил, что не смогу уйти… возможно… возможно, надолго, не сказав тебе, что я… я по-прежнему тебя люблю. Венеция, мне было важно тебе это сказать. Это все.
– Понимаю, – прошептала очень удивленная и даже шокированная Венеция.
– Знаю, я доставлял тебе кучу неприятностей. Обращался с тобой совсем не так, как должен был бы. Мне очень стыдно за прошлое. И об этом я тоже хотел тебе сказать.
Удивление сменилось у Венеции злостью. Ее обдало жаркой волной гнева. Как легко это у него получается. Как ужасающе легко. Все годы их брака вел себя как хотел, ничуть не считаясь с нею. Обманывал ее. И вдруг – потому что ему так удобно, потому что он уходит на войну – изволит признаваться ей в любви. Оказывается, он не так обращался с ней и ему даже стыдно за прошлое. Как будто весь его обман, все обиды, причиненные ей, можно легко и быстро стереть, словно надписи на школьной доске. Венеция смотрела на Боя, и лицо у нее пылало.
– Как понимаю, я тебя лишь огорчил. Моя спонтанность принесла больше вреда, чем пользы. Наверное, мне надо было просто тихо уехать из Лондона. Даже не наверное, а определенно. Конечно, я не ожидал, что ты тут же бросишься мне в объятия и простишь.
– Нет. Я пока еще не спятила.
Оба замолчали. Через какое-то время Бой встал:
– Прошу меня извинить. Это была дурная затея. Я про все. Если ты сейчас захочешь уйти домой, я вполне тебя пойму.
– Да. Мне самое время вернуться. Боюсь, мне с этим не справиться.
– Наверное, ты права. Извини меня, что я это затеял. Мне очень, очень жаль.
Вернувшись домой, она прошла к себе в гостиную, села, закурила сигарету. Ее гнев постепенно угасал, сменяясь другим чувством – чувством ужасающе несчастной жизни. При всех ее успехах на работе Венеция была глубоко несчастна. И обижена. Обида была совсем свежей и причиняла душе такую же боль, какую причиняет телу свежая рана. Венеция взглянула на одну из немногих совместных фотографий, которые она оставила в гостиной. Их свадебные фотографии были убраны подальше. Этот снимок сделала Адель на крестинах Генри: смеющиеся Венеция и Бой смотрят на сонное личико своего первенца. Фотоаппарат запечатлел их такими счастливыми, но так ли это было на самом деле? Почему говорят о счастливых воспоминаниях? Почему счастье всегда где-то в прошлом, а не в настоящем? Может, это уловка времени? Люди неторопливо вглядываются в старые снимки, и прошлое предстает для них идеальной порой, когда жизнь была такой счастливой и безопасной.
Но ведь в ее жизни с Боем действительно были счастливые воспоминания. Даже очень счастливые. Но они никогда не были длительными, напоминая краткие просветы на пасмурном небе. Венеции вдруг отчетливо вспомнился один такой момент. Это было вскоре после рождения Ру. Бой пришел к ней, присел на кровать, поцеловал ее и просто сказал: «Спасибо». Одно это слово сделало ее счастливой, невероятно счастливой. И ощущение безопасности. Оно тоже было.
Теперь им придется надолго забыть про безопасность. Это ощущение станет далеким, полузабытым, как воспоминания детства. Опасность войдет в жизнь каждого из них, сделается их постоянной спутницей, сопровождающей их везде и всюду.
Потом она подумала о Бое, который завтра отправляется навстречу ужасной, неведомой опасности. Она еще продолжала сердиться на него, но в то же время хотела, сама не зная каким образом, уберечь его от всех бед. Венеция вспомнила его, сидящего за столиком в «Савое»: притихшего, нервничающего, говорящего ей то, что она меньше всего ожидала и хотела от него услышать. А может, все-таки хотела? Неужели она по-настоящему рассердилась на него? Если да, то почему? Неужели ей будет радостно, что по ее вине он завтра уедет несчастным, сокрушенным, потерянным? А ведь он пытался высказать ей то, что было у него на душе и на сердце. Он не врал, не лукавил, потому слова и давались ему так тяжело. И что приобретала она, расставшись с ним подобным образом – по сути, оттолкнув его? Как теперь она будет жить с воспоминаниями об их прощальной встрече, жить месяцы или даже годы? Жить, зная, что он постоянно подвергается опасности, что его в любой день могут ранить, взять в плен и, возможно… конечно, всего лишь возможно… убить? Следом Венеции пришла мысль, и когда эта мысль появилась у нее в голове, Венеция некоторое время сидела с прежним, хмурым выражением лица, потом улыбнулась и встала. Она прошла в другой конец комнаты, сняла телефонную трубку и набрала номер квартиры на Понт-стрит, где после развода жил Бой.
Вряд ли он сейчас дома. Скорее всего, ищет утешения у какой-то другой женщины и та помогает ему хотя бы временно забыть свои страхи. Глупо ожидать, что из ресторана Бой прямиком отправился домой.
Но он был дома.
– Я тут подумала, – беззаботным тоном начала Венеция, словно звонила не особо близкой подруге, которую хотела пригласить на обед. – Вот что я подумала: если тебе сейчас нечем заняться, может, заглянешь ко мне? Выпьем чего-нибудь, посидим.
– Благодарю, это очень любезно с твоей стороны, – ответил он так, словно и впрямь принимал приглашение на обед, хотя прекрасно понимал, что на самом деле она имеет в виду. – Я бы с большим удовольствием. С очень большим.
Пожалуй, у них никогда не было такой удивительной, ни с чем не сравнимой ночи, как эта. Нежность, жестокость, доброта, давно знакомое и совершенно неведомое – все удивительным образом переплелось в этом отрезке времени. Венеция никогда бы не поверила, что мужчина, с которым она прожила в браке почти десять лет и с которым зачала четверых детей, способен поднять ее на новые высоты наслаждения, подарить новую глубину ощущений и увести на новые территории, где она вряд ли мечтала побывать. Во всяком случае, она уже забыла, мечтала или нет. Они оба стремились запечатлеть в памяти каждое мгновение их странной встречи, запомнить каждый кусочек друг друга… Когда оба, утомленные, лежали обнявшись, потрясенные и почти шокированные тем, что между ними произошло и как это происходило, Венеция почувствовала на своем лице слезы. Она вдруг поняла: это его слезы. Жуткие призраки несчастья были изгнаны, и как бы ни сложилась жизнь их обоих, теперь их будет поддерживать память об этой ночи.
– Я люблю тебя, – без конца повторял Бой, гладя ее волосы.
– И я люблю тебя, Бой, – сказала она и с улыбкой заснула.
Она не слышала, как он ушел, оставив на подушке записку: «Я бы не выдержал еще раз произносить слова прощания».