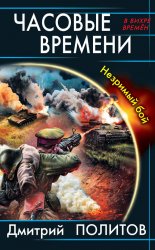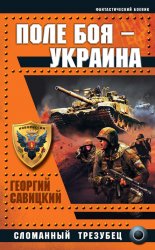Князь оборотней Волынская Илона

— Я не егет, я стражник, — стягивая рубаху, отозвался Хадамаха. — И моя стражницкая интуиция говорит — надо послушать.
— Ты печенкой чуешь, что эта тигрица нашего Донгара плохому научит? — насмешливо поинтересовался Хакмар.
— Печенку я у оленя чую — вместе со всем оленем. Стражницкая интуиция — это не значит подслушивать, когда чуешь плохое. Стражницкая интуиция — подслушивать всегда, а если случится плохое, то ты уже наготове! — Хадамаха сунул груду одежды Хакмару в руки. — Вы в ответе за штаны, которые вам доверяют!
Тихо и бесшумно, так, что, казалось, его лохматую тушу по воздуху несет, здоровенный черный медведь перекатился через открытое пространство за амбаром и в два прыжка достиг кромки леса. Стараясь не шуршать в подлеске — а то еще тигры за мышку примут, доказывай потом, что ты мишка! — он пробирался поближе к бревну, у которого застыли две фигуры: тощая мальчишеская и кругленькая, хоть и грациозная, девичья. Тигришки — они худые не бывают.
«Сдается, ничего важного я не пропустил», — устраиваясь в кустах, подумал медведь и ухмыльнулся во всю клыкастую пасть. Тигрица Тасха опустила голову и потупила глазки, но медведю отлично было видно, как она поглядывает на сидящего на земле Донгара.
— Можно я сяду, господин шаман? — наконец робко шелестнула девушка.
Донгар судорожно кивнул. Она уселась на поваленный ствол, чинно сложив на вышитом фартуке ручки, слишком маленькие для тигрицы. Донгар уставился на эти нежные руки — точно в дым над костром, в котором надеешься разглядеть свою судьбу. Над носом прячущегося в кустах медведя с тонким звоном закружил первый, еще совсем сонный комар. Медведь умилился — ах ты, ранний комарик! Считай, весна пришла!
— А можно вы тоже сядете, господин шаман? — уже менее робко предложила Тасха.
Донгар вскочил. Отряхнул штаны, больше размазав, чем убрав грязь, потоптался и, наконец, сел на поваленный ствол в длине копья от девушки. Помолчали. Девчонка подождала. Комар укусил медведя в нос. Медведь комару умиляться перестал.
Тасха проехалась попой по стволу, подсела ближе. Донгар, шелестя штанами по мокрой коре, отъехал подальше. Девушка подвинулась еще. Донгар отодвинулся на самый край. Тасха вздохнула и пересела совсем близко. Донгар рванулся… и снова шлепнулся на землю.
Девушка поглядела сверху вниз на сидящего на земле шамана:
— Вам там удобно, господин шаман?
— Д… да! — поджимая ноги, точно боясь, что тигрица захочет утащить одну, пробормотал Донгар. Вид у него был совершенно дикий. — На земле, того… К земле ближе.
«Логично, как сказал бы Хакмар!» — медведь в кустах перестал тереть укушенный нос и ухмыльнулся снова.
— Для шаманства хорошо, — снова выдавил из себя Донгар.
— Вы почти ничего не ели, господин шаман, — стеснительно пролепетала Тасха. — Хотите я вам супа принесу? — она аж привстала в готовности вскочить и бежать.
— Нее-ет! — отчаянно завопил Донгар — видно, представил, как она снова кормит его из своих нежных ручек. Супом. — Я… мало ем. Мало есть — хорошо. Для шаманства.
— Господин — большой шаман, — согласилась девушка.
Возражать, что он лишь ученик Канды, Донгар не стал — не то у него, видать, было настроение.
— Если господин не сочтет за неуважение… просьба к господину, — перебирая края кожаного фартука тонкими пальчиками, выдохнула Тасха.
На физиономии Донгара отразилось что-то вроде надежды — как у узника при виде неожиданно поднятой решетки над ямой. Просьба — это было понятно.
— Мой брат… Куту-Мафы… — верно приняв молчание «большого шамана» за согласие, продолжила девушка. — Он в поход с Золотой тигрицей шел, когда они с вами встретились. И не вернулся.
«Умгум, значит, тигр, который рассказал, что крылатые Белого похитили, — ее брат», — глубокомысленно заключил медведь.
— Не могли бы вы…
— Я много чего могу, однако, — подбодрил ее неожиданно раздухарившийся Донгар.
— О, так вы согласны! — радостно вскричала Тасха и вскочила. — Так пойдемте же, пойдемте! — она протянула руку, точно собираясь поднять Донгара с земли.
— Куда? — Донгар на всякий случай шарахнулся от этой протянутой руки.
— Ну-у… В лес, — водя подошвой пушистой, как тигриная лапа, унты по земле, сказала девушка. — Вы же согласились…
— На что? — по-паучьи перебирая руками и ногами, Донгар еще и отполз на всякий случай.
— Покамлать для меня… — с нежным придыханием сказала Тасха и впервые поглядела на Донгара в упор. — Чтобы нашелся мой брат. Бедной девушке тяжело одной, совсем без мужчины в чуме, — томно добавила она. — Пойдемте в лес, господин шаман.
— А… тут разве нельзя? — поднимаясь с земли, пробормотал Донгар.
— Тут — нельзя, — твердо сказала девушка. — Тут увидят.
«А в Рассветном лесу — еще слишком темно. Для камлания белого шамана. Если б Донгар был белым, — лениво подумал медведь. — Надо бы его предупредить, чтобы поосторожнее, а то выдаст себя. Хотя для камлания, которого на самом деле хочет эта тигришка, свет и впрямь без надобности».
Тасха протянула руку, и Донгар эту руку взял. И они пошли к лесу. Подглядеть, как Донгара под елками… камлать учат? Взрослый парень, самое время научиться. Чтобы потом Эрликовых дочек, сестричек Аякчан, не бояться. Медведь уже направился назад. И остановился. Эта девица была сестрой того самого тигра.
Медведь тряхнул головой — а он и не замечал уже, насколько светло стало над рекой. Погружение в лес было как возвращение в Ночь. Густые кроны сосен сомкнулись — и вокруг воцарилась темнота. Ветер не проникал сквозь плотную завесу прошлодневных иголок, воздух был тих и неподвижен. Медведь остановился, давая глазам привыкнуть к темному свету леса. Был бы он здесь с… с кем-нибудь, то… ничего лучше той елки с опущенными до земли тяжелыми ветками и не придумаешь. Медведь лег на землю и аккуратно-аккуратно приподнял краешек ветки носом. Внутри и впрямь уютно — будто остроконечный чум со стволом-подпоркой и усыпанным старой хвоей полом. Но Донгара с инициативной Амба там не было. Парочка обнаружилась недалеко — на небольшой прогалине. Гигантские сосны сплетались над прогалиной в непроницаемый купол — в темноте виднелся белый меховой нагрудник поверх халата девушки-Амба. Донгар терялся во тьме, медведь чувствовал его лишь нюхом — от черного шамана остро пахло неуверенностью, страхом и… надеждой. Причем двойной — что все получится и… что ничего не выйдет, ну и слава верхнему Эндури! От девушки тоже пахло страхом и нетерпеливым, до истерики, ожиданием. Медведь заинтересованно дернул ухом — не похожа она на скромницу, что боится гулять под елками! — и залег между толстых корней сосны, прислушиваясь к разговору.
— Вы такой серьезный, господин шаман! — прислоняясь к стволу дерева, кокетливо сказала Тасха. — А ведь весна… Время любви.
— Я… однако… Даже стихи знаю… Целые одни… Про весну… — Подвывая, Донгар продекламировал:
- Кёгериш келип кёк ёлен ёс чаттыр…
- Зеленея, молодая трава вырастала, оказывается.
- На зеленой траве молодые соловьи пели, оказывается.
- Весеннее время было, оказывается.
— Да. Оказывается, — равнодушно откликнулась Тасха. — Мы тоже это учили на шаманской литературе, когда у нас еще был шаман.
Когда Хакмар стишки читал, они вовсе по-другому на девчонок действовали. Наверное, те, которые на шаманских уроках учили, не годятся — неприятные воспоминания вызывают.
— Поцелуйте меня, господин шаман, — поднимая голову к возвышающемуся над ней Донгару, сказала девушка и приглашающе выпятила губки.
Сдается, и те, что с шаманской литературы, тоже годятся!
Донгар нервно облизал губы, примерился слева, зашел справа. Хватанул ртом воздух, будто не целоваться, а нырять собрался. Медведь между корнями сосны испытал острое желание поймать этого черного шамана за холку и сунуть в девицу физиономией, как нашкодившего тигренка — в учиненные им безобразия. Донгар наконец наклонился к губам девицы… Рывками, будто его на веревке тащили. Ближе… Еще ближе… Его губы замерли в волоске от ее губ, и, мешая ее дыхание со своим, Донгар едва слышно шепнул:
— Брат твой разрешит, однако, тебе со мной гулять?
— А давай его спросим, — прошелестела в ответ девушка.
Купол из сомкнутых ветвей точно пробил громадный каменный мяч. В вихре сыплющихся иголок и обломанных сучьев сверху рухнуло гибкое тело, и тяжелый удар обрушился Донгару на голову. Черный шаман пошатнулся… схватился за плечи девушки… глянул ей в лицо, захрипел, пытаясь что-то сказать… и упал, ткнувшись носом в меховую опушку ее хорошеньких унтов.
— Кажется, не разрешил, — брезгливо подобрав край расшитого халата, девушка переступила через его распростертое на земле тело. Обняла за шею крупного молодого тигра, принялась чесать ему за ухом. Тигр жмурился и мурчал совершенно по-кошачьи.
Свиток 29,
где заговорщики собираются убить черного шамана, а получается наоборот
Медведь вскочил на лапы. Он сразу не доверял этой Амба — так не захотел Донгару свидание ломать! А она не одна пришла. Она с братом пришла. А братец, надо полагать, тот самый пропавший Куту-Мафы, на которого надо было камлать. Накамлал Донгар на свою голову. Теперь лежит и не подает признаков жизни! Медведь шагнул вперед — и замер, точно его заморозили.
На прогалине прибавилось народу — и были это все знакомые лица. И морды. С хрустом раздался подлесок, и на прогалину вывалился старший брат Биату. Сквозь дыру, пробитую тигром в кроне сосен, спланировал крылатый. И принял человеческий облик, красиво завернувшись в плащ из антрацитово-черных, как воды Великой реки, крыльев.
— Хоть у кого-то получилось! — глядя на лежащего Донгара, брюзгливо бросил Черноперый вожак племени крылатых. Тот самый, что сейчас должен был дрыхнуть без задних мослатых лап в отведенном для гостей амбаре. — Я уж думал, все четырехлапые никчемные! — он презрительно покосился на старшего брата Биату.
— Как я мог знать, что явится этот… — в отчаянии вскричал старший брат. — …Хадамаха!
Медведю в его засаде даже неловко стало — ей-Эндури, обидели медвежонка маленького!
— С Хадамахой мы еще разберемся! А ученичка господин Канда сюда очень вовремя прислал, — крылатый хищно склонился над Донгаром.
— Он вместе с Хадамахой и его жрицей пришел, — наябедничал старший брат.
— Неважно! Единственное, что нам нужно от этого мелкого шаманишки, — его мертвое тело! — Черноперый рассмеялся курлыкающим смехом. — Его найдут возле становища, и станет ясно, что правы крылатые — Амба шаманов убивают! Вот и ученика бедного господина Канды убили.
«Теперь понятно, зачем Канда Донгара отослал — и впрямь «Большой День» готовить. Только вовсе не такой, как мы все думали», — запечалился невидимый в полумраке медведь.
— А жрица тигриную подлость и засвидетельствует! Если бы еще некоторые сразу убили мальчишку-Амба, а не устроили дурь медвежью с привязыванием к дереву… Был бы Белый тигренок мертв, этому Хадамахе никогда не договориться с Золотой!
— Он… Он так кричал. Тигренок. Маму звал… — смущенно пробормотал Биату.
— Слабак… Все медведи — клыки, когти, сила, а на деле — слабаки! — свистнул Черноперый. — Ничего. Пара человеческих костей в котлы Мапа — и в дело вмешаются люди, а там уже никто не разберет, кто начал, кто продолжил, кто прав, кто виноват.
«А ведь хотел ему сразу куриную шею свернуть — и что остановило?» — подумал медведь.
— Господин Канда будет доволен, — точно шаманский речитатив, повторил крылатый. — Очень, очень доволен… Хватит болтать! — как выпь на болоте, вскрикнул он, будто не сам тут хвост распускал. — Добейте шаманчика!
— Я не убиваю симпатичных парней, — не прекращая почесывать брата за ухом, мурлыкнула Тасха.
— Тогда пусть он! — нетерпеливо потребовал крылатый, указывая на тигра. — Ты так сильно злился, что вожаком выбрали не тебя, а твою тетку Золотую, а настоящий вожак не боится пустить кровь!
— Ее… выбрали… за золотую шкуру! — с трудом выталкивая слова, проревел Куту-Мафы. — В вожаки… за цвет!
— Тетина золотая шкурка отлично смотрится! — прикрывая рот ладошкой, зевнула Тасха.
Куту-Мафы злобно рыкнул и толчком лапы отшвырнул сестру.
— Лучше смотрится… на полу моего чума! Вместе с белой шкурой сыночка… — Он гибко вскочил и направился к лежащему на земле Донгару. Толчком лапы перевернул неподвижное тело. Безвольно, как мешок, Донгар перекатился по влажной хвое. Глаза его были закрыты, а бледное лицо светилось в полумраке, как снег в Ночи. Тигр поднял когтистую лапу… и нерешительно остановился:
— Его духи-помощники… на меня не кинутся?
Черноперый брезгливо покрутил длинным носом:
— Все четырехлапые — трусы!
— Что ж ты сам вашего шамана не убил, к Канде за помощью побежал? — бросил старший Биату.
— Я убил его сам! — крылатый подпрыгнул, как подбитая камнем ворона. — Канда помог против духов шамана. Когда духов у него не осталось, стрела сама нашла его в небе! В племени до сих пор думают, что старого шамана человеческий охотник подстрелил! Не вспоминают даже, птицы глупые, что у нас, когда захотим, есть и луки, и руки, чтобы ими пользоваться! Глупый шаман… Не отдал мне старшую дочку, мне, вожаку! Говорил, его девочки пойдут, за кого хотят! Хар-хар! — он каркающе рассмеялся. — Где теперь его девочки? Младшая Канде досталась — и без крыльев осталась! Хар-хар! А долги-и, надо платить долги. Старшая пока упрямится — другого невеста! Хар-хар! С нами на Амба не пошел, вроде как с охоты вернуться не успел. Ничего, ничего. Когда все друг другу в глотки вцепятся, многие погибнут-пропадут, и он, и он! Его женой не будет Белоперая, моей женой будет! Что стоишь? — клекотнул он. — Убивай уже! Не шаман еще, всего лишь ученик, у него нет своих тёс! А если б были — зря мы разве его в лес заманивали?
— Я заманивала, — мрачно напомнила Тасха.
— Здесь еще слишком темно — для шаманства света не хватит! — нетерпеливо каркнул крылатый. — Бей!
Тигр поднял лапу, примериваясь к горлу неподвижного шамана.
Невидимый в сумраке медведь лишь печально вздохнул. Тигр завизжал — пронзительно и жалко, как тигренок, которому прищемили хвост. Донгар открыл глаза — и в них стоял беспросветный мрак. Рука Донгара, вся в царапинах и с обгрызенными ногтями, в полумраке леса казалась тонкой и изящной и в то же время — неживой. Рукой мертвеца. Длинные, как паучьи лапки, пальцы почти нежно переплелись с когтями тигриной лапы. Донгар заломил лапу тигра назад — громко, точно лопнувший на морозе сучок, хрустнула кость. Тигр взвыл… и завалился на бок, поджимая сломанную лапу к груди и дергаясь всем телом, как в припадке. Полосатый хвост колотил по мокрой земле.
— Это что такое? — возмущенно заклекотал крылатый. — Он должен умереть!
Медведь аж застонал от неловкости, пряча нос в лапах. Рассказала птичка черному шаману про его долги… очухалась перед Эрликом на праздничном блюде!
Шаман встал — не сгибая поясницы и не подбирая колени. Его тело, прямое, как доска, просто медленно поднялось в воздух. Шнурок, туго стягивающий косу, расплелся сам, и длинные черные волосы Донгара упали на белое, как снег, лицо. Пылающие алым мраком глаза глянули на врагов сквозь завесу черных прядей. Первым не выдержал старший брат Биату. Тоненько, по-заячьи вскрикнув, он рванул прочь.
Медведь даже пожалел этого недоделанного безнюхого Мапа — нашел куда бежать, чурбачок! Словно соткавшаяся из мрака под корнями медвежья лапа ударила беглеца в лицо. Заливаясь кровью из располосовавших лоб следов когтей, Биату отлетел обратно на прогалину, перевернулся через голову и замер недвижим. До птичьих мозгов Черноперого наконец дошло, что дело пахнет жареным. Птичкой, запеченной в перьях. Хлопнули, разворачиваясь, черные крылья, и вот уже не крылатый человек стоит на прогалине, а громадная птица рвется ввысь, к пробитой в кронах сосен дыре, над которой Небо — и спасение!
Тень, похожая на бесформенную птицу, сгустилась из тьмы, отрезая Черноперому путь в небо. Тень мерцала и дрожала, то обретая форму, то вновь теряя очертания. Два полотнища мрака на месте крыльев мерно колыхались, и сквозь их складки проглядывала то длинная, оперенная черным стрела, торчащая из груди тени, то искаженное болью окровавленное человеческое лицо.
— Нее-ет! — заверещал крылатый и заметался между стволами деревьев, как куропатка, пытающаяся увернуться от ястреба. — Шама-ан! Старый шаман! Я не хотел! Это все Канда!
Тень шевельнула крыльями и стала медленно опускаться сквозь сумрак — не как птица, а как одно из созданий Седны в морской глубине. Черноперый пронзительно вскрикнул, кувыркнулся в воздухе, обходя надвигающуюся на него тень. Звучно хлопнули крылья, и, вытянувшись стрелой, крылатый рванул вверх. Он пронесся вплотную к мерно колышущемуся крылу тени, он обошел, вырвался из жутких объятий…
Тень висела прямо у него над головой. Крылатый с разгону врезался в нее клювом, тень облепила его со всех сторон, обволокла собой, точно всасывая. Лишь пронзительный клекочущий вопль вырвался наружу, да крылья отчаянно молотили воздух. Черное перо, кувыркаясь, упало сверху — оно было гнилым! Растрепанным, наполовину лысым, словно много Дней пролежало в мокрой земле. Черноперый еще бил крыльями, но гниль, как прожорливый зверь, уже пожирала маховые перья: они покрывались омерзительной серой пеной и опадали наземь — облезлые, воняющие…
Черный шаман не глядел на бушующий в воздухе кошмар. Не смотрел на старшего брата Биату, что шевелился у его ног, как полураздавленный червяк. Его полные мрака и Пламени глаза уставились на девушку-тигрицу. Она была единственная, кто не пытался бежать. Завороженным, немигающим взглядом Тасха сама глядела на шамана, и безумный золотой свет плясал в тигриных зрачках.
Дерево позади тигрицы едва слышно вздохнуло. Ветка опустилась вниз… и змеей обвилась вокруг плеч девушки. Молодая тигрица попыталась обернуться — обретшая неожиданную гибкость ветка захлестнула ей шею. Тасха захрипела. Еще две ветки, обретшие гибкость прибрежной лозы, с тихим свистом обмотались вокруг ее запястий. Рывок! Девицу вздернуло вверх, она повисла на растянутых меж ветвями руках. Шаман продолжал смотреть.
На лице тигрицы впервые проступил страх. Она забилась, замолотила ногами по воздуху. Новая ветка обернулась вокруг щиколоток Тасхи. Бросок! Еще! Ветви завились кольцами вокруг ее ног, поднялись до колен, крепко притягивая одно к другому, опутали бедра, стянули талию, захлестнули грудь, превращая девицу в подвешенный над землей кокон. Она попробовала закричать — путы на шее стянулись крепче, еще одна ветвь заткнула рот, заставляя замолкнуть.
Медведь выбрался из-за дерева и встал рядом с Донгаром. Черный шаман медленно, как ожившая кукла, повернул голову — и медведь почувствовал отчаянное желание ломануться в кусты, подальше от немигающего черно-алого взгляда.
— Ты… чего делаешь? — тяжело ворочая непривычным к речи языком, выдавил медведь. Понимание, что вот этот разговор и есть самый мужественный поступок в его жизни, пришло сразу, как только черные губы на белом лице шамана судорожно дернулись и утробный голос, доносящийся, казалось, со всех сторон, прогудел:
— Неправильно, чтобы девушка свою власть над парнями для плохого дела использовала да игралась, будто парни не люди вовсе, а куклы тряпичные.
Ожившие ветви перевернули тигрицу в воздухе и деловито принялись загибать руки и ноги назад, к спине. Тасху выгнуло, как туго натянутый лук.
— Хребет… сломаешь! — рыкнул медведь.
— Сломаю, — равнодушно согласился Донгар. — Разве ты не слыхал: черные шаманы — злые шаманы.
— Ты знал, что она заманивает! — глядя на белое от боли лицо девушки, прорычал медведь.
— Знал, — шаман хрипло рассмеялся. — Обидно не меньше, однако. Кому шаман нужен, чтобы за просто так, самой захотелось в лес позвать? Только чтобы убить…
Несчастную девушку выгнуло дугой, затылком она почти коснулась пяток. Из горла Тасхи вырвался хриплый безнадежный вой. Еще один удар сердца — и раздастся хруст сломанного хребта.
— Непр-равда! — зарычал медведь. — Есть девушка… нужен! Нямка из обоза… которую спас!
— Нямка хорошая. — Голос Донгара зазвучал по-человечески — просто ломкий молодой голос не очень уверенного в себе парня. Ожившие ветви замерли в неподвижности: тигрица так и зависла, свернутая в колесо — руки заломлены назад, голова у пяток. Краски начали возвращаться к лицу Донгара, а чернота и Пламя вытекать из глаз, как струйки черной воды. — Это я — плохой. Сам не должен с чужой девушкой в лес ходить, когда Нямка есть. — Он уселся под деревом, горестно поджав колени к груди и обняв их руками.
Ветви-змеи мгновенно утратили гибкость. Истыканная сучьями Тасха с хриплым воплем рухнула на корчащегося на земле братца Куту-Мафы.
— Отец, отпусти и ты его! — пропел нежный голосок, похожий сразу и на птичий и на женский. В отверстии в кронах сосен парила белая птица.
Терзавшая Черноперого чудовищная тень издала низкое гудение. Ободранное человеческое тело полетело вниз, грянулось об поляну, замерло, слабо подергивая торчащими из лопаток голыми, обтянутыми красной воспаленной кожей култышками, еще недавно бывшими роскошными крыльями. Белая птица зависла напротив черной тени, белое крыло коснулось торчащей из груди тени стрелы. В круглых птичьих глазах стояла совершенно человеческая боль. Тень загудела снова — точно приветствуя, а может, прощаясь — и медленно растаяла клочьями тумана меж ветвей.
Птица опустилась вниз, взмахнула крылами — и стройная женщина в белопером плаще встала между валяющихся на земле тел. Тигр Куту-Мафы со сломанной лапой. Его сестра Тасха — едва живая, тяжко дышащая. Старший брат Биату — кровь из следов медвежьих когтей на лбу превратила его лицо в алую маску. Но Белоперая глядела лишь на лишенное крыльев существо у ее ног.
Наверху зашуршало, и в проем почти так же изящ но спланировала Аякчан.
— Видела ли ты достаточно, дочь шамана? — величественно поинтересовалась она.
Белоперая склонила голову.
— Я видела и слышала достаточно, жрица! — Она наклонилась к тому, кто еще недавно был вожаком племени, и улыбнулась так жутко, как только может существо, обычно обладающее клювом вместо рта. — Кто лишился крыльев, тот нам не родич — ты сам сказал! Бескрылый злой юер убил моего отца-шамана, продал мою сестру, желал смерти моему жениху и попытался стравить нас с другими племенами! Бескрылый юер продал свое племя чужому шаману! Мы свяжем тебе руки — крыльев ведь у тебя больше нет! Я сама возьму в когти другой конец веревки и полечу, а ты побежишь по земле, бескрылый червяк! И будешь бежать, пока мы не вернемся к скале Крылатых. Мы все слетим к подножию скалы, чтобы судить тебя, ведь подняться ты уже не сможешь! — И она пнула бывшего вожака ногой в бок — вовсе не сильно, наверняка небольно… но тот взвыл, будто в него всадили раскаленный прут. Белоперая лишь скривилась и отвернулась от него. — Я благодарю вас всех. — Она гордо поклонилась. — И тебя, жрица, и тебя, молодой вожак Мапа…
«Да что они меня в вожаки загоняют!» — расстроился медведь.
— Но больше всех благодарю тебя, что ты вызвал моего отца из царства Эрлика и дал ему отомстить. — Она взмахнула крылом, всколыхнув ветер, и склонилась перед сидящим под сосной Донгаром. — …Донгар Кайгал, Великий Черный Шаман, тот, кто возвратился!
— Я тоже видела и слышала достаточно! — Золотая тигрица в человеческом облике выступила из царящего меж стволами сосен сумрака. Тигры ее охраны скользили неслышными шагами. — Нет обиды между Амба и крылатыми. Я скорблю о твоем отце вместе с тобой, дочь шамана. — Золотая сочувственно кивнула крылатой. — А ты… — она наклонилась над Куту-Мафы и сгребла шерсть у него на загривке в кулак. — Если хотел власти, племянник… почему не собрал племя, не потребовал имя вожака для себя?
— Все равно они выбрали тебя! — взвизгнул Куту-Мафы, дергаясь в хватке тетушки. — Всех вас ненавижу!
— Почему они выбрали меня? — Золотая разжала руку и вытерла ладонь об халат. — Не потому ли, что ты лижешь пятки чужому шаману, который хочет погубить наше племя?
Ответа она не услышала.
— С тобой все понятно… — Золотая скользнула взглядом по Тасхе. — С детства за братцем как второй хвост таскалась! Охранять их! — Пришедшие с Золотой тигры сомкнулись вокруг брата и сестры. — Я вас тоже благодарю. Вот уж не думала, что буду благодарна мальчишке-Мапа, да еще и девчонке-жрице, и уж вовсе не гадала, что Великому Кайгалу придется спасибо говорить! — Она покосилась на Донгара, кажется сомневаясь, что вот этот нахохлившийся, как обиженный вороненок, паренек — черный шаман!
— Вы обе очень такие величественные, аж слезу прошибает, — проворчал медведь. — Я сейчас тоже долго говорить буду, как мы с нашего мишки и его подельников две шкуры спустим — одну медвежью, одну человеческую — и как я сам себе сильно благодарен, что их всех поймал.
Золотая Амба повернулась к нему, и ее губы растянулись в недобром оскале:
— Нагле-е-ец! Будто не медведь, а тигр.
— Прежде суда расследование провести, — проворчал медведь. — Два важных вопроса есть. Маленькая драка — Канда ножи-копья продает, богатеет. Большая битва — перебьем друг друга, никого не останется. Никого не останется — с кого Канда богатеть станет? Зачем Канде нас стравливать? Второй вопрос еще серьезнее. Где мои штаны, Аякчан?
Свиток 30,
в котором Хадамаха допрашивает злодеев и они раскрывают свои злодейские планы и мотивы
Не принесла! — продолжал реветь медведь. — Умгум, мои штаны ее летные качества снижают! Как без штанов допрос вести? Мне же зубы мешают!
— Тебе без штанов мешают зубы? — озадачилась Аякчан.
— Эти зубы мешают говорить! — рявкнул медведь. Слава Дуэнте, вокруг все свои, привычные, они его понимают! — Чтобы у меня стали другие зубы, мне нужны штаны!
— Ну давай я проведу допрос! — равнодушно предложила Аякчан. — Подожгу каждому что-нибудь жизненно важное.
— Соревнование, как на праздник Большого Дня, — обрадовался медведь. — Кто шустрый, расскажет все мне! Кто замешкается — пожалуйте к госпоже жрице. Самого неторопливого-молчаливого ему отдадим… — кивнул он на Донгара. — Для черношаманских опытов!
— Я — злой! — раздался в ответ ломкий от стыда и печали голос Донгара. — Правильно про нас люди говорят: все черные шаманы плохие, однако, а хуже меня и вовсе нет!
— Спасибо, друг! Очень ты правильно и вовремя высказался! — глядя в разом побледневшие физиономии подследственных, прочувствованно рыкнул медведь. Даже сквозь подсохшую кровавую маску на лице старшего Биату проглядывала бледность. — Слышали, что черный шаман сказал? Так зачем Канде наши драки?
Обескрыленный крылатый и неспособный превращаться в медведя Мапа заговорили одновременно:
— Не знаем мы! Он не говорил! Он только сказал, так хотят духи!
Медведь повернул голову в сторону Донгара. Несмотря на снедавший черного шамана стыд за собственную злобную натуру, на губах его мелькнула презрительная улыбка — «хотят духи» он явно считал шаманской лапшой на доверчивые звериные ушки. Ему видней, он шаман. Хотя разговор с Калтащ насчет духов, подумывающих избавиться от людей, сидел в памяти, как заноза в лапе. Медведь отогнал ненужные сейчас мысли и властно рыкнул на подозреваемых:
— По одному! Давай ты! — он указал на брата Биату.
— Вот такие вы, стражники! — тихо присвистнул Черноперый. — Даже на допросах своим потакаете, а чужих сразу… на опыты. — Он опасливо покосился на понурого Донгара.
— Ты меня позоришь! — с упреком рявкнул медведь-Хадамаха на старшего брата Биату. — Зачем с Кандой связался — чтобы каждый кур щипаный твоего соплеменника теперь попрекал?
— Какой я тебе свой! — ощерился вдруг Биату — даже на человеческом лице оскал смотрелся вполне по-медвежьи. И не скажешь, что перекидываться не может. — Я перекидываться не могу! — точно отвечая на Хадамахины мысли, заорал Биату. — Вы меня, такого, разве за своего держите? Я взрослый уже! Я берлогу отрыть, жениться хотел! Только какая Мапа за меня пойдет?
— Умгум, — неловко буркнул медведь. Для медведицы человеческий муж что первый блин — оба комом.
— Люди в человеческом селении меня тоже за своего не считают, — остывая так же быстро, как и вспыхнул, поник Биату. — Для них я Мапа. Я уехать хотел. Далеко, в город… — он с тоской поглядел на Хадамаху. — А позвали тебя! Родичи городские, каменный мяч, приглашение в команду… — Тоска во взгляде сменилась ненавистью. — Тебе-то зачем, тебе и в тайге хорошо! А для меня город — это жизнь! Только в городе богатым надо быть, иначе кому я там нужен. А тут Канда… Говорит, станешь делать что велю, будет тебе на что жизнь в городе начать. Не обманул. — Биату бледно усмехнулся. — Главное, говорит, чтобы вы из долгов не вылезли, ну и чтобы возненавидели друг друга…
Биату завопил — громадный черный медведь навалился на него всей тушей. Когти сомкнулись на плечах, подминая Биату, желтые клыки, способные в один укус раздавить ему голову, оказались у самого лица.
— Так это вы на обоз Мапа напали? — заревел медведь, и от этого рева Биату казалось, что волосы с его головы сейчас сдует, как шапку. — Больше некому, говори, вы? Наших парней убили — вы?
Биату почувствовал, как кости его от ужаса превращаются в рыбный студень, а стиснутое спазмом горло не способно пропустить ни слова. И вот когда он понял, что сейчас умрет от страха… стало еще страшнее. С другой стороны на него с визгом налетела жрица:
— Кто их сжег? Говори! Местная жрица? Кто? — Глаза жрицы были Огненные, страшные, сине-золотые искры посыпались ему в лицо.
Крылатый с воплем шарахнулся в сторону и попытался отползти подальше, пока не уперся в лапы тигров.
— Не знаю я! — отчаянно орал Биату. — Они мертвые были! Горелые! Мы только товар забрали! Товар!
Медведь разжал когти и откатился в сторону. Так и остался лежать громадным меховым клубком.
— А остальные? Другие братья Биату? — наконец глухо сказал он. — Им плевать было, что их соплеменники мертвые лежат… До костей прожаренные. Что они обоз заберут, а племя голодать будет…
— Чурбачки! — скривился Биату. — Я сказал им, что это сделали наши враги, а товары из обоза нам нужнее. Чтобы бороться. Ради счастья и свободы медвежьих племен всего Сивира!
— Бороться. Куртки одинаковые, под цвет соснового ствола шить. Шапки блином носить. И верно — чурбачки, — повторил медведь. — А вы с Кандой их подонками сделали. — И он отошел в сторону, переваливаясь, как тяжко раненный. И ткнулся лохматым лбом в ствол сосны. Донгар переполз к нему и положил руку на лапу.
— Не грусти, Хадамаха. Ты не один, однако. Вдвоем печалиться будем! — торжественно пообещал он.
«Вот спасибо — как бы я без его помощи с такой нелегкой задачей справился!» — мрачно подумал медведь.
Биату осторожно сел, ощупывая руки и плечи — не верил, что все цело.
— Госпожа жрица, а если я вам чего скажу… — косясь на Аякчан, предложил он, — …мне послабление выйдет?
— Я не сожгу тебя живьем, как тех несчастных из обоза, — надменно согласилась Аякчан.
— Госпожа жрица ошибается, — заторопился Биату. — Госпожа жрица думает, что другая госпожа жрица… старая, которая у Канды в доме живет… что она обозников пожгла. А только не она это!
Свиток 31,
или жуткая история про огненных волков
Остальные братья Биату забрались в походные палатки из нерпичьих шкур, и старший наконец перевел дух. Он сидел у затухающего костра и устало злился. Все в нынешнем походе было не то и не так, но хуже всех оказались сами братья Биату! Казалось бы, есть у них старший брат, вот и слушайся молча, тем паче что своих мозгов под толстенной лобной костью сроду не водилось! Нет, туда же, к умным людям со своими медвежьими мордами! Вопросы задают! Почему он, старший брат Биату, говорит, что шаман Канда им друг, а вожак Эгулэ кроет Канду всякими непотребными таежными словами? И почему вдруг плохо, что Эгулэ снарядил обоз с товарами, если в городе дадут за добычу хорошую цену? И если дадут, так, может, вовсе и не нужно братьям Биату бороться за счастье всех Мапа на Сивире — прибытков от обоза хватит для медвежьего счастья! И приходилось до хрипоты уговаривать, обвинять Эгулэ в предательстве и намерении присвоить добычу племени себе, превозносить Канду и делать загадочное лицо, намекая, что некоторые сложные моменты таежной политики им, простым медведям, знать не полагается! Счастье его, что догадался втянуть в отряд сынков тети Хаи да внучка дедули Отсу, из которых умение думать собственной головой еще в медвежатах было выбито тяжелой родительской лапой, а взамен вколочена привычка молчать и слушаться.
И все для того, чтобы пришел День — и у него, старшего брата Биату, был дом, как у Канды. И жена — красотка, как девушка в доме Канды, только не из крылатых, а из людей — и чтобы так же боялась! Чтобы знала, кто в ледяном доме хозяин! Не как у Мапа заведено — чуть не по ней, медвежьей лапой в морду. Старший Биату потер подбородок — давно сросшаяся челюсть по-прежнему ныла, особенно к снегопаду. И ведь что он тогда той девчонке-Мапа сказал — ничего особенного! За что ж сразу бить-то? Нет уж, свою жену он будет бить сам! Или не бить. Его воля: с ведром помоев ей на задний двор бегать или с ним под ручку по улицам ледяного города прохаживаться. Потому что его дом будет в городе — чтобы за окном такие же богатые дома из ледяных плит, а не нищие берестяные чумы! И надо для этого всего лишь сказать Канде, когда уходит обоз, а потом запрячь остальных братьев Биату в сани да перетащить товары в условленное место. Ни драться с охранниками обоза, ни даже попадаться им на глаза братьям Биату не придется — Канда твердо обещал. Хотя что он собирается делать с охранниками, Биату не знал, да и знать не хотел. Не его это дело!
Костерок затрещал напоследок, доедая остатки дров, и пляшущий Огонек с тихим шипением утонул в золе. На стоянку навалилась темнота. Пора спать. Залезть в тепло палатки, наполненное запахом влажной шерсти, храпом, ворчанием, устроиться между мохнатыми тушами, каждая из которых может невзначай придавить насмерть, всего лишь ворочаясь с боку на бок.
Старший брат Биату страдальчески поморщился… и замер. Сквозь окружающие стоянку деревья мелькали Огоньки. Мелкие, как россыпь монеток, Огоньки кучно бежали через лес, на миг пропадали, скрываясь за деревьями, тут же вспыхивали снова! Они походили на стайку светляков — только какие уж светляки в заснеженном лесу в разгар зимы? И еще — Огоньки были жуткого красного цвета, цвета проклятого нижнемирского Огня!
Страший брат Биату заметался у погасшего костра. Даже в их тихие места доходили слухи о страшных Огненных потопах чэк-наях, что опустошали Югрскую землю. Поднимется столб Рыжего пламени из-под земли, хлынет Огненной волной — да прямо на их лагерь! Огоньки удалялись. Старший брат вцепился обеими руками в завязки лыжи. Красные Огоньки уходили все дальше, их мерцание растворялось среди деревьев. А Огоньки-то — парные!
— Нижнемирские авахи! — выругался старший брат, захлебываясь новой волной ужаса. — Глаза!
По всему выходит — они и есть! Нижнемирские авахи! У кого еще проклятые глазищи будут светить Рыжим пламенем, кто еще станет бегать стаей, охотясь на… Мимо походной стоянки Огоньки проскочили, будто им и вовсе не интересно, и теперь бежали к тому самому месту, куда старший брат должен был вывести своих Биату. Навстречу медвежьему обозу!
Слухи ходили не только о чэк-наях, но и о черных шаманах, которые нынче толпами бродили по Сивиру. В черных шаманов старший брат Биату не верил, так и Рыжий огонь полагал сказками — а вот же он! Черный шаман мог вызвать авахи, но ведь Канда-то — белый! Не первый День Канду знают — точно белый! И отца его в стойбищах помнят… Или поблизости завелся другой шаман — черный? И ему тоже нужен обоз?
Старший брат Биату заскулил, как не полагается скулить медведю! Он должен знать: кто там, зачем и чем грозят ему! Только знать, держать нос по ветру — не по-медвежьи, а по-собачьи, только это могло защитить его, маленького и слабого, от Мапа, что не считают его медведем, и злых людей с копьями, что не держат его за человека! Поскуливая от ужаса, старший Биату затянул крепления лыж и, разок оглянувшись на палатки — спят! — побежал через темный Ночной лес. Все же он Мапа, хоть и перекидываться не умеет, — никакие авахи не почуют его в родном лесу!
Огоньки появились снова — теперь они бежали цепочкой — одна пара глаз за другой. Темные горбатые тени неслышно скользили между стволов. Биату остановился — за тварями на белом снегу оставалась четкая дорожка следов. Очень странных следов, похожих на мелкие собачьи, но когти больше смахивали на птичьи или даже беличьи — длинные и загнутые, с такими лазить хорошо. Следы незнакомые, но брат Биату все равно почувствовал облегчение — хоть не духи-юеры, те следов не оставляют вовсе!
Тени добрались до медвежьей тропы и закопошились там. Существа были не видны в темноте, лишь багровые отсветы их глаз парными светящимися точками вспыхивали на белом снегу. Стараясь не скрипнуть лыжами, брат Биату скользнул от одного соснового ствола к другому. Аккуратно, чтобы не стряхнуть снег с прячущей его ветки, выглянул. Четко, как храмовые стражники, тени располагались по обе стороны тропы, прятались под прикрытием ветвей и вовсе исчезали в густом подлеске. Послышался едва различимый скрежет когтей по коре, и парные багровые Огни поползли вверх по стволу. Биату шумно сглотнул — тварь лезла на дерево! Вторая тварюшка карабкалась на елку по другую сторону тропы. Да ведь они засаду устраивают!
Над головой у брата Биату послышался едва слышный скрежет, словно… словно коготь царапнул по коре. Внутренности обдало горячим варом. Медленно, с трудом поворачивая непослушную шею, Биату поднял голову.
Вцепившись когтями в ветку, тварь сидела у него над головой. Остромордая, с клочковатой шерстью, похожим на метелку хвостом, она смахивала и на здоровенную белку, и на мелкую псину. Тварь пялилась на него — и ее глаза казались двумя дырками, просверленными в длинной острой морде. Сквозь эти дырки наружу выплескивался бушующий под черепом нижнемирский Рыжий огонь. Биату стоял под этим жутким взглядом, не в силах шевельнуть ни рукой, ни ногой. Существо повело носом — из ноздрей вырвались две крохотные струйки черного дыма. И ощерило зубы. Белая кость зубов была подсвечена изнутри, словно закатным солнцем. В пасти вместо языка билась тонкая струйка Рыжего пламени! Тварь сжалась на ветке и… прыгнула!
С глухим криком Биату скорчился под деревом, закрывая голову руками. Боль, нестерпимый Жар, Огненные зубы, вонзающиеся в его тело, и… все! Конец!
Ничего не произошло. Биату медленно убрал руки… Жуткая тварь сосредоточенно обнюхивала полы его парки. Он чувствовал ее горячее, просто обжигающее дыхание на своих коленях.
«Снизу жрать будет! Так ей, видать, сподручнее!» — в панике подумал он и зажмурился.
Жаркое дыхание исчезло. Биату открыл глаза. Мелко перебирая лапами, тварь мирно трусила прочь: хвост-метелка болтался между ног, острым носом она водила по снегу, будто выписывала неведомые узоры.
— Дяргуль! Красный волк! — прошептал Биату слово из совсем новой, недавно появившейся в тайге страшной сказки, в которую он тоже не верил!
Дяргуль глянул через плечо и то ли фыркнул, то ли чихнул, вроде как соглашаясь на знакомство. И одним прыжком исчез между деревьями.
Биату отер горячий пот со лба, облизнул пересохшие губы и задумчиво поглядел на полы своей парки. Даже поднял одну и понюхал. Чем она таким пахла, что дяргуль признал его за своего… Медведем?
Биату двинулся к тропе. Ему бы повернуться и бежать, но что-то тащило его вперед, как на привязи. В кустах мелькали сдвоенные Рыжие огоньки. Он видел тени, затаенное движение, но дяргули не обращали на него внимания, будто признавая его право находиться тут. И вдруг… Все Огоньки разом погасли, точно дяргули прикрыли глаза. Шуршание прекратилось — в наступившей тишине Биату услышал скрип полозьев. Он знал, кто идет по медвежьей тропе — чужие здесь не ходят. Чужие сидят в кустах и ждут. На краткий миг Биату ощутил безумное, нерассуждающее желание заорать, предупреждая тех, кто так беспечно движется по сотни раз хоженной тропе…
В ногу ему дохнуло жаром. Биату поглядел вниз. Дяргуль, тот же, а может, другой, терся у его колена. Уж неизвестно, как он сумел придать Огненным дыркам своих глаз многозначительность, но выражение их таким и было — многозначительным. Желание предупреждать родичей отмерло, не успев толком родиться. Да и с чего вдруг? Они бы небось о нем заботиться не стали!
Скрип полозьев стал отчетливее, к нему прибавилось похрустывание снега под тяжелыми лапами. В блекло-сиреневых отсветах снега стала видна небольшая вереница нарт — всего три. Не слышно было ни потявкиванья ездовых лаек, ни хриплого дыхания погонщиков. Опутанные постромками Мапа в медвежьем облике легко волокли груз. Вторая тройка, в человеческом облике, бежала рядом, поглядывая, чтобы не развалились уложенные горой и плотно увязанные товары.
Алые огоньки вспыхнули по обе стороны тропы разом. Дяргули кинулись. Тощие, как веревки, гибкие красные волки вылетали из придорожного подлеска и с ходу впивались медведям в лапы. Выскакивали из-за стволов. И сыпались сверху, из нависающих над тропой ветвей. Дяргуль скатился по гладкому боку медведя наземь и был раздавлен тяжелой лапой. Но другие двое уже вцепились медведю в холку — из их пастей ударило Пламя! Шерсть на медведе вспыхнула. От укусов дяргулей загорелись лапы, запылали уши. Второй медведь уже горел весь, от морды и до хвоста. Отчаянно ревя, он метался, колотя нартой по стволам сосен. Подскочил человек, рубанул по постромкам ножом — освобожденный от груза медведь слепо помчался по тропе, волоча за собой Пламя. Заходясь истошным, омерзительным тявканьем, дяргули бежали по бокам, то и дело прыгая и впиваясь в бока несчастного пылающими челюстями. Медведь упал, и шевелящаяся масса дяргулей накрыла его.
Новый дяргуль свалился на погонщика — прямо в капюшон малицы. Капюшон вспыхнул, Мапа сорвал малицу, отшвырнул вместе с вцепившимся в мех красным волком. Густо, как снег с ветвей, дяргули сыпанули на него сверху. Мгновение человек еще стоял, облепленный дяргулями, будто живой шубой, и рухнул навзничь, пылая, как костер. Его страшный, пронзительный крик заметался между сосен. Еще один медведь катался по снегу, пытаясь сбить Пламя со спины — красные волки прыгали ему на живот и вгрызались в грудь и брюхо. Бросившихся на помощь погонщиков встретила волна Огненных тварей — они прыгали, норовя дорваться до горла, накатывали, сминали жертву. Один человек упал сразу — он еще бился под навалившимися на него дяргулями, пытался принять медвежий облик, но уже горел, извиваясь в Пламени… Второй отмахивался ножом от напирающих со всех сторон Огненных пастей и пылающих глаз. Потом упал и он. Последний, еще живой медведь пылающим шаром ломился в подлесок, волоча за собой горящую нарту. Морда — отлично знакомая морда старого приятеля по детским играм! — окутанная Рыжим пламенем, на миг оказалась совсем рядом с укрывшимся за сосной братом Биату. Биату показалось, что медведь узнал его — в его до предела расширенных глазах мелькнула мольба, мука, даже надежда. Потом медведь просто рухнул в снег и выкатился из подлеска на тропу, застыв там мертвой горящей грудой.
Над лесом пахло паленой шерстью и… жареным мясом. Брат Биату сложился пополам, и его вывернуло в снег.
Фью-фью-фью! Скрап-скрап-скрип! — рваная мелодия, состоящая из посвиста, похожего на вой ветра в дымовой дыре чума, гул Огня в чувале и скрип сгорающих в костре дров, пронеслись над лесом. Дяргули бросили тела обозников — те продолжали гореть, но дяргулей они уже не интересовали. Дяргули ждали.
Человек в птичьем шаманском плаще выступил из чащи. Пошел между горящими телами, легко и спокойно, как между кострами охотничьей стоянки. Сожравшее родичей Пламя выхватывало из тени морщинистое лицо под высокой шаманской шапкой. Шаман Канда улыбался — посверкивал выглядывающий из-под по-собачьи сморщенной губы кончик клыка! При виде этой улыбки старший брат Биату вжался в сосну всем телом, моля Хозяина леса и всех духов укрыть его, сделать так, чтобы страшные глаза шамана не увидели его!
Канда оглядел горящие тела на тропе — отблески Пламени плясали в его жутко выпученном левом глазу — и снова засвистел:
— Фить-фить!
К посвистыванию добавились гудение, тявканье, рык и сухое пощелкивание пальцев. Не оглядываясь на разоренный обоз, шаман Канда пошел прочь — его шаманская шапка сбивала снег с низко висящих веток. Дяргули поднялись — все как один — и деловито побежали вслед, то и дело оглашая пропахший смертью лес отрывистым, омерзительным тявканьем.
Они давно уже скрылись за поворотом тропы, а Биату все стоял, крепко обняв сосну. Наконец он отлепился от мерзлой коры и, оскальзываясь на каждом шагу, выбрался на тропу. Его родовичи были сильными, каким ему никогда не стать! А теперь они мертвые, а он, слабый, — живой! И у него есть дело, которое надо делать прямо сейчас!
Свиток 32,
где появляется заяц и все становится с лап на уши
Какое… дело? — с трудом выталкивая слова из глотки, хрипло рыкнул медведь-Хадамаха.
Глазки Биату воровато заметались.
— Мы ж с Кандой договаривались! Что товар к нему отвезем. Надо было нарты подготовить, упряжь, груз перепаковать. Да я еще наших хотел похоронить, правда-правда! — поймав на себе упорный багровый взгляд медведя, завопил он. — Канда не дал, сказал, если похороню, все поймут, что я замешан, а я не замешан, я и не знал вовсе, что он наших пожжет, и про дяргулей не знал!
— Какие они тебе «наши», — только и смог глухо рыкнуть медведь.
— Чушь таежная! — возмутилась Аякчан. — Шаман Канда красными волками командовал? Каким образом? Дяргули должны были вылезти… — Она хотела добавить «с Буровой», но поглядела на Донгара и ничего не сказала.
— У вожака дяргулей был клочок от твоей рубахи, — все так же глухо рыкнул медведь. — Единственное, откуда он мог взяться, — от той крылатой девочки, младшей жены Канды. Ты ее обнимала, когда уговаривала уйти с нами.
— Моя сестра никогда бы… — горячо начала Белоперая.
— Она ребенок, — мягко перебил медведь. — Ее в доме Канды уже всему научили. Она думает, Мапа едят своих жен и лучше терпеть побои от Канды, чем быть съеденной.
Белоперая повернулась к скорчившемуся у лап сторожевых тигров бывшему вожаку… и снова засадила ему ногой в бок. На сей раз со всей силы.
— Ай да Канда, белый шаман! — ошеломленно покачала головой Аякчан. — Для каждого приманку нашел… — Она поочередно оглядела старшего брата Биату, тигра Куту-Мафы с сестричкой, ощипанного вожака крылатых. — Всех в узел сплел… почитай, до самого Нижнего мира, — тихо добавила она. — Откуда он такой взялся?
— Завелся, как червяк в гнилом мясе, — буркнула Золотая. — Он старого человеческого шамана сынок! Хадамаха, ты его что, вовсе не помнишь?
Медведь покачал башкой — старого шамана помнил. Приличный мужик был: в чужие дела не лез, с другими шаманами ладил, в торговлю не мешался. А вот сына… Нет, не помнил!