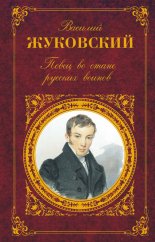Лев Толстой Шкловский Виктор

Впоследствии он отошел от своего примиренческого настроения.
Разговор В. И. Алексеева с Толстым шел тайно, за закрытыми дверьми, но его услыхала Софья Андреевна. Вот что рассказывает о дальнейшем сам В. И. Алексеев:
«Вдруг дверь отворяется, выбегает взволнованная графиня и с сердцем, повышенным голосом говорит мне, указывая пальцем на дверь:
– Василий Иванович, что вы говорите!.. Если бы здесь был не Лев Николаевич, который не нуждается в ваших советах, а мой сын или дочь, то я тотчас же приказала бы вам убираться вон…
Я был поражен таким выступлением графини и сказал:
– Слушаю, уйду…»
За обедом С. А. извинилась, но положение в доме создалось такое, что Лев Николаевич отступил. Алексеев уехал в самарское имение.
Возникала новая утопия – вести в самарском имении хозяйство так, чтобы на вырученные деньги помогать бедным крестьянам. Это была иллюзия, в которой Толстой быстро разочаровался. То же, что он видел рядом с собой в Ясной Поляне, не давало ему возможности успокоиться.
Лев Николаевич в это время писал «Записки христианина»; книга была начата как своеобразная автобиография и начиналась разговором о вере; но вдруг она перебивается точными рассказами о быте крестьян в Ясной Поляне. Берутся совершенно определенные люди: бывший артиллерист Ларион – человек способный и сперва удачливый, но потом прошедший через суд, тюрьму и нищенство. Рядом с ним гибнет сосед его Костентин, который вручает Толстому свое жизнеописание. Начинается оно так: «Жизнь диривенского мужика. Адинокава Костюши бедняка».
«Диривенский мужик» рассказывает о своей гибели так:
«А астались дитей у нас только двоя, но она и по етих кажный день воя, что галодная судьба на нас настала, что у нас хлеба куска ни достала вот те-та года. Я, Кастюша, проживал нужды и горя крепка нивидал. – А теперя Абносилсякажный день. А буваю лапти разбиты, А галавашки полны снегом набиты, кажнию ночь тирпеть мне насила вмочь, кашляю – перхаю. А у нох своих угману ни знаю: так ломють, что ноги мои крепка простужены. Живу так богата, что ни дай бог никому: босаты имею и нагаты навешаны полны шосты. А холоду и голоду полны Анбары, но буду помнить семидесятый год: даже нечева паложить в рот чють нисчиво проглядишь, то день и два ни емши сидишь. А исче у стале хлеба ни чюишь, то ни ужинамши начюешь».
Вокруг дома Толстого в те годы распадается хозяйство деревни. Приведу несколько мест из дневника за 1881 год.
К Толстому в Ясную Поляну не только идут, но и ползут на руках прямо через поле, минуя деревню, чтобы не задрали собаки, бедняки: «Дмитрий Кузмин Чугунов приполз во 2-ой раз. Ноги засохли. Как насекомое ползает на руках. Бритый, с усами, неприятный. Я нажрался простокваши. Хотел отделаться. Начал с азартом усовещевать его, зачем иструб в 55 р. Оказалось, он женат и 2 детей. 3 года, как отсохли ноги (с глазу, на камне). Изба завалилась».
Этот человек погиб, потому что бил щебень на дороге. Погибает он не один – погибает вся деревня: как вытекает вода из бочки, когда разошлись обручи.
28 июня 1881 года Толстой записывает:
«Пошел к Константину. Он неделю болен, бок, кашель. Теперь разлилась желчь. Курносенков был в желчи. Кондратий умер желчью. Бедняки умирают желчью! „От скуки“ умирают.
У бабы грудница есть, три девочки есть, а хлеба нет. В 4-ом часу еще не ели. Девочки пошли за ягодами, поели. Печь топлена, чтоб не пусто было и грудная не икала».
Это эпическая картина бедствия: горит печь, пусто; но дети поверят, что еда будет. Только этим обманом на час может отсрочить отчаяние детей их мать в погибающей деревне.
«У нас обед огромный с шампанским. Тани наряжены. Пояса 5-рублевые на всех детях. Обедают, а уже телега едет на пикник промежду мужицких телег, везущих измученный работой народ».
Что же делать? – спрашивает Толстой. Он верит первое время в благотворительность и, конечно, разочаровывается, он не верит в возможность революции, вернее, ее боится.
Он укрепляется в мысли о несопротивлении злу. Надо оставить оружие, не надеяться на силу – надеяться на правду, убедить людей не защищать зло. Зло сильно непониманием, оно разрушится, когда люди поймут его бессилие.
Лев Николаевич узнавал и прочитывал людей быстро, как тоненькую книгу, он очаровывал и разочаровывал, умел забывать.
От Алексеева и Бибикова, которые отдали ему много лет, много надежд, он отказался не легко и не сразу – после долгих разговоров с женой. В 1883 году он ликвидировал свое самарское хозяйство. Для них это было бедствием. Бибиков построился на земле Льва Николаевича: ему пришлось оставить постройки. Алексеев арендовал землю у Толстого, и ему было трудно уехать. Он сперва поступил к одному толстовскому знакомому домашним учителем, потом служил контролером на железной дороге, инспектором сельскохозяйственного ремесленного училища, директором коммерческого училища.
С Толстым редко кто мог идти долго. От него многие уходили, так как путь его был необычен и спутником он был неверным.
Оставались немногие, среди них были и хроникеры, и люди, связанные с Толстым родством, и старой дружбой, и происхождением. Таков Константин Иславин – друг молодости, человек, определивший первые неудачи Толстого. Он его жалел, кормил, когда рядом не было Софьи Андреевны, хлопотал, чтобы достать ему работу, и одалживал ему свой сюртук, чтобы тот мог пойти к Каткову или в другое какое-нибудь место просить работы. Сюртук был новый, малоношеный: Лев Николаевич обыкновенно носил блузы. Неудачник Костенька Иславин с болтовней об аристократизме для Толстого был отдыхом. Его можно было накормить.
Помогать можно было озлобленной, многодетной нищенке, которую в деревне прозвали Ганька-воровка; можно помочь пьющему отставному поручику Александру Петровичу Иванову – дерзкому толстовскому переписчику; вот, кажется, и все.
Мало в мире писателей, которые бы видели столько разнообразных представителей человеческого рода и так охотно с ними беседовали.
Через душу Льва Николаевича, как через дорогу, как через океанский путь, прошли сотни тысяч человеческих судеб, если считать встречами и письма.
Не будем же обвинять великого человека в том, что он не был верным другом. Люди должны были сменяться вокруг него.
Только спутники его старости не были заменены, потому что пришла смерть.
Василия Ивановича Алексеева Лев Николаевич любил, долго писал ему дружеские письма.
После разлуки Лев Николаевич писал своему другу в ноябре 1882 года, что он видит его во сне, что он скучает по нему и что он «любовно завидует» его трудной судьбе. Он жаловался другу на семью с глубокой печалью.
Но время шло, сменялись люди, сменялись боли, привязанности. Время требовало отречений.
Ликвидируя самарское хозяйство, Толстой распорядился земли сдать крестьянам в аренду и тогда же писал Софье Андреевне, что половина долга крестьян – около 5 тысяч – «пропащие».
Теперь он хотел, чтобы деньги за аренду пошли на помощь нуждающимся крестьянам. Он пишет в июне 1884 года Алексееву и Бибикову: «Прошу вас обоих иметь наблюдение над тем, чтобы земля пахалась по установленному порядку и деньги платились бы в сроки. Надеюсь, что вы ни тот, ни другой не откажете мне в этом. – Для облегчения вашего в этом деле скажу еще следующее: я давно уже решил, что деньги эти – аренда за землю – должны поступить на пользу населения тех деревень, которые снимают эти земли, – на помощь нуждающимся, на школы, на учреждение зимних заработков (мысль, очень занимающая меня последнее время). И это… будет сделано с той поры, когда я перестану встречать в этом препятствия семьи. Надеюсь дожить до этого… Если бог захочет, платежи эти пойдут на дело».
Но Лев Николаевич не сумел отстоять свое решение перед женой.
Вот письмо от декабря 1884 года: «Дорогой Василий Иванович, письмо ваше грустное, а не должно бы так быть… Вы спите. Первое и главное – жизнь наша внешняя всегда и вся отвратительна, как отвратителен акт деторождения, если страсть наша не освещает его особенным светом, так и вся материальная жизнь – она ужасна и отвратительна, начиная от еды и испражнения до требования труда других людей для себя».
В следующем письме Толстой пишет: «Это же относится и к вашему обязательству к земле, называемой моею. Вы знаете так же, как и я, что все эти мои земли и имущества суть мои и чужие грехи, соблазнявшие меня и теперь пытающиеся спутать меня».
В это же время Софья Андреевна в письмах к Бибикову требовала, чтобы деньги были аккуратно собраны и посланы ей.
Лев Николаевич в декабрьском письме писал очень грустно: «Горе в том, что мы, не признающие собственности, лжем перед собой».
Лев Николаевич сдался.
Для своей семьи он тщетно предлагал такой неисполнимый план: «Жить в Ясной. Самарский доход отдать на бедных и школы в Самаре по распоряжению и наблюдению самих плательщиков. Никольский доход (передав землю мужикам) точно так же. Себе, т. е. нам с женой и малыми детьми, оставить пока доход Ясной Поляны, от 2-х до 3-х тысяч… Взрослым троим предоставить на волю: брать себе от бедных следующую часть самарских или Никольских денег, или, живя там, содействовать тому, чтобы деньги эти шли на добро, или, живя с нами, помогать нам. Меньших воспитывать так, чтобы они привыкали меньше требовать от жизни. Учить их тому, к чему у них охота, но не одним наукам, а наукам и работе. Прислуги держать только столько, сколько нужно, чтобы помочь нам переделать и научить нас и то на время, приучаясь обходиться без них. Жить всем вместе: мужчинам в одной, женщинам и девочкам в другой комнате. Комната чтоб была библиотека для умственных занятий, и комната рабочая, общая. По баловству нашему и комната отдельная для слабых. Кроме кормления себя и детей и учения, работа, хозяйство, помощь хлебом, лечением, учением. По воскресениям обеды для нищих и бедных и чтение и беседы. Жизнь, пища, одежда – все самое простое. Все лишнее: фортепьяно, мебель, экипажи – продать, раздать. Наукой и искусством заниматься только такими, которыми бы можно делиться со всеми. Обращение со всеми, от губернатора до нищего, одинаков. Цель одна – счастье, свое и семьи, – зная, что счастье это в том, чтобы довольствоваться малым и делать добро другим».
«Выходит среднее»
Он хотел выслушать всех, как бы всех поставить перед лицом совести.
В начале июня 1881 года со слугой Арбузовым и учителем яснополянской школы Виноградовым пешком пошел он в Оптину пустынь от деревни к деревне, искать народного понимания веры, проверять в последний раз то, что называется православием.
Об этом путешествии Лев Николаевич написал дневник, занявший десять страниц.
Старик в лаптях видит мир так, как должны его видеть странники. Рассказывают крестьяне о побоях, о военной службе, о преступлениях. В Оптиной пустыни пешеходов приняли плохо, поместили в номер с клопами и соседом, который мешал спать храпом.
В монастырской лавочке Евангелия не было, продавали разные монашеские, плохо и лениво написанные книжонки.
В монастыре через монаха, бывшего крепостного Толстых, узнали, что старик в пеньковых чунях – граф Толстой. Все изменилось: повели Льва Николаевича к самому старцу Ювеналию, до которого простому человеку добраться невозможно. Келья Ювеналия в четыре комнаты, устланы они половиками для мягких молитв. Монах самоуверен, неточно знает Писание, говорит о покорности властям. Царство небесное, как он себе его представляет, похоже было на прямое отражение России с генералами, с губернаторами и поместьями. Между тем Ювеналий – настоятель Оптиной пустыни, учился в Михайловской артиллерийской академии. Ювеналию казалось, что он ушел от мира в монастырь, а он в монастыре на самом деле был на постое, как офицер. Пошли к старцу Амвросию, его дожидалась толпа. Спрашивали посетители у Амвросия о делах: можно ли открыть кабак, ехать ли в Иерусалим, можно ли поминать человека, который опился на крестинах и умер? Сидели у Амвросия два. часа, было очень скучно. После приема у Амвросия перевели Толстого в первоклассную гостиницу, где все было обито бархатом. В монастыре только старец Пимен, который, подобрав рясу, бегом через сад убегал от благочестивых богомолок и засыпал на стуле во время религиозных разговоров, поразил Льва Николаевича простотой и наивностью.
В Москве хлопотливо меблировала и обеспечивала теплом дом Софья Андреевна.
По-своему была права Софья Андреевна, устраивая гнездо для огромной своей семьи. Не права она была только в том, что дети в результате невнимательности отца и бестолковости матери вырастали нехорошими, эгоистичными. Она удивлялась на то, что Илья пьет с лакеем, не хочет заниматься. Удивлялась холодности Сергея, но все надеялась на то, что хоть ее малыши будут лучше.
Лев Николаевич между тем поехал в самарское имение пить кумыс, встретился там с В. И. Алексеевым, познакомился со степенным исследователем сектантства и раскольничества А. С. Пругавиным. Ездил с ним и с Алексеевым к молоканам. Эти люди отказывались идти на военную службу, терпели за это гонение, жили в далеких степях, высылались в гиблые места Кавказа, и жили хорошо, по-кулацки – сказали бы мы, так как держали молокане батраков.
Лев Николаевич записывает 20 июля: «Воскресенье. У молокан моленье. Жара. Платочками пот утирают. Сила голосов, шеи карие, корявые, как терки. Поклоны, обед: 1. холодное, 2. крапивные щи, 3. баранина вареная, 4. лапша, 5. орешки, 6. баранина жареная, 7. огурцы, 8. лапшенник, 9. мед».
Живут сытно, Толстой как будто не осуждает это подчеркнутое изобилие. Рядом он пишет о том, что молоканин судится с работницей.
Лев Николаевич не знает до конца сам, чего требовать от семьи, и пишет жене 2 августа такое письмо: «Ты нынче выезжаешь в Москву. – Ты не поверишь, как меня мучает мысль о том, что ты через силу работаешь, и раскаяние в том, что я мало (вовсе) не помогал тебе. Вот уже на что кумыс был хорош, чтобы заставить меня спуститься с той точки зрения, с которой я невольно, увлеченный своим делом, смотрел на все. Я теперь иначе смотрю».
Это не первое письмо. Еще в конце июля Толстой писал жене: «Когда вернусь, буду работать с тобой, и не для того, чтобы только тебе облегчить, а с охотой. Очень мне тебя жаль и тяжело без тебя».
6 августа Лев Николаевич пишет жене совсем покаянное письмо: «Ничто не может доказать яснее невозможности жизни по идеалу, как жизнь и Бибикова с семьей, и Василия Ивановича. Люди они прекрасные, всеми силами, всей энергией стремятся к самой хорошей, справедливой жизни, а жизнь и семьи стремятся в свою сторону, и выходит среднее. Со стороны мне видно, как это среднее, хотя и хорошо, как далеко от их цели. То же переносишь на себя и научаешься довольствоваться средним. – То же среднее в молоканстве; то же среднее в народной жизни, особенно здесь. – Только бы бог донес нас благополучно ко всем вам благополучным, и ты увидишь, какой я в твоем смысле стану паинька».
Поиск постоянного дома для жилья и поиск смысла жизни
Инерция старой жизни сохранялась.
Еще тогда, когда старшие дети начали подрастать, Толстые решили переехать в Москву. Сергея, старшего сына, готовили дома в университет, Илью и Льва – в гимназию. Татьяне Львовне шел восемнадцатый год – нужно было начать вывозить ее в свет; она должна была посещать балы, ездить в театры, чтобы познакомиться с каким-то будущим своим женихом, человеком неведомым, но про него твердо знали, что он будет из хорошего общества, состоятельным.
В юности Татьяна Львовна сломала ключицу, отец сам повез ее в Москву к лучшему хирургу и спрашивал, не останется ли после сращения ключицы каких-нибудь следов, не будет ли заметно утолщение тогда, когда девушка в открытом бальном туалете при ярком свете свечей выйдет танцевать на паркет московского Дворянского собрания.
Толстой мало говорил с детьми, он писал свое и дома отмалчивался; но еще в 1877 году жаловался Николаю Страхову, как безобразно то, чему учат священники детей, преподавая катехизис.
В доме явственно обнаруживалось расхождение Толстого с семьей. Как будто в тихом яснополянском доме незаметно, но изо дня в день тлела балка и начинало пахнуть гарью. Однако огонь пока не вспыхивал.
Уступил и в этот раз Лев Николаевич. Было решено ехать в Москву.
Неполных двести верст от Тулы до Москвы.
Сама же Тула была похожа на глухие улицы Москвы.
Толстой и Тулы не любил, в городе этом бывал нехотя. Все, что он находил хорошего в Туле, – это то, что тульские цыгане поют лучше московских.
Москва в то время была не столицей, как Петербург, а дворянским городом: сохранилось многое сближающее ее с жизнью старых усадеб. Купцы давно поснимали дворянские особняки, построились в Москве фабрики, но старого в городе оставалось много.
Долго искала Софья Андреевна, быстро ходящая, жаждущая событий, дом для жилья в Москве.
В июле месяце 1881 года она пишет: «Дома продажные или огромные, около 100 тысяч, или маленькие, около 30-ти. Квартиры и дороги, и неудобны; кроме того страх что холодны, а спросить не у кого». Один дом около Арбата в Хлебном переулке продавался за 26 тысяч, и Софья Андреевна забеспокоилась: «…я уверена, что в этом доме что-нибудь да не то, уж слишком дешево продается и так удобен. Завтра буду узнавать о нем в лавочках, у жильцов и разными путями и, если одобрят, надо взять». И другой дом был, но «…без прачечной и подозрительный для теплоты».
Искать и расспрашивать по лавочкам не легко: Софья Андреевна и тогда была беременна. Но вот нашла она дом на Пречистенке в Денежном переулке – княгини Волконской. Дом продавался за 36 тысяч, сдавался за 1550 без мебели.
Место на Пречистенке хорошее. Стояло тогда там много прочных, целиком деревянных или деревянных на каменном первом этаже, хорошо построенных, украшенных колоннами дворянских особняков.
В доме была большая комната с окнами во двор. Софья Андреевна определила ей стать кабинетом Льва Николаевича. Этот кабинет впоследствии приводил в отчаяние Льва Николаевича тем, что был слишком просторен и слишком роскошен. Стала Софья Андреевна покупать «пропасть мебели, посуду, лампы», утеплять полы войлоком, стараясь во всем угодить мужу.
Сыновей Илью и Льва стали определять в гимназию; справились об условиях приема: оказалось, что казенная гимназия требует у родителей подписки об их «благонадежности».
Толстой возмутился, сказав:
«Я не могу дать такую подписку даже за себя. Как же я ее дам за сыновей?»
Недалеко от дома Волконских была частная гимназия Льва Ивановича Поливанова, где преподавал старый тульский знакомый Евгений Львович Марков. Детей Толстого после легкого экзамена у Поливанова с охотой приняли сверх комплекта.
Дочь Таню отдали в художественную школу.
5 октября Толстой пишет в дневнике: «Прошел месяц – самый мучительный в моей жизни. Переезд в Москву. – Всё устраиваются. Когда же начнут жить? Всё не для того, чтобы жить, а для того, что так люди. Несчастные! И нет жизни.
Вонь, камни, роскошь, нищета. Разврат. Собрались злодеи, ограбившие народ, набрали солдат, судей, чтобы оберегать их оргию, и пируют. Народу больше нечего делать, как, пользуясь страстями этих людей, выманивать у них назад награбленное. Мужики на это ловчее. Бабы дома, мужики трут полы и тела в банях, возят извозчиками».
Для Толстого в городе живут господа – дворяне, а еще полотеры, извозчики и банщики, ими угнетенные и обслуживающие их. Рабочих он не видит.
Лев Николаевич в это время еще раз проверял старую жизнь; по-новому встречался с Фетом, спорил с ним о христианстве, отвечал Н. Страхову по поводу «Писем о нигилизме».
Он теперь относился к старому другу иронически. Н. Страхов утверждал в это время православие, самодержавие и народность. Это была та официальная триада, на которой, как на трех китах, должна была устоять царская Россия.
Страхов говорил, что злодеи двадцать лет гонялись за добрым царем и убили его. Толстой писал;
«Нет злодеев, а была и есть борьба двух начал, и, разбирая борьбу с нравственной точки зрения, можно только обсуживать, какая из двух сторон более отклонялась от добра и истины; а забывать про борьбу нельзя».
Толстой выговаривал Страхову: «Ведь это так глупо, что совестно возражать. Я буду утверждать, что я знаю Страхова и его идеалы, потому что знаю, что он ходит в библиотеку каждый день и носит черную шляпу и серое пальто. И что потому идеалы Страхова суть: хождение в библиотеку и серое пальто, и страховщина. Случайные две, самые внешние формы – самодержавие и православие, с прибавлением народности, которая уже ничего не значит, выставляются идеалами».
Толстой знал, что, если вдуматься, должно было бы выходить совсем обратное тому, что написано Страховым про нигилистов. «То были злодеи; а то явились те же злодеи единственными людьми верующими – ошибочно, но все-таки единственными верующими и жертвующими жизнью плотской для небесного, т. е. бесконечного».
Так искал он правду, отвергая то, что прежде казалось приемлемым или не замечалось.
Толстой и Сютаев
Толстой считал себя представителем народа, который смотрит на жизнь снизу, но смотрит правильно. Надо было найти в народе учителя. Он хотел учиться у народа. В это время многие думали, что сектантство воплощает лучшие мечты крестьянства.
О Сютаеве Толстой услышал от А. С. Пругавина – человека, специально занимающегося расколом и сектантством. Вера молокан и субботников не удовлетворила Толстого; они все время ссылались на Библию, «мямлили», как характеризовал эту систему мышления Толстой.
Он искал главным образом не религии, а этики. Ее он надеялся найти у крестьян, но не зараженных буквальным пониманием Библии и Евангелия.
Весть о Сютаеве Толстого обрадовала.
Вот что Пругавин рассказал о Сютаеве. Сютаев и сын его отказались от военной службы и после тюремного заключения, вернувшись в деревню, опять крестьянствовали.
Лев Николаевич в 1881 году поздней осенью поехал в Торжок – маленький город недалеко от Твери – к Сютаеву.
Он искал праведника. В Москве он нашел одного праведника – библиотекаря Николая Федоровича Федорова, но Федоров был одинок, путь его был фантастичен, единствен; идеал невероятен – физическое воскрешение мертвых. Сютаев проповедовал житие святых сейчас.
Что же увидел Толстой у Сютаева?
Сютаев жил с сыновьями большой неразделенной семьей. Он пас деревенское стадо, добровольно избрав эту должность, потому что жалел скотину и говорил, что у других пастухов скотине плохо, а он водит ее по хорошим местам и наблюдает, чтобы стадо было сыто и напоено.
Вероятно, служба пастуха давала Сютаеву какие-то деньги, которые помогали ему вести хозяйство, в общем натуральное, а деньги в восьмидесятых годах уже были нужны. Все в семье Сютаева было общее, даже бабьи сундуки были общие.
Лев Николаевич увидал на невестке Сютаева платок и, желая провести границу между личным и общим в этой общине, спросил:
– Ну, а платок у тебя свой?
Молодка ответила:
– А вот и нет… платок не мой, а матушкин, свой не знаю куда задевала.
Можно было бы много говорить о семейной собственности в крестьянской неразделенной семье, но Толстой ответ понял так, что своего здесь нет ничего, его и не ищут.
Церковных обрядов и того, что в православной церкви называлось таинствами, Сютаев не признавал. Когда он выдавал свою дочку замуж, то свадьбу провел так: собрал людей вечером, дал молодоженам наставление, постелили им постели, положили их спать вместе, потушили огонь и оставили их одних.
Сютаев повез Толстого обратно к помещикам Бакуниным, у которых Лев Николаевич остановился, приехав туда на своей телеге. Ехали долго, потому что Сютаев кнута не признавал и лошадь не подгонял.
Ехали, разговаривали и так заговорились, что забыли о вожжах, потеряли дорогу и опрокинули телегу. Впечатление у Толстого было большое. Толстой про Сютаева в письме к Энгельгардту писал: «Вот вам безграмотный мужик, – а его влияние на людей, на нашу интеллигенцию больше и значительнее, чем всех русских ученых и писателей со всеми Пушкиными, Бе-инскими, вместе взятыми, начиная от Тредьяковского и до нашего времени».
В конце января 1882 года Сютаев приехал к Толстому в Москву и поселился на его квартире в Денежном переулке. К нему в Москве отнеслись как к пророку и диковинке.
В это время Лев Николаевич только что принял участие во всероссийской переписи, ходил с портфелем и блокнотом по домам, записывал у людей, как их зовут, сколько им лет, чем они занимаются. Ему говорили, что этого требует наука – статистика. Он хотел увидеть жизнь. Он выбрал место около Дорогомиловского моста на Арбате: тут стояли бедные дома, которые срыты сейчас при расширении улицы. Здесь, в хамовнической части между береговым проездом и Никольским переулком, стояли дома, называемые все вместе Ржанов дом, или Ржановская крепость. Здесь жили люди разоренные, потерявшие службу, много распутных женщин. Жили здесь и мелкие торговцы. До этого Лев Николаевич хорошо знал деревенскую бедноту, а теперь увидал бедноту городскую. Он хотел помочь этим людям, накормить их, устроить, но увидал, что дело, которое он затевал, «…не может состоять в том только, чтобы накормить и одеть тысячу людей, как бы можно было накормить и загнать под крышу 1000 баранов, а должно состоять в том, чтобы сделать доброе людям. И когда я понял, что каждый из этой тысячи людей такой же точно человек, с такими же страстями, соблазнами, заблуждениями, с такими же мыслями, такими же вопросами, такой же человек, как и я, то затеянное мною дело вдруг представилось мне так трудно, что я почувствовал свое бессилие».
Испытав это бессилие, он обратился к Сютаеву, который еще гостил у него в Денежном переулке.
Вот как записал беседу сам Толстой:
«Я сидел у моей сестры, и у нее же был Сютаев, и сестра расспрашивала меня про мое дело. Я рассказывал ей, и, как это всегда бывает, когда не веришь в свое дело, я с большим увлечением, жаром и многословием рассказывал ей и то, что я делаю, и то, что может выйти из этого; я говорил все: как мы будем следить за всей нуждой в Москве, как мы будем призревать сирот, старых, высылать из Москвы обедневших здесь деревенских, как будем облегчать путь исправления развратным, как, если только это дело пойдет, в Москве не будет человека, который бы не нашел помощи. Сестра сочувствовала мне, и мы говорили. Среди разговора я взглядывал на Сютаева. Зная его христианскую жизнь и значение, которое он приписывает милосердию, я ожидал от него сочувствия и говорил так, чтобы он понял; я говорил сестре, а обращал свою речь больше к нему. Он сидел неподвижно в своем, черной дубки, тулупчике, который он, как и все мужики, носил и на дворе и в горнице, и как будто не слушал нас, а думал о своем. Маленькие глазки его не блестели, а как будто обращены были в себя. Наговорившись, я обратился к нему с вопросом, что он думает про это.
– Да все пустое дело, – сказал он.
– Отчего?
– Да вся ваша эта затея пустая, и ничего из этого добра не выйдет, – с убеждением повторил он.
– Как не выйдет? Отчего же пустое дело, что мы поможем тысячам, хоть сотням несчастных? Разве дурно по-евангельски голого одеть, голодного накормить?
– Знаю, знаю, да не то вы делаете. Разве так помогать можно? Ты идешь, у тебя попросит человек 20 копеек. Ты ему дашь. Разве это милостыня? Ты дай духовную милостыню, научи его; а это что же ты дал? Только, значит, «отвяжись».
– Да ты знаешь ли? – сказал я. – Их в Москве, этих голодных, холодных, я думаю, тысяч 20. А в Петербурге и по другим городам?
Он улыбнулся.
– Двадцать тысяч! А дворов у нас в России в одной сколько? Миллион будет?
– Ну так что же?
– Что ж? – и глаза его заблестели, и он оживился. – Ну, разберем их по себе. Я не богат, а сейчас двоих возьму. Вон малого-то ты взял на кухню; я его звал к себе, он не пошел. Еще десять раз столько будь, всех по себе разберем. Ты возьмешь, да я возьму. Мы и работать пойдем вместе; он будет видеть, как я работаю, будет учиться, как жить, и за чашку вместе за одним столом сядем, и слово он от меня услышит и от тебя. Вот это милостыня, а то эта ваша община совсем пустая.
Простое слово это поразило меня, я не мог не сознать его правоту».
Дело шло далеко не только о городской благотворительности.
Город – вообще зло, так думали в умирающей деревне. Город для Сютаева – грех и беспокойство. Рассказывает сын Сютаева – И. В. Сютаев. Шел раз Василий Кириллович Сютаев с сыном из Вышнего Волочка домой. «Около постоялого стояли лошади с возами. Зашли в помещение, где пьют чай; сидят мужики, человек семь. Мы заказали чай. Отец спросил:
– Откуда, братцы?
Мужики сказали, из села Горки. Отец и спрашивает мужиков:
– Что, братцы, в город едете?
– Да, в город, хлеб везем продать.
Отец и говорит:
– Не божье дело вы делаете, хлеб везете продавать, города расширяете, а города надо нарушить, вы везете, другие везут, только купцов больше родится, купцы по городу ходят, руки потирают, вас дожидают. А вы хлеб не повезете в город, другие не повезут, в городе не будет хлеба, купцы должны идти на землю работать своими руками, как господь бог заповедал…»
Так стал думать Толстой. Он решил, что преодоление нужды придет через устранение города.
Слова Сютаева обнадежили Толстого своей простотой, хотя Сютаев не был и, конечно, не мог стать путеводителем его жизни. Но пребывание Сютаева на квартире прославленного писателя обратило внимание московских властей, и к Толстому по распоряжению генерал-губернатора князя В. А. Долгорукова явился сначала жандармский ротмистр, а затем чиновник генерал-губернаторской канцелярии. Толстой обоих принял резко и отказался с ними разговаривать. Сютаев уехал из Москвы.
После смерти Сютаева старшие его сыновья поехали в город: они были рабочими-мраморщиками. Община Сютаева оказалась крестьянской, патриархальной семьей, которая держалась больше личным влиянием Сютаева, чем его религиозною проповедью. Сютаевская жизнь с «общими головными платками» была только идиллией, созданной упорным человеком. Лишь сын Иван, верящий своему отцу и Толстому, пытался остаться в деревне. Выдержавший два с половиной года заключения в старой тюрьме на маленьком холодном острове у истока Невы, видавший из окна каземата два с половиной года тихий Шлиссельбург с робкими огнями, холодную, медленную Неву или вьюгу на холодном льду, вынесший пять месяцев сумасшедшего дома, полтора года уговоров принять присягу, он с трудом переносил деревню, поехал в Петербург и поступил артельщиком в издательство Черткова, издававшего толстовские книжки. Но здесь выдержал только год и вернулся в деревню. Как он жил в деревне потом – не знаю; но у него было там хозяйство.
Люди, которые отправились бы по сютаевскому совету в деревню, могли бы стать в ней только батраками.
Сютаев мечтал о том, чтобы в деревне завести хотя бы общее куриное хозяйство, чтобы у хозяек были руки развязаны и ссор между ними не было, но думал он об этом так: «А придет осень, мы возвратим все хозяевам: и куры будут целы, и цыплята целы, и яйца целы».
Где-то вдали были идеи создать и общую жизнь. Но в то же время Сютаев надеялся на царя. Вот что пишет об этом В. В. Рахманов: «Летом 1888 года Сютаеву пришла мысль пойти к царю Александру III и попросить его, чтобы он „для блага народа велел толковать Евангелие согласно пониманию Сютаева“. Мне известно, что, придя в Петербург, Сютаев посетил Н. С. Лескова, который старался отговорить его от этого шага. Но Сютаев его не послушался и пошел. Около входа во дворец он был арестован и по этапу отправлен на родину. „Не допустили, – рассказывал он. – А если бы допустили, то ли бы теперь было!“
Эти мечты, как мы видим, относятся к 1888 году, но надежды на царя пережили Сютаева, и даже сам Толстой писал из Гаспры письма Николаю II, уговаривая его отдать землю крестьянам.
В статье «Лев Толстой, как зеркало русской революции» Ленин писал, что и в революции 1905 года только меньшая часть крестьянства боролась хоть сколько-нибудь организованно «и совсем небольшая часть поднималась с оружием в руках на истребление своих врагов, на уничтожение царских слуг и помещичьих защитников. Большая часть крестьянства плакала и молилась, резонерствовала и мечтала, писала прошения и посылала „ходателей“, – совсем в духе Льва Николаича Толстого!»,
Супруги
Тяжело представлять себе жизнь Толстого того времени по мрачным и судорожно восторженным записям Софьи Андреевны; говорят, что если бы мы во сне всегда бы видели одно и то же, если бы сны имели свою непрерывность или последовательность, то мы считали бы сны явью. К несчастью, столкновения Софьи Андреевны с Львом Николаевичем не только были последовательны, но и логичны, рождаясь не из характеров людей, а из их бытия. Софья Андреевна была в доме как бы представительницей реального мира, его требований. Первоначально Софья Андреевна была отходчива. Вот супруги поссорились: Софья Андреевна уже мечтает о смерти и представляет, как будут ее жалеть после смерти. Потом она идет в лес, несколько часов с детьми собирает грибы и вполне успокаивается.
Вот столкновение снова возвращается, и тогда ошибочно кажется, что, кроме этого, в жизни Толстых ничего не было.
Софья Андреевна стремилась в Москву для того, чтобы жить в ней так, как жили другие дворянские семьи зимой.
Конечно, она считала, что будет жить совсем рядом с мужем. Но Лев Николаевич томился, снял во флигеле вместо роскошного кабинета две маленькие комнаты, уходил за Москву-реку, пилил там дрова, бродил по Москве, участвовал в переписи, возвращаясь, рассказывал о том, что волновало Софью Андреевну. Она не была злой женщиной и соглашалась помогать бедным людям – понемногу и тем, кого видишь.
Но Лев Николаевич рассказывал после посещений ночлежных домов и кварталов, где жила мелкота, потерпевшая жизненные неудачи, что эти люди боятся переписи – они не верят, что их не будут арестовывать и высылать, как зайцы не поверили бы собакам, если бы собаки сказали, что сегодня не будут ловить и убивать зайцев, а только считать и переписывать.
Заставляли думать обо всей жизни робкие, озябшие, больные ночлежники, мечтающие о том, чтобы согреться сбитнем, соснуть, одетые в какие-то тряпки, безнадежно напуганные.
Поражали рассказы о проститутках – шестнадцатилетних, четырнадцатилетних и даже двенадцатилетних. Об этом зле в полиции говорили почти весело. Но всего страшнее было то, что женщины, продающие себя, спокойно говорили о своем положении – так же, как разговаривали окружающие Софью Андреевну люди о своем жалованье, о своих поместьях.
Софья Андреевна соглашалась ужасаться, но ненадолго. Ее охватывал презрительный ужас – она думала, что это совсем другие люди, которые иначе голодают, иначе холодают, иначе спят. Тем самым она становилась чужим человеком для Льва Николаевича, который видел человеческое во всех и поэтому отвечал за то, что человек находится в таких страшных условиях.
Не надо представлять Софью Андреевну плохим человеком; она была обыкновенным человеком – способным, энергичным, работящим. Но относилась она к людям так, как к ним другие относятся: она принимала мир целиком, со всей его грамматикой и словарем, поправляя только то, что казалось ей случайными ошибками.
Сютаев ей тоже нравится постольку, поскольку нравится и другим.
Вот письмо Софьи Андреевны сестре от 30 января 1882 года (цитирую по Бирюкову):
«…Вчера был у нас чопорный вечер: была кн. Голицына и дочь ее с мужем, была Самарина с дочерью, Мансуров молодой, Хомякова, Свербеевы, и пр., и пр. Вечера подобные очень скучны, но помогло присутствие мужика – раскольника Сютаева, о котором вся Москва теперь говорит и возят его повсюду, а он проповедует везде. О нем есть статья в „Русской мысли“ Пругавина. Действительно, он замечательный старик. Вот он начал проповедовать в кабинете, все и переползли из гостиной туда, и вечер тем закончился». Далее Софья Андреевна рассказывает, что Репин одновременно с Татьяной Львовной пишет в кабинете портрет Сютаева, а кругом весь большой свет и нигилисты, и «кого, кого еще я не видаю».
В перечне на первом месте какая-то Голицына, вероятно, за то, что она княгиня: все это суетно. Внезапно оказывается, что Сютаев – это не только великосветская сенсация[21], обнаруживается, что вечерами домом Толстого интересуются жандармы, оказывается, что назревает какая-то борьба. Софья Андреевна прежде всего хочет, чтобы муж ее в этой борьбе не участвовал.
У Софьи Андреевны была мания благонадежности.
Толстой не просто хотел помогать людям, он с их судьбой вторгался в мир, который, по мнению близких людей, принадлежал им, – мир богатых. Толстой писал не о личных несчастьях отдельных людей – это можно было бы перенести: говорил всегда о системе взаимоотношений людей и сравнивал жизнь проститутки с той жизнью, которая его окружала.
Он был против строя, который его окружал, хотя и не мог его разрушить.
Как больной, не знающий, где бы ему улечься, чтобы ему заснуть наконец, он то уезжал из Москвы в Ясную Поляну, то из Ясной Поляны в Москву. В Ясной Поляне было немножко легче, но здесь он получал письма с Денежного переулка: «Маленький мой все нездоров и очень мне мил и жалок. Вы с Сютаевым можете не любить особенно своих детей, а мы, простые смертные, не может, да, может быть, и не хотим себя уродовать и оправдывать свою нелюбовь ни к кому какою-то любовью ко всему миру.
Я думала получить сегодня от тебя письмо, но ты вчера не побеспокоился написать и успокоить меня насчет тебя. Впрочем, чем мне беспокойнее, тем лучше. Скорей сгорит моя свечка, которую теперь приходится очень сильным огнем жечь с двух сторон».
А в это же время Толстой писал жене, объясняя столкновение: «Главное зло города для меня и для всех людей мысли (о чем я не пишу) это то, что беспрестанно приходится или спорить, опровергать ложные суждения, или соглашаться с ними без спора, что еще хуже. А спорить и опровергать пустяки и ложь – самое праздное занятие, и ему конца нет, потому что лжей может быть и есть бесчисленное количество».
Перед этим Толстой писал:
«Упиваюсь тишиной. Просителей избегаю. Мне очень хочется написать то, что я задумал.
В доме топят, в тетенькиной комнате. Перейду только, если будет совсем теплый и легкий воздух. Пробуду я, как бог на сердце положит и как ты напишешь».
Старый дом был тих и наморожен. В теплой комнате Марья Афанасьевна и Агафья Михайловна пили чай и беседовали тихо.
Толстой ждал и жаждал примирения.
Софья Андреевна на это письмо ответила по-своему растроганно и миролюбиво:
«Почему городская жизнь вызывает споры – этого я не понимаю, какая кому охота проповедовать и убеждать? Это просто неопытность и глупость – делать это, и надо это предоставлять неопытному и наивному Сютаеву».
Это голос человека, умеющего не удивляться.
Софья Андреевна считала обычную жизнь людей своего круга вечной. Жизнь людей вне ее круга – находящейся где-то далеко и ее не касающейся. Мысли Толстого – случайными и чудаческими. Двадцать девять лет ждала она, правда довольно нетерпеливо, когда же наконец Лев Николаевич станет такой, как она.
А Лев Николаевич продолжал жить в Москве рядом с Софьей Андреевной, но отдельно от нее. Он видел свою Москву – совсем другую.
Толстой пишет 27 марта 1884 года В. Черткову:
«В это же утро нынче пришел тот, кто мне переписывает, один поручик Иванов. Он потерянный и – прекрасный человек. Он ночует в ночлежном доме. Он пришел ко мне взволнованный. „У нас случилось ужасное: в нашем номере жила прачка. Ей 22 года. Она не могла работать – платить за ночлег было нечем. Хозяйка выгнала ее. Она была больна и не ела досыта давно. Она не уходила. Позвали городового. Он вывел ее. „Куда ж, – она говорит, – мне идти?“ Он говорит: „Околевай где хочешь, а без денег жить нельзя“. И посадил ее на паперть церкви. Вечером ей идти некуда, она пошла назад к хозяйке, но не дошла до квартиры, упала в воротах и умерла“. Из частного дома я пошел туда. В подвале гроб, в гробу почти раздетая женщина, с закостеневшей, согнутой в коленке ногой. Свечи восковые горят. Дьякон читает что-то вроде панихиды. Я пришел любопытствовать. Мне стыдно писать это, стыдно жить. Дома блюдо осетрины, пятое, найдено не свежим. Разговор мой перед людьми мне близкими об этом встречается недоумением – зачем говорить, если нельзя поправить».
В статье «Так что же нам делать?», в которой примеров было много, написано все мягче. Очевидно, Толстой надеялся провести статью сквозь цензуру.
Он построил статью на скорбном удивлении человека перед собственной своей жизнью.
Несчастную, голодную, богатую, распутную, дешево платящую за погубленные жизни Москву увидел Толстой. Он узнал после голода деревни голод города.
А жизнь продолжалась.
В Библии сказано: враги человеку домашние его. Это неправда. Человек переносит на домашних свою робость, собственную нерешительность: они – его оправдание и его гибель, если он не переделает жизнь.
Трудолюбие, или Торжество земледельца
I
Разобрать городских обездоленных людей по крепким крестьянским хозяйствам, то есть сделать то, что Сютаев предлагал Толстому, было нельзя. Крепкие хозяйства уже были хозяйствами кулацкими, о чем подробно писал самому Толстому Энгельгардт – сын известного общественного деятеля и публициста, человека очень осведомленного и хорошо знающего деревню.
Михаил Александрович Энгельгардт (1861–1915), высланный в деревню за участие в студенческих «беспорядках», увидел в деревне то, что на самом деле в ней происходило, и говорил то, что видел, а не то, что ему подсказывали со стороны.
М. Энгельгардт видит в деревне распад общины.
«В настоящее время положение вещей, как известно, такое: масса крестьянства поставлена в самые тяжелые экономические условия – земли мало, податей много, и рядом огромные пространства земли пустуют. Постоянная нищета, вечная необходимость биться из-за куска хлеба, не дает крестьянину времени одуматься, оглядеться, задать себе вопрос о смысле его жизни, ожесточает его: тут уж не до других – было бы самому живу. Развиваются эгоистические наклонности, а тут перед носом пустующие земли – лакомый кусок; каждому думается: удайся мне заарендовать или купить кусок земли – и вот я пан. И действительно, наиболее ловким, умным, способным личностям удается захватить себе земли и подчинить остальную массу крестьян в качестве батраков. Таким образом, люди вовсе не колупаевского пошиба, люди, как говорится, с искрой божьей, выделяются из общины в качестве эксплуататоров, община разрушается. Крестьянин наш не превратился еще в сознательного буржуа, засевшего на принципе собственности, как на каменном фундаменте, с которого его никакими рычагами не сдвинешь; но он все же не видит в общине единственно справедливого и разумного строя; иначе он давно перешел бы к общинной обработке земли. Он не видит ничего дурного в батраческом хозяйстве: „Поломай хряпку с мое, и ты станешь богат; я своим трудом добро нажил, не воровством, не грабежом…“
М. Энгельгардт предполагал, что нужно помешать распадению старого крестьянства при помощи пропаганды и для этой пропаганды использовать сектантство. Поэтому он и написал Толстому как человеку, который бы мог переосмыслить сектантское движение.
Письмо М. Энгельгардта – утопия.
Сектантство не могло переделать деревню, так как оно само создавалось на ее распаде и в то же время было архаично.
Ответ Энгельгардту поражает чувством одиночества, которое тогда переживал Толстой. Он говорит с незнакомым человеком, как с близким знакомым. Значит, ему не с кем говорить дома.
Это чувство одиночества, вероятно, и создало впоследствии то исключительное положение, в которое попал Чертков: человек, умеющий выслушивать и отвечать в тон, стал главным другом.
Письмо Энгельгардта, если пользоваться толстовским словарем, разморозило его душу. Ответ относится к концу 1882 года или к началу 83-го года. Начинается он трагически: «Вы, верно, не думаете этого, но вы не можете и представить себе, до какой степени я одинок, до какой степени то, что есть настоящий „я“, презираемо всеми окружающими меня».
Письмо занимает двенадцать страниц по печатному тексту Юбилейного издания. И полно спокойных и печальных не жалоб, а констатаций.
Толстой пишет о пьяном угаре, который втянул в разврат восемнадцатилетнего сына, очевидно, Илью. Он пишет, утешая себя евангельскими текстами. За многословием лежит реальное горе и незнание, как переделать жизнь.
Он предлагает вместо взрывов, выстрелов, типографий веру в Христа, отказ от присяги, отказ от военной службы. Хочет в это верить. Христианство для Толстого – это пять заповедей.
Эти пять заповедей уже в числе семи высеченных на скрижалях Моисея ничего не изменили. У Толстого они сократились.
Пять «не». Но что же делать?
«Да» – очевидно, дом, село, пашня, труд и равенство, состоящее в том, что все трудятся одинаково: носят себе воду, убирают горницы и пашут. Вот почему таким открытием для Толстого явилась рукопись Т. М. Бондарева, о которой он узнал из статьи Глеба Ивановича Успенского, поместившего в «Русской мысли» за 1884 год, в № 11, изложение учения Бондарева под названием «Трудами рук своих». Об этих надеждах и утрате их мы будем говорить сейчас.
В статье Глеба Успенского рассказывалось о сибирском крестьянине, который считает, что хлебный, мозольный труд – это основа жизни. Лев Николаевич начал искать имя этого крестьянина и узнал, что крестьянина зовут Тимофей Михайлович Бондарев и что он живет в Минусинском крае. Лев Николаевич начал искать рукопись и списался с дальним своим единомышленником. В 1885 году в середине июля он пишет Тимофею Михайловичу: «Доставили мне на днях вашу рукопись – сокращенное изложение вашего учения, я прежде читал из нее извлечения, и меня они очень поразили тем, что все это правда и хорошо высказано, но, прочтя рукопись, я еще больше обрадовался. То, что вы говорите, это святая истина, и то, что вы высказали, не пропадет даром; оно обличит неправду людей».
Всего Лев Николаевич написал Бондареву девять писем, из которых девятое уже не застало Бондарева в живых.
Рукопись Бондарева он хотел издать, но цензура не пропускала ее нигде. Неудачна была попытка в «Русском богатстве», не удалось напечатать вещь и в «Русской старине», ее напечатал журнал «Русское дело» в 1888 году (№№ 12 и 13), но номера были конфискованы.
В результате статья Бондарева появилась за границей на французском языке в Париже в 1890 году и на английском языке в 1896 году.
Предисловие Льва Николаевича к рукописи Бондарева появилось на русском языке (в приспособленном для цензуры виде) в XIII томе Собрания сочинений Толстого (Москва, 1890).
До этого сам Бондарев рассылал свои рукописи в разные стороны по разным начальственным адресам.