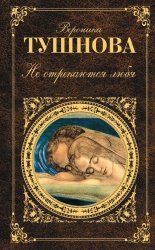Я отвечаю за все Герман Юрий
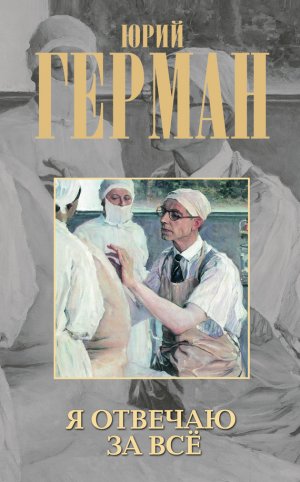
— Был, — сухо ответил Владимир Афанасьевич.
— Во всяком случае, вы представляете себе, как оперирует хирург в ту пору, когда его прорабатывают? Предупреждаю, что проработка ни в коей мере не касалась моей деятельности как медика. Она вся сосредоточилась на том, что профессор и его студентка… В общем, идиотизм!
Щукин вдруг вспылил до того, что идеально выбритое его лицо пошло красными пятнами.
— Мои больные ждали, а я не работал. Понимаете? Меня лишили доверия, потому только…
И эту фразу он не договорил.
— К черту, — сказал Федор Федорович, — к чертям собачьим. Все дело было опять не в этом. Я сам им бросил кость. В лечебном учреждении, в котором я работал и, смею вас уверить, не без пользы, изображала собою врача одна труляляшка, к сожалению супруга власть имеющего деятеля. Я эту труляляшку со свойственной мне, опять к сожалению, грубостью как-то в сердцах, — согласитесь же, бывает, когда дело касается больных людей, — обругал. Не сдержался. Виноват. Конечно, виноват! И вот учинили со мной расправу. С морально-этической стороны. Как всегда случается в таких жизненных переплетах, всплыло наружу решительно все: все мои грубости, которые имели место, да, да, имели, всплыло и то, что я люблю поесть, это оказалось криминалом, всплыло и то, что, когда вышла в свет моя, быть может, известная вам книга об онкологии, я позвал в ресторан двенадцать человек — метранпажа, старшего корректора, двух младших, наборщиков… В общем, еще тогда, до войны, был напечатан хлесткий фельетончик под названием «Много шуму из ничего». Смысл этой нашпигованной намеками статейки заключается в том, что якобы профессор Щукин праздновал то, что следовало оплакивать, потому-де на данное празднование и не пришли «подлинные ученые». Несмотря на полнейшую нелепость всей концепции фельетона и на то, что друзья и ученики Щукина доказали эту нелепость, опровержение напечатано не было, хоть редактор и принес устно свои извинения. Извинений я не принял. «Оплевали, говорю, на весь Союз, а извиняетесь в кабинете».
— Тем и кончилось?
— Нет, к сожалению, не кончилось. Во-первых, как вам известно, вопреки пословице, брань на вороту виснет, а во-вторых, в соответствии с пословицей, пришла беда — отворяй ворота…
Щукин отхлебнул простывшего кофе, хотел закурить папиросу, но забыл и, положив свою руку на локоть Устименки, неожиданно заключил:
— Меня «сделали по первому номеру», понимаете? Все.
— Все-таки не понимаю, — сказал Владимир Афанасьевич. — За что же вас все-таки могли «сделать по первому номеру»?
— Этого и я не понимаю. Но факт остается фактом. Две мои работы не печатаются, а работы, скромно говоря, практически полезные. Но не издают… Правда, нашлись коллеги, которые добрыми голосами предложили мне соавторство. Их двое — я третий. Так незаметнее, так я проскочу, вроде бы на запятках карет их превосходительств. Простите, отказался, и опять-таки в грубой форме, теперь мы не кланяемся, и они очень мне помогли освободиться от моих многочисленных обязанностей и уехать сюда. Вот с таким букетом я и приехал по вашему приглашению. Но прежде чем приступить к своей деятельности, мне показалось необходимым изложить вам все эти ароматные детали для того, чтобы у вас не сложилось ощущения, будто вас обманули. Вот я тут перед вами, каков есть, плюс те подробности с неоперабельными больными, которых я, случалось, оперировал не без успеха…
Грустная, несмелая усмешка вдруг пробежала по лицу этого бывшего победителя жизни, и глаза его вновь взглянули в глаза Устименки.
— Так как? — осведомился Щукин. — Теперь понимаете, почему я приехал в гостиницу? Деньги у меня еще есть, я продал библиотеку…
— Щукинскую? — ахнул Владимир Афанасьевич.
— Да, и притом выгодно, — с какой-то мучительно-издевательской нотой в голосе ответил профессор, — жулик попался букинист, но красиво дельце обделал. Но не в этом суть. Берете — предупреждаю, еще навалятся на вас за меня, не враз расхлебаете, характер-то у меня прежний; а не возьмете — двинемся мы с Еленой Викторовной чуть северо-восточнее, там есть ученик, зовет.
— Я очень вам благодарен, что вы приехали в Унчанск, — негромко, как бы даже без всякого выражения сказал Устименко. — Честно говоря, думал, так это все — вежливые письма. И будьте совершенно уверены, Федор Федорович, вы с женой не раскаетесь, что приехали сюда.
— Но все то, что я вам рассказал…
— Вздор все это и несерьезная мышиная война…
— Несерьезная, однако же…
— Наплевать и забыть, — круто сказал Устименко. — Единственно, что жалко, так это библиотеку вашу, мы не столичные врачи, и то о ней наслышаны. Впрочем, и на библиотеку наплевать. Были бы кости, а мясо нарастет. Поедем?
Устименко поднялся.
— Куда это?
— А к вам, в онкологию. Все ждут.
— Как — сейчас?
— Конечно, сейчас, — глядя в глаза Щукину своим твердым и прямым, вечно невзрослым взглядом, сказал Устименко. — Сегодня ненадолго появитесь, а завтра приступите.
Щукин все еще о чем-то думал.
— Там ведь больные, — чуть повысив голос, произнес Владимир Афанасьевич. — Ждут!
— Да, да, ждут, — быстро и виновато согласился Щукин, — конечно, да, конечно, ждут.
Он поднялся, подозвал официанта, заплатил и за Устименку, который все же попытался втолкнуть свою тридцатку, но так и не втолкнул, разумеется; поправил галстук, легкими, молодыми шагами сбегал наверх, чтобы одеться, и, спустившись, моложавый, стройный, элегантный, задумчиво повторил устименковские слова:
— Наплевать и забыть! Неужели так и будет? Наплевать и забыть?
В новой онкологии суховатый и не расположенный к сантиментам знаменитый Щукин вдруг, что называется, «развалился на куски» от некой штуки, организованной Богословским.
Об этом замысле Николая Евгеньевича Устименко решительно ничего не слышал и даже слегка рассердился, когда их обоих — и его и Щукина — почему-то задержали в том самом вестибюле, где когда-то отстреливался от карателей Постников.
Няньки метались, пробежал Митяшин, якобы куда-то подевались халаты.
Но дело было не в халатах, дело было в том, что потерялся Богословский. И не потерялся, а просто никто не заметил, как пронырнул он в перевязочную и там застрял. Халаты тотчас же нашлись, Щукину подали такой сверхпрофессорский, что он даже пальцами пощупал — «ну и ну!». Во втором этаже слышалось непривычное для больничных зданий хлопанье дверей, топот, какое-то шиканье и поторапливание.
— Случилось что-нибудь? — осведомился Щукин, высоко неся свою великолепную седую голову. — Почему все бегут?
В общем не случилось ничего: просто Богословский поднес своему знаменитому коллеге хлеб да соль на вышитом полотенце. Поднес, хотел речь произнести, но не смог, сдали вдруг стариковские нервы, махнул рукой и сказал:
— Вы уж простите, Федор Федорович, вякать разучился. Вот мы, все тут собравшиеся, себя от души поздравляем с вашим приездом. Спасибо вам, наш дорогой, мы тут, как говорится, с ног без вас сбились…
Щукин взял хлеб на ручнике, подержал, губы его дрожали. Статная, белокурая, кровь с молоком, сестра Зоя выручила, понесла хлеб на стол. Знаменитый профессор Щукин пожал ее руку, заглянул в глаза со своим характерным выражением, строго спрашивающим, сказал, сразу справившись с собой:
— Ну, давайте знакомиться, с кем работать будем. Щукин. Вы — кто?
И пошло:
— Щукин. Вы — кто?.. Вы — кто?
Так дошел он и до Богословского, с которым в спехе и волнении не поздоровался поначалу. Они обнялись, поцеловались трижды — деревенский доктор и знаменитый профессор, а в общем два неуемных скандалиста. Вокруг теснились раскрасневшиеся от волнений, связанных с приездом «самого Щукина», Нечитайло, Воловик, Волков, Митяшин, Женя, Закадычная. Погодя пришел Гебейзен в крахмальном воротничке.
— Я помню вашу фотографию, — сказал Гебейзену Федор Федорович, — в вестнике Международного Красного Креста. Была? Не путаю?
— Была, — ответил австриец, — не путаете. Я, правда, был тогда молодой…
Забежал, как бы невзначай, Вагаршак — посмотреть на знаменитого Щукина, поскрипела дверью Люба, которая, разумеется, не могла остаться в стороне от таких событий, как приезд Федора Федоровича, шепотом сказала Устименке:
— Когда в Унчанск приедут Петровский с Вишневским, можете уходить на пенсию, родственник. Но мне кажется, что вы все-таки Остап Бендер.
— Убирайтесь отсюда! — велел Устименко. — Ваше дело — лисьи хвосты и продуктовые склады.
В час дня Щукин начал операцию. Владимир Афанасьевич, Нечитайло и даже Богословский только вздыхали, глядя на эти невероятные руки. Восторженная Женя сказала, что пойдет за профессором на край света и что она нигде никогда ничего подобного не видела и не увидит, разумеется, никогда. По онкологии поползли слухи, что «хромой доставала» Устименко привез в Унчанск самого главного академика по раку. Потом вдруг Щукин, из-за своей энглизированной наружности, был произведен в иностранного специалиста. Попозже Амираджиби, любивший «травлю», пустил слушок, что Щукина он в свое время возил на пароходе оперировать не то какого-то короля, не то президента, за давностью времени и секретностью события будто бы детали подзабылись.
В шесть часов вечера Федор Федорович Щукин без всякой помпы, сопровождающей обычно «архиерейские» профессорские обходы, навестил старого своего знакомого Сашу Золотухина, посмотрел шов, покачал головой на уже известную ему ошибку Шилова, хоть, конечно, виду и не подал, по поводу чего качает головой, и сказал, что, по его мнению, не пора ли-де молодому товарищу отсюда убираться? Пора ему, пожалуй, на лыжи. Не так ли, Николай Евгеньевич?
После Золотухина пересел он к Амираджиби. Разговор с капитаном был долгий и бесполезный.
— Воздух и еда, — сказал Щукин тем неприязненным голосом, каким говорят настоящие доктора, когда им решительно нечего сказать. — Заставляйте себя есть во что бы то ни стало! И без конца воздух.
— Я не могу есть! — печально улыбнулся Елисбар Шабанович.
— Икру. Мясо. Рыбу. Фрукты.
— Невозможно.
— Надо себя принудить!
— Не получается.
— Кровь? — спросил Щукин, не оборачиваясь к сестре.
— Девять тысяч, — усмехнулся капитан. — Считается, прекрасно.
Щукин встал.
— Оно и в самом деле прекрасно, — подтвердил он. — Надо взять себя в руки, вот и все…
В десятом часу Щукин позвонил к себе в номер из кабинета Устименки.
— Скоро, — сказал Федор Федорович. — Не обедал. Очень. Ни в коем случае. Потому что остаемся. Никогда. Великолепная. Хлеб да соль есть, остальное неважно. (Богословский в это мгновение подмигнул Устименке.) Бесконечно. Нисколько. Я не так стар, чтобы устать в нормальный операционный день. (Эти слова он произнес почти шепотом.) Немножко потолкуем, и я приеду. Повтори. Еще повтори. Еще. И я тоже. Сейчас.
Закрыв трубку ладонью, он спросил Устименку:
— Елена Викторовна осведомляется, когда ей явиться на работу?
— Завтра, вместе с вами.
— Завтра вместе поедем, — сказал Ляле Федор Федорович. — Привет от Владимира Афанасьевича.
Некоторое время они посидели молча. За окнами визжала мартовская метель, билась в стекла, ухала высоким, устрашающим голосом.
— Машины, к сожалению, у нас нет, — сказал Владимир Афанасьевич. — И вряд ли будет.
— Неважно, — ответил Щукин. Он курил и о чем-то думал.
— Ездить далеко, — вздохнув, пожаловался Богословский. — Трудновато бывает.
— Наплевать и забыть! — повторил Щукин еще раз слова Устименки. Потом вдруг произнес с неожиданной и крутой вспышкой ненависти: — Один ученый людоед, которому я премного обязан в своих веселых жизненных обстоятельствах, не сказал, но написал в ученом трактате, что «проявления лучевой болезни, как правило, даже незаметны для больного и обнаруживаются только при исследовании крови». Видели что-либо подобное? А я, имея дело с отоларингоонкологией, совершенно точно знаю, как ужасно страдают люди облученные, подобно этому вашему грузину-капитану. И никому дела нет.
— Решительно никому, — подтвердил Устименко. — Я горы литературы переворошил, никто этим не занимается. И вы не сердитесь, Федор Федорович, но — что даже вам известно про облепиху?
— Про облепиху? — усмехнулся Щукин. — Довольно много. Но главное — это то, что сбором растения никто не занимается. Не занимаются преступно, потому что это пока единственное в мире средство, которое помогает в тяжких страданиях тем, кого мы пользуем рентгенотерапией. Вы, быть может, хотите, чтобы я рекомендовал облепиху своим больным?
Шел одиннадцатый час, когда Щукин наконец уехал из больницы. Устименко накинул поверх халата шинель и под ударами вьюги, отплевываясь и оступаясь больной ногой в сугробах, едва доплелся до терапевтического отделения. Толстая Воловик, дежурившая нынче, раскладывала пасьянс «Наполеон», когда Владимир Афанасьевич, постучавшись, вошел в ординаторскую. Лицо у него было суровое и усталое, скулы горели от ударов снежного ветра.
— Ужели на отделении так все спокойно, что хоть в карты играй? — спросил он сухо. — И, простите, доктор Воловик, ужели вам и подумать не о чем, что вы себя на дежурстве этим занятием забавляете?
Она смотрела на него кроткими коровьими глазами.
Он, прихрамывая, пошел по коридору. В четвертую палату дверь была приоткрыта. Родион Мефодиевич Степанов дремал, лампа на его тумбочке затенена книгой — томом «Войны и мира» — значит, Варвара здесь.
Он постоял еще в сумерках коридора, послушал.
И понял, что она там, в глубине палаты, помогает дежурной сестре. Звякнула ампула, упав в таз, сестра сказала раздраженно, словно и вправду Варвара тут служила:
— Сильнее протрите, не жалейте спирту!
— А вам не скучно все время сердиться? — со смешком осведомилась Варя.
Потом он видел, как она села на свободную койку рядом с отцом. Ноги ее не доставали до полу, лицо было усталое, но какое-то ласковое выражение как бы освещало весь ее облик уютным и домашним сиянием. А может быть, она улыбалась? Чему?
«Ты чего, Варька?» — чуть не спросил он, как спрашивал когда-то давно, еще на улице Красивой.
Но ничего не спросил, махнул лишь рукой да отправился ковылять по снежным сугробам туда, где его никто не ждал и где он никому не был нужен с его «событиями», вроде приезда Щукина.
БОЛЬШАЯ ИГРА
Эту ночь Гнетов тоже почти не спал и только к рассвету внезапно придумал, что ему делать. Это было, как в пушкинском «Пророке», которого с каким-то тайным, только ему понятным, смыслом читал иногда Штуб в трудные военные часы. Читал, придумав свой очередной «ход». Читал, и зрачки его умно и остро поблескивали под толстыми стеклами очков:
- И шестикрылый серафим
- На перепутье мне явился;
- Перстами легкими, как сон,
- Моих зениц коснулся он,
- Отверзлись вещие зеницы,
- Как у испуганной орлицы.
Шел восьмой час утра. Гнетов напился воды, выкурил еще папиросу; загибая пальцы, неслышно шепча, подсчитал этапы большой игры. Сердце его билось ровно и спокойно. Штуб ведь учил — ничего не решать в воспаленном состоянии. И постоянно повторял слова Дзержинского о чистых руках, холодной голове и горячем сердце.
Часа два снился ему опять тот же сон: машина заваливается на бок. Еще живая, но уже обреченная. Ее не вытянуть больше. И Гнетов оттягивает фонарь. Это было нелегко тогда, в считанные секунды. Каково же это было сейчас, когда секунды превращались в часы и он решал часами, как быть?
И все-таки встал он отдохнувшим, вероятно из-за принятого решения. Недаром Август Янович любил говорить: «Когда все решено, можно отоспаться, иначе не выйдет!»
Ах, если бы вместо Свирельникова тут командовал Штуб!
Но пришлось идти все-таки к Свирельникову.
— Ей имеется письмо, — сказал полковник, кладя перед собой вскрытый конверт. — С Москвы. От некоего Степанова Р. М. Переслали из лагеря. Степанов Р. М. является ее мужем. Какая сука стукнула ему адрес места заключения — это мы со временем выясним. А пока…
Скулы Гнетова напряглись. Пожалуй, можно было вступать в игру. В большую игру. Момент благоприятствовал. Хоть письмо и было неожиданностью.
— Степанов Р. М. — Герой Советского Союза, — сказал Гнетов, — контр-адмирал. Мне такая фамилия известна…
Свирельников быстро осведомился:
— От нее?
— Нет, — задумчиво ответил старший лейтенант, — по прежней работе. Большой человек. Так что вряд ли ему стукнули, мог официально получить справку.
Полковник чуть забеспокоился:
— Это как?
— Ищет человек свою жену, — все так же задумчиво и совершенно незаинтересованно пояснил Гнетов. — Дошел до больших верхов. Там сказали — разберемся. Ведь бывают случаи, — разбираются и человека освобождают…
Свирельников наморщил лоб.
— Ты договаривай, — сказал он озабоченно. — Ежели чего знаешь — мы люди свои. Чего еще знаешь?
Нет, пока что можно было и повременить, подержать козыри при себе.
— Ладно, иди, работай с ней, — распорядился Свирельников. — С письмом поиграйся, но ей не давай окончательно. Если поведет себя прилично — тогда ознакомь. Но только если вполне себя прилично поведет. Прочитай сам-то письмо. Должен быть в курсе дела…
Гнетов развернул большой лист и, не торопясь, прочитал кровоточащие, но притом совершенно сдержанные строчки, написанные Родионом Мефодиевичем еще в Москве, в госпитале, когда Цветков сдержал свое слово.
— «Все верят тебе, и все борются за восстановление твоего честного имени, — тусклым голосом, как бы даже чуть иронически, огласил старший лейтенант, — жди и надейся».
— Это как? — своей обычной, туповатой формулой вновь осведомился обеспокоенный полковник.
Он даже карандаши не чинил нынче.
И по тому, как он морщил лоб, было видно, что в нем происходит мыслительная, крайне для него трудоемкая деятельность.
— Что значит «жди и надейся»?
Старший лейтенант незаинтересованно пожал плечами:
— Всем небось так пишут.
— Ладно, иди, — велел Свирельников, — иди разбирайся, чего вы там с Ожогиным наломали, иди делай по-быстрому. И чтобы в аккурат, культурно. С питанием как у нее? Ехлакову этому от меня передай, чтобы все в ажуре было. И подумай головой: ежели где что перестраховщики натворили — нам за это отвечать ни к чему… Пускай сам Копыткин и расхлебывает, — вдруг крикнул он.
В коридоре Гнетов постоял, чтобы собраться с мыслями. «Проживаем мы в Унчанске, — повторил он про себя фразу из письма Степанова, — племянник твой и другие». Дальше Гнетов не помнил. Он помнил только Унчанск, тот Унчанск, где работает Август Янович Штуб. И Штуб там, и Степанов там — абсолютно неизвестный ему прежде Степанов, которого только вчера на очередном допросе назвала ему Аглая Петровна. И сама она командовала унчанским подпольем. Что ж, игра может оказаться и не такой уж большой, в дурачки, или… какие еще есть там детские игры?
В больнице все было как обычно, как до начала затеянной им игры. Старухи — Штюрмерша и Россолимо — сплетничали у топящейся печки, из коридорного тупика доносилось унылое пение:
- Четыре года мы побег готовили,
- Харчей три тонны мы наэкономили,
- И нам с собою даже дал половничек
- Один ужасно милый уголовничек…
— Вы только прислушайтесь, гражданин офицер, — сказала Штюрмерша. — Ну что, что они поют? Разве нет настоящей, проникновенной, подлинной музыки? Ужасно, ужасно у нас с культработой!
Гнетов ничего не ответил, только удивленно взглянул на Штюрмершу, которая от преклонных лет стала уже прорастать бородой.
— Молоко Устименко сегодня давали? — спросил он у Руфа Петровича, который, по обыкновению, ел в своем кабинетике.
— Сейчас проверим! — вскочил Ехлаков.
Гнетов не без удовольствия передал ему приказ Свирельникова. Служака-врач выслушал распоряжения начальства, стоя по команде «смирно». Но лицо у него при этом было печальное — то, что приказано было давать Устименко А. П., уж, естественно, не украдешь! И он как бы вычел в уме из своего рациона некую толику с чувством, что его грабят.
Молоко Устименке отнесли, отнесли и масло и хлеб. Процесс доставки дополнительного питания осуществляли вдвоем Штюрмерша и Россолимо. Гнетов еще выкурил папиросу в кабинете у Руфа, который тоскливо дожидался, когда настырный старший лейтенант с вареным лицом уйдет, потом поднялся, поглядел в намертво промороженное, белое окно и зашагал по коридору.
— Здравствуйте, — сказал он, обдумывая — сейчас вручить письмо или после разговора. Если сейчас, она, привыкшая ко всему, решит, что ее покупают. А если в конце, что она подумает? Нет, лучше в конце. И, садясь, Гнетов спросил: — Как сегодня? По виду — лучше.
— Ничего, — тихо ответила Аглая Петровна.
В руке ее была кружка с молоком.
— Продолжим? — осведомился он.
Она пожала плечами.
— Мы остановились на вновь прибывших, так ведь?
— Но зачем это вам?
— Пожалуйста, ответьте.
В его тоне слышалась просьба. Твердая, но просьба. Словно ему хотелось для ее пользы, чтобы она ответила на этот дурацкий вопрос. Будто и в самом деле хоть что-то могли изменить в ее судьбе эти разговорчики.
Она вздохнула и отпила еще молока. Ей было понятно, что горячее молоко в эмалированной кружечке — тоже дело рук и энергии Гнетова. И понятно также, что уже тем, что она пьет это молоко, обозначено ее поражение.
Первый раз за все эти невыносимые дни и ночи в лагерях и на этапах, в тюрьмах и на допросах ей было легко. А почему — она не знала. Разве что нынешний ее следователь похож на Владимира? Нет, пожалуй, не похож.
— Пожалуйста, ответьте! — во второй раз попросил он.
— Вновь прибывших там называли цуганги.
Гнетов кивнул.
— Треугольник с номером — винкель — указывал национальность и род преступления, с точки зрения фашистов. Случалось, что красный винкель давали за контрабанду, за нелегальный переход границы, но и за политическое преступление тоже. Тут все зависело от местного гестапо. Уголовники носили зеленый треугольник, еврейки — звезды, а «асо», то есть асоциальные, — черный винкель.
Она еще отпила молока. Следователь слушал ее внимательно. Девчонки за тонкой стенкой запели:
- Я знаю, меня ты не ждешь
- И писем моих не читаешь,
- Встречать ты меня не придешь,
- А если придешь — не узнаешь…
— У вас щипали себе щеки? — спросил Гнетов.
— Непременно. Кого ставили в первые ряды пятерок. Если надзирательница заметит, что ты слишком бледная, — плохо твое дело. Иди в зал ожидания перед крематорием…
Чуть косящие глаза Аглаи Петровны смотрели вдаль. Словно она и не замечала беленой стены. Словно и сейчас она видела ту капо, о которой рассказывала, — в брюках, высокую, стройную, с черным винкелем, с золотыми волосами. Самую жестокую. И самую веселую. Самую красивую. И самую ненавидящую.
— Где был сбит ваш самолет? — спросил Гнетов.
— Он не был сбит, — спокойно ответила Устименко. — Он был подожжен. Летчику все-таки удалось сесть. И мы сразу разбежались.
— Кто это мы?
— Опять все с начала, — вздохнула Аглая Петровна. — Какой смысл в этом разговоре?
Гнетов встал, открыл форточку и закурил. Она посмотрела на него с удивлением. Никто из «них» не курил при ней в форточку.
— Простите! — сказал Гнетов и притушил о радиатор едва закуренную папиросу.
Она опять пожала плечами. И вдруг почувствовала себя неловко. До того неловко, что даже порозовела.
— Может быть, на этот раз мне верят? — спросила Устименко резко.
— Я вам верю, — тихо ответил Гнетов. — Но нужно сделать так, чтобы поверили и другие. Помогите мне.
Он смотрел на нее твердым взглядом. Твердым и чистым. Чистым и строгим. Строгим и вежливым взглядом молодого человека, волею обстоятельств принужденного вести именно этот разговор.
— Вы разговариваете со мной уже девятый раз, — сказала Аглая Петровна. — Неужели вам не все ясно?
— Когда летчик посадил горящий самолет, куда вы побежали?
— Если не ошибаюсь, деревушка называлась Лазаревское.
— Это здесь?
Гнетов ткнул карандаш в карту, которую принес только нынче.
— Нет, за рекой, — сказала Аглая Петровна. — Я помню, что когда нас угоняли в Германию, то мы переходили мост, построенный немцами. Вероятно, южнее. Вот здесь, пожалуй.
— А про участь других, летевших с вами, вам ничего не известно?
— Бабы в Лазаревском говорили, что немцы всех позабирали. Позабирали и увезли. А сейчас вы, наверное, зададите мне вопрос, почему меня не забрали? Не знаю! — быстро сказала Аглая Петровна. — Ничего не знаю. Они в Лазаревском и не искали. Не пришли. Мужчины не выдали меня — так я понимаю…
Гнетов кивнул.
И поднялся.
— Ну, отдыхайте, — сказал он, сворачивая карту в трубочку. — Отдыхайте и ни о чем не думайте. Как вам тут? Сносно?
— Вы — всерьез? — спросила она.
— Да, серьезно, — ответил Гнетов. — Вам надо поправиться.
— Для чего?
— У вас есть родные? — спросил он в ответ.
— Для того, чтобы и им за мои отсутствующие грехи досталось?
Гнетов покачал головой. Она вновь смотрела в беленую стену, словно бы в далекую даль. Он стоял, почему-то ему не хотелось уходить.
— Знаете, — услышала она, — право же, не надо. Я понимаю, я все понимаю, но только не следует совсем ни во что не верить.
— А вы думаете, я ни во что не верю?
Он промолчал.
Девчонки-воровки рядом пели раздирающими душу голосами, как и положено петь «блатное»:
- Сидел я в несознанке, ждал от силы пятерик,
- Как вдруг случайно вскрылось это дело,
- Пришел ко мне Шапиро — защитничек-старик,
- Сказал — не миновать тебе расстрела…
— У меня для вас письмо, — произнес Гнетов, когда воровки пропели про то, как бандита, в конце концов, расстреляли.
— И что я должна вам рассказать за это письмо? — холодно поинтересовалась Аглая Петровна.
— Все, что меня интересует, вы уже рассказали, — так же холодно ответил странный следователь. — Вам надлежит с письмом ознакомиться и ответить на него.
— Я лишена права переписки, разве вы не знаете?
— Письмо отправлю я. Вот вам карандаш и бумага. Конверт я заадресую сам. Не пишите пока никаких подробностей.
И Гнетов отвернулся, чтобы не видеть, как она станет читать письмо мужа — первое полученное ею за все это время. Отвернулся и опять пошел по коридору, якобы прогуливаясь и раздумывая, заложив руки за спину, в сапогах с широкими голенищами, старше себя эдак лет на пятнадцать…
Россолимо и Штюрмерша ели у печки только что испеченные картофелины, в тарелке репродуктора раздался властный, начальственный и в некотором роде артистичный голос главы самодеятельности Пенкина. Начальник АХО известил своих слушателей, что сейчас соединенными усилиями хора и оркестра будет исполнена «Кантата о Сталине». Кантата была очень длинная, почти невыносимо длинная, и сразу вслед за ней заключенный-диктор стал рассказывать о победах на фронте лесоповала. А Гнетов ходил и думал, ходил и думал, пока не рассчитал, что может вернуться к Устименко.
Та лежала неподвижно, верхняя губа ее была чуть-чуть прикушена.
— Вы написали? — спросил он.
— Да, — едва слышно ответила она. И протянула ему листок бумаги.
— Я догадалась, — вдруг услышал он. — Вы из ЦК. Мое письмо дошло?
Он не мог ничего ей ответить. Горло у него перехватило. И даже сказать «до свиданья» толком он не смог. Он попятился, что было совсем не свойственно его характеру, боком открыл дверь и ушел, спрятав письмо Степанову в нагрудный карман кителя.
К часу дня Гнетов побывал на почте и заказным отправил в Унчанск лаконичное сообщение Аглаи Петровны о том, что она жива, здорова и надеется на скорую победу справедливости в ее деле. Затем он быстро пообедал и писал до половины пятого. Прекрасная и героическая повесть жизни Аглаи Петровны легко и свободно укладывалась в суховатые фразы официального документа, который должен был послужить к полному оправданию Устименко. Перечитав исписанные четким, острым почерком листы, Гнетов еще кое-какие фразы уточнил, выбросил решительно все восклицательные знаки, посидел несколько минут отдыхая и направился к Свирельникову. Тот кусал колбасу, как он любил, от «куска» и читал газету, подчеркивая в ней красным карандашом особо важные места, в которых чудились ему некие важные политические намеки и «нацеливания», назначаемые пометками к вторичному и пристальному прочтению. Это занятие называлось у полковника «прорабатыванием материала».
— Ну, так, — произнес он после приличной паузы. — Письмо сработало?
— В некотором смысле…
— Как это?
— А так, что вся биография Устименко теперь мне полностью ясна.
— Давай докладывай.
— Я все написал…
— Давай докладывай словами.
Гнетов напрягся. Пожалуй, сейчас и начнется большая игра. Или погодить? Не огорашивать сразу? Приберечь к концу?
— Формулировки не готовы?
— Нет, почему же, готовы…
И старший лейтенант толково, спокойно и связно рассказал историю Аглаи Петровны. Свирельников кивал. И на то, как был подбит самолет, и на то, как Устименко была направлена в Германию на работы под другой фамилией, и на то, как ее там заподозрили в распространении рукописных листовок, и на то, как она оказалась в лагере уничтожения, и на то, как была освобождена американскими войсками…
— Стоп! — сказал он вдруг. — Пропустил, когда именно ее завербовали.
— Как завербовали?
— Когда именно ее империалисты завербовали? По твоим данным — когда?
— Она честный человек, — сказал Гнетов все еще спокойно. — Я терминологию перепроверял, топографию, — тут, товарищ полковник, допущена ошибка…