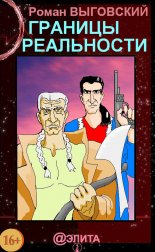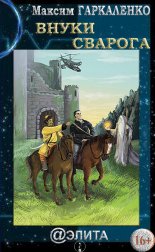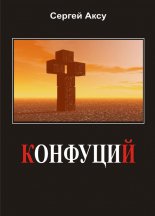Невинность Кунц Дин
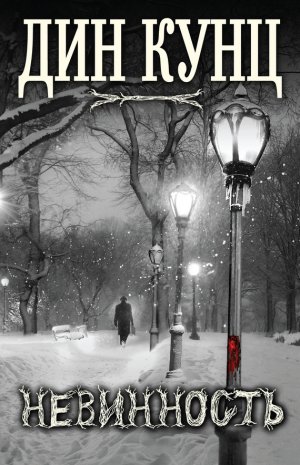
Она схватилась за простыню, вытерла лицо, но я знал, что этого недостаточно, чтобы ее спасти.
– Умрешь, как я, как я. – Куратор выжимал из себя каждое «я», воздух едва проходил по распухшему горлу. Человек-монстр, монстр и клоун, от души повеселивший себя, и оставайся у него силы, он бы пустился в пляс.
Видит бог, я чуть не отшвырнул находящуюся в коме девочку, чтобы схватить пистолет и пристрелить его. В ушах зашумело так громко, будто где-то рядом вода прорвала дамбу и теперь падала с высоты в сотню футов, перед глазами засверкали звезды, костный мозг заледенел, гнев захлестнул меня и едва не лишил рассудка, но девочку я все-таки не бросил.
– Уноси ее отсюда, – велела Гвинет.
– Ванная, горячая вода, мыло, умойся, – ответил я.
– Шевелись, шевелись, давай, уходим.
У Телфорда начался очередной приступ. Тело свело судорогой. Он наклонился над кроватью, его вырвало, но определенно не тем, что он съел, а внутренностями. С урчанием кишок и треском ломающихся костей он повалился на пол и исчез из виду.
– Пошли, пошли, – торопила меня Гвинет и первой вышла из комнаты, мимо ванной, где могла бы воспользоваться горячей водой и мылом, по коридору, к лестнице, и я ничего не мог сделать, ничего, кроме как следовать за ней, ноги подгибались под тяжестью девочки и грузом моего ужаса.
Я уже спускался по лестнице, когда меня окутал дурной запах из камина архиепископа, вонь охваченных пламенем марионеток Паладайна.
Я остановился, и Гвинет его тоже почувствовала, потому что, продолжая спускаться, сказала:
– Это ерунда, их здесь нет, явный обман, такой же, как стук на чердаке. Пошли.
Мимо мертвого Уолтера, через фойе. Дверь, крыльцо, калитка в железном заборе, каждый ориентир на обратном пути выглядел не менее зловеще, чем чуть раньше, когда мы только направлялись к дому.
Гвинет открыла дверцу заднего борта, и я осторожно положил девочку в багажное отделение «Ленд Ровера».
На улице двое или трое людей откапывали свои автомобили из-под снега. Лихорадочно откапывали, так спешили, что даже не оторвались от своей работы, чтобы глянуть на нас.
Захлопнув заднюю дверцу, я спросил у Гвинет:
– У тебя в бардачке есть дезинфицирующий гель? Что-нибудь? Машина поведу я.
– Ты не знаешь, как это делается. Со мной все будет хорошо, Аддисон.
Она села за руль, а мне не осталось ничего другого, как занять пассажирское сиденье, а потом мы тронулись с места. Поехали, но только куда и зачем?
68
Кто мы, сокрытые от всех, что мы, почему вообще существовали, объясняло тайну музыки, доносящейся из ниоткуда.
В дни после той жуткой ночи в городе, располагая временем, чтобы все обдумать, я осознал, что отец никогда не слышал этой прекрасной, но грустной мелодии, которая каким-то образом нашла путь в мое трехкомнатное убежище, расположенное глубоко под землей. Он обрел покой на дне реки за год или даже больше до того, как первые ноты зазвучали вокруг меня, когда я читал книгу.
Иногда ноктюрн игрался только раз, звуки окружали меня, я восторгался чистотой мелодии, мое сердце понимало все эмоции, вложенные в музыку. Я знал, что для композитора побудительным фактором послужило горе, и это сочинение – следствие утраты кого-то очень близкого, но также восхищался талантом этого человека и мудростью решения не поддаться горечи, а превратить ее в прекрасное. В других случаях произведение играли два или три раза, случалось, и все пять, и повторение заставляло меня полностью забыть все мысли о личности композитора и его мотивах. С какого-то момента музыка выражала мои чувства, связанные с моими утратами.
Будь отец жив, когда возник этот феномен, услышь он этот ноктюрн и, как я, заинтересовавшись его источником, он бы наверняка сформулировал вопрос: чьим усилием это произведение для фортепьяно могло пересечь полгорода под землей, без помощи проводов или беспроводных технологий, а потом звучать в наших комнатах в отсутствие приемника, усилителя и динамиков? Разговоры на эту завораживающую тему привели бы к догадкам, догадки – к предположениям. Предположения – к версиям и, наконец, к рабочей гипотезе, которая со временем могла быть отвергнута, и тогда процесс начался бы с самого начала.
Отец никогда не перешел от рабочей гипотезы к доказательству теории, потому что при жизни так и не узнал истинной природы скрытых от всех. Кто мы и почему существуем, объясняет ту силу, посредством которой музыка Гвинет доносилась до меня сверхъестественным способом. Если бы я не встретил Гвинет, если бы ее биологический отец не обладал даром предвидения и не был столь благородным человеком, если бы ближайшим другом ее отца оказался не Тигью Хэнлон, возможно, я бы никогда не выяснил, кто мы, и умер бы при таком же взрыве нигилистического насилия, как мой отец.
В ночь смерти Телфорда я открыл, кем я был и кто есть. Чего могло бы никогда не случиться, если бы… Что ж, мы опять уходим в область предположений.
69
Снег падал и падал, ложился на тот, что уже покрывал землю, и мне казалось, что такого бурана не было никогда раньше, но не потому, что снег падал так же плотно, как тропический ливень: просто теперь я знал о безжалостной болезни. Знание это вносило коррективы в мое зрение: в падающей белизне я видел не умиротворенность, свойственную любому снегопаду, а перспективу вечного покоя.
Большой город – надежда человечества. Это не означает, что будущее – в больших городах. Полустанок тоже надежда человечества. Скромная деревенька, административный центр округа, столица штата, огромный метрополис: каждый из них надежда человечества. Так же, как любой район. Жизнь в изоляции, возможно, жизнь подготовки, какой оказалась моя, но это не полноценная жизнь. Таковой она становится, когда в ней появляются другие. Хотя я был изгоем, которого нигде не ждали с распростертыми объятьями, город являлся моим домом, а его жители – моими соседями, пусть даже они и не желали иметь со мной ничего общего, и этот быстро падающий снег мог с тем же успехом быть пеплом из трубы крематория лагеря смерти, вид которого вызывал рвущую сердце грусть.
Безымянная девочка, завернутая в одеяло и в коме, лежала в багажном отделении «Ленд Ровера». Гвинет вела внедорожник. Я тревожился. Тревожился и винил себя в том, что вовремя не пристрелил Телфорда из его же пистолета. А еще молил Бога не дать мне впасть в отчаяние.
– Как часто ты простужался? – спросила Гвинет.
В сложившихся обстоятельствах вопрос выглядел странным.
– А зачем это тебе?
– Считай, из чистого любопытства.
– Как часто я простужался?
– Именно.
– Ни разу.
– Как часто ты болел гриппом?
– Никогда. Как я мог простудиться или заболеть гриппом? Я никогда не контактировал с людьми, больными или нет. Я жил в практически полной изоляции.
– Как насчет человека, которого ты называл отцом? Простуды, грипп?
– За то время, что я его знал, ничего такого. Он тоже ни с кем не общался.
– Зубная боль?
– Нет. Мы чистим зубы и пользуемся межзубной нитью. Относимся к этому очень пунктуально.
– Должно быть, это волшебная зубная паста и волшебная нить. Ни одной дырки в зубе?
– К чему ты клонишь?
– Когда-нибудь резал палец?
– Разумеется.
– Рана когда-нибудь нагнаивалась?
Чистяки отвлекли меня от ответа. Мы все еще находились в жилом районе, где они изредка встречались, как встречались везде, но неожиданно появились в большом количестве. Один, в больничном голубом, пересекал лужайку, на которой дети в самом начале бурана слепили снеговика, использовав диски оранжевого светоотражательного пластика вместо глаз, теннисный мяч вместо носа и клавиши детского пианино вместо зубов. Еще один, в белом, прошел сквозь стену и направился к улице, не оставив обломков и не причинив себе вреда. Двое в зеленом плавно спустились с крыши. Все они двигались над снегом, а не по нему. На высокой ветке дерева светящаяся женщина в голубом стояла, как часовой, и, заметив приближающийся «Ленд Ровер», повернула голову, чтобы посмотреть на нас, а я, несмотря на большое расстояние, отвернулся, как говорил мне отец, хотя встретиться взглядом мы и не могли.
– Как долго тебе надо об этом размышлять?
– Размышлять о чем?
– Нагнаивалась ли у тебя когда-нибудь рана? – повторила она.
– Нет, спасибо бактину [24], йоду и бинтам.
– Ты очень заботишься о своем здоровье.
– Должен. Я не могу пойти к доктору.
– Чего ты боишься, Аддисон?
– Потерять тебя, – без запинки ответил я.
– А чего ты боялся до встречи со мной?
– Потерять отца.
– А чего еще?
– Отца жестоко избили и изувечили. Боялся, что изобьют меня.
– Ты наверняка боялся и чего-то еще.
– Увидеть, как причиняют вред людям. Этот «Ролекс» отдал мне человек, которому выстрелили в спину. Я так мучился, наблюдая, как он умирает. Иногда я боюсь читать газеты, потому что в них так много историй о страдании.
– Ты боялся полицейских, которые убили твоего отца?
– Нет. Я не боюсь никого, пока не вижу жажды убийства на его лице.
Мы практически не говорили о моем отце. Я точно не рассказывал ей, что его убили полицейские.
Привычный ко множеству загадок в этом мире и все еще не склонный задавать вопросы – пусть она и призналась мне в любви, – которые могли побудить ее уйти в себя, я не стал интересоваться, откуда у нее эти сведения.
– Что ты ненавидишь? – спросила она.
Я на мгновение задумался.
– Только то, чего боюсь.
– То, чего боюсь, – повторила она мои слова. – Самый необычный ответ в этом мире ненависти.
Прежде чем я обдумал ее слова, мы повернули на главную авеню, проехали сквозь троих чистяков и попали на их сборище, напомнившее мне ночь пятью годами раньше, через год после смерти отца, когда я стал свидетелем великолепного зрелища, которое назвал Собором. Теперь, правда, город тонул в снегу, верхние этажи небоскребов растворялись в падающей белизне, так же как дома соседнего квартала. И в этой же белизне шли или спускались с небес светящиеся чистяки, обоих полов и всех цветов кожи, словно рассыпанные в ночи украшения. Как всегда, в белых туфлях, в белых, зеленых или голубых больничных одеяниях, слетающиеся в наше измерение из каких-то своих. Закончив спуск, каждый переходил на быстрый шаг. Все они напоминали сотрудников больницы, которых спешно вызвали в отделение реанимации.
Еще несколькими минутами раньше вид чистяков поднимал мне настроение. Хотя я верил, что в их глазах можно увидеть какую-то силу или знание, которое если и не превратит меня в камень, то потрясет до глубины души, в их присутствии я чувствовал себя более счастливым, чем без них. Но теперь они не радовали мое сердце. Обычно, если что-то можно считать обычным в этом мире, некоторые сохраняли серьезность лиц, тогда как другие улыбались. На этот раз я не заметил ни одной улыбки, на всех лицах читалась глубокая, безутешная печаль. От красоты их светящегося спуска у меня внутри все похолодело, и наконец-то я понял, что имел в виду отец, говоря мне, что чистяки, возможно, не такое зло, как туманники, но по-своему ужасны, потому что их сила невероятно велика и грозна.
Я закрыл глаза, не мог больше выносить всей этой красоты, а через мгновение Гвинет спросила:
– У тебя когда-нибудь воспалялось горло, болела голова, случалось несварение желудка, появлялись во рту язвы, слезились глаза от аллергии?
– Какое это имеет значение?
– От этой болезни ты не умрешь, – ответила она.
– Теперь я в этом мире. Рискую заразиться так же, как ты. Очень жаль, что ты не вымыла лицо.
– Доверься мне, – настаивала она.
70
До того, как я приехал в город, благодетель отца дал ему ключ от продуктового склада. Мне никогда не говорили, какую он занимал должность, и я знал только одно его имя: Наш Друг. Хотя этот незнакомец заботился о нас и нашем благополучии, хотя раз или два в год встречался с отцом, проводил с ним несколько минут и не пытался ударить, Наш Друг не доверял себе в том, что сможет сдержать импульс насилия при более продолжительной встрече. И поскольку Наш Друг впадал в глубокую депрессию, граничащую с отчаянием, после каждого такого общения, отец чувствовал, что встречи эти необходимо сводить к минимуму, а до его смерти я не должен видеться с Нашим Другом.
Когда эта трагедия произошла и тело отца обрело покой на дне реки, я написал записку, в полном соответствии с указаниями отца, и однажды ночью отнес ее на продовольственный склад: « Отец умер. С телом я поступил согласно его инструкциям. Он хотел, чтобы я передал Вам, как сильно он любил Вас за Вашу терпимость и как высоко ценил Ваше великодушие. Я знаю, Вы говорили ему, что ключ станет моим после его ухода, но он все равно хотел, чтобы Вы подтвердили, что я могу оставить ключ у себя. Я никогда не возьму больше, чем мне нужно, на продуктовом складе или в магазине подержанных вещей, и меня никогда не застанут в помещении, я никогда никого не испугаю своим видом, потому что мне меньше всего хочется причинить боль или навлечь позор как на сам склад, так и на его сотрудников. Мне ужасно недостает отца, и я не думаю, что в этом что-то изменится, но у меня все будет хорошо. Он хотел, чтобы я заверил Вас: у меня все будет хорошо».
Поскольку отец говорил мне, что у Нашего Друга есть чувство юмора, и я знал, что он поймет значение моих последних слов, я подписался так – «Сын Оно».
Отец велел мне запечатать записку в конверт и оставить ее в центральном ящике стола в меньшем из двух кабинетов продовольственного склада. По договоренности с нашим благодетелем, ответ на любое послание поступал в следующую ночь. И, вернувшись, я нашел в центральном ящике запечатанный конверт, отличный от оставленного мною, а в нем ответ: « Дорогой мальчик, я очень огорчен твоим известием. Я всегда молился о твоем отце и стану молиться и дальше – и о тебе, – пока я жив. Конечно, ты можешь оставить себе ключ. Мне бы хотелось сделать для тебя больше и помочь в чем-то еще, но я слаб и так боюсь. Я ежедневно обвиняю себя в трусости и недостаточном милосердии. Как твой отец, возможно, говорил тебе, задолго до встреч с ним у меня случались приступы депрессии, хотя всякий раз я приходил в норму. Но каждое общение с ним ввергало меня в глубочайшую депрессию, на грани отчаяния, и, несмотря на его добрейшее сердце и мягкий характер, его лицо появляется в моих снах, и я просыпаюсь перепуганным ребенком. Это мой недостаток и, разумеется, не его вина. Если тебе что-то понадобится, без колебаний обращайся ко мне. Всякий раз, когда я могу помочь, я получаю шанс облегчить душу. Да благословит тебя Бог».
Я знал, что отец будет гордиться мною, если я всегда буду помнить об уязвимости Нашего Друга к депрессии и постараюсь обходиться своими силами, а потому в последующие шесть лет я не обращался к нему ни с какими просьбами. Но каждые два месяца оставлял ему записку, чтобы он знал, что я жив и все у меня в порядке.
В ту ночь, когда Гвинет сошлась лицом к лицу с Райаном Телфордом, чтобы спасти безымянную девочку, я встретил Нашего Друга, который в конце концов не оказался для меня незнакомцем. По прошествии всех этих лет я по-прежнему думаю о нем с огромной теплотой, и порою мне хочется послать ему записку, чтобы дать знать, что все у меня хорошо, но он давно умер.
71
Чтобы не видеть спускающихся с неба чистяков, я не открывал глаз, пока Гвинет не остановила внедорожник и не заглушила двигатель. Открыв, обнаружил, что мы в проулке, перед гаражом, у закрытых поднимающихся ворот.
– Где мы? Что теперь? – спросил я.
– Увидишь. Мы пробудем здесь недолго, но оставлять девочку в машине нельзя. И потом, она приходит в себя.
– Приходит?
– Придет.
Мы вышли из «Ровера», она подняла задний борт, и я вновь взял закутанного в одеяло ребенка на руки.
Последовал за Гвинет вдоль стены гаража – снег доходил практически до верха голенищ, – опустив голову, ибо холодный ветер резал глаза. Я также чувствовал себя совсем маленьким, потому что меня пугало присутствие такого количества чистяков на авеню. На небо просто боялся взглянуть.
Мы вошли в заваленный снегом тупик между гаражом и задней стеной двухэтажного кирпичного дома. Окна словно замазали черной краской, такими они казались темными. Стены пересекались под прямым углом, и тупик напоминал тюремный дворик. Заднее крыльцо занимало не всю стену, только часть, и слева от нее двустворчатая наклонная дверь закрывала короткий лестничный марш в подвал. Нашего прихода, несомненно, ждали, и дверь освободили от наметенного ветром снега. Гвинет открыла створки.
Я последовал за ней вниз, через еще одну дверь, в теплый подвал, который благоухал горячим кофе, а лампочки в керамических патронах торчали между потолочными балками, и пятна света чередовались с густыми тенями. Подвал предназначался для хранения вещей, но свободного места хватало, да и вещи содержались в идеальном порядке. Между коробками с аккуратно прилепленными ярлыками стояла кое-какая мебель, в том числе старое кресло и складной столик с кофеваркой.
Гвинет велела мне положить безымянную девочку на кресло, а после того, как я это сделал, осторожно вытащила ребенка из одеяла, которое положила рядом на картонные коробки.
В шлепанцах, фланелевых штанах, светло-синем кардигане и сине-белой клетчатой рубашке, Тигью Хэнлон вышел из теней и поставил две кружки с кофе на одну из трех бочек разных размеров, стоявших рядком, будто металлические барабаны.
– Гуини пьет черный и сказала, что ты тоже.
– Сказала правильно, – подтвердил я, гадая, каким образом она это узнала.
– Как ребенок? – спросил он.
– Приходит в себя, – ответила Гвинет.
В этот момент девочка начала издавать какие-то звуки, словно замяукал котенок. Казалось, она просыпается от обычного сна и ей этого не хочется, потому что еще не закончился интересный сон.
– Мне это тяжело, – мистер Хэнлон вздохнул. – Надеюсь, ты понимаешь, Гуини.
– Разумеется, понимаю.
Мистер Хэнлон пересек помещение, направившись к двери, через которую мы вошли в подвал, запер ее на два врезных замка.
Гвинет взяла кружку с кофе. Пригубила, пристально глядя на девочку.
– Ты можешь снять балаклаву, чтобы выпить кофе, Аддисон. Никто из нас на тебя смотреть не будет.
Чтобы снять балаклаву, мне пришлось бы развязать капюшон и откинуть его, то есть выставить лицо напоказ, чего я никогда не делал вне моих комнат глубоко под городом. Мысль о подобной уязвимости так напугала меня, что я чуть не отказался от кофе.
Но я замерз, не от пребывания на поверхности, а от мыслей об эпидемии и смерти. Так что мне требовался этот ароматный напиток. И если Гвинет сказала, что никакого риска нет, мне оставалось только ей поверить.
Сняв балаклаву, я тут же натянул на голову капюшон и туго завязал под подбородком.
Крепкий кофе отличался отменным вкусом, и кружка грела мне руки даже через перчатки.
Мистер Хэнлон, наклонив голову, словно кающийся монах, прошел к кофеварке, чтобы наполнить свою кружку.
Девочка подняла руку к лицу и провела по нему кончиками пальцев, словно не просто не понимала, где находится, но ничего не видела и пыталась прикосновениями определить, что к чему. Она заерзала на кресле, убрала руку от лица, открыла рот и выдохнула. Чуть ли не три года комы слетели с нее, словно одна ночь. Ее глаза открылись, огромные, серые и ясные, и она тут же нашла взглядом Гвинет.
– Мама? – спросила она хриплым голосом.
Гвинет поставила кружку на бочку, подошла к девочке, опустилась на колени рядом с креслом.
– Нет, сладенькая. Твоя мама ушла. Она никогда не вернется. Ты теперь в полной безопасности. Никто больше не причинит тебе вреда. Со мной тебе ничего не грозит.
По-прежнему с наклоненной головой, мистер Хэнлон вернулся с еще одной кружкой.
– У нее пересохнет во рту. Я приготовил ей сладкий чай. Он уже остыл.
Как только Гвинет взяла у него кружку, он вернулся к кофеварке, стал спиной к нам.
Я почувствовал, что подобным образом он ведет себя не только ради нас, но и ради себя, и задался вопросом, чем вызвана столь разительная перемена в сравнении с нашей первой встречей в кинотеатре «Египтянин».
Я пил кофе маленькими глотками и, поглядывая из тени капюшона на Гвинет и девочку, осознал, что происходящее сейчас в этом подвале выходит за рамки обычного человеческого бытия в той же мере, что и чистяки с туманниками. Мало того, что сознание полностью вернулось к ребенку, чего не прогнозировали врачи, так еще оно возвращалось не так, как случалось с людьми, находящимися в коматозном состоянии, медленно и постепенно, а быстро, причем безо всякой физической слабости. Гвинет разговаривала с ней так тихо, что до меня ее слова не долетали. Девочка не реагировала, но слушала внимательно и не сводила сияющих серых глаз с Гвинет, которая приглаживала ей волосы, касалась лица, рук нежно, успокаивающе.
Быстрее, чем кто-то мог себе представить, девочка отставила кружку с чаем и встала на ноги. Привалилась к Гвинет, хотя, возможно, не нуждалась в подпорке.
– У тебя есть для нее одежда, которую я просила приготовить? – спросила Гвинет мистера Хэнлона.
Он повернулся к нам, но не подошел.
– Она на стуле у кухонного стола. Свет наверху я не зажигал, на случай, если что-то… кто-то будет искать тебя. На кухне горит только лампочка на вытяжке, но этого хватит. В туалете, примыкающем к кухне, окон нет, поэтому свет там можно зажечь.
Держа Гвинет за руку, девочка пошла на подгибающихся ногах, которые почти три года не ступали по земле. Конечно же, они еще плохо ее держали. Я наблюдал за ними, пока они не скрылись на лестнице, а потом наблюдал за их падающими на ступеньки тенями.
В мире, богатом загадками и тайнами, также встречаются и чудеса.
Держась от меня подальше, мистер Хэнлон закружил по подвалу, переходя от мебели к стопкам коробок и снова к мебели, напоминая покупателя, который попал в магазин, где не бывал ранее, и смотрит, что сколько стоит.
– Аддисон, думаю, ты знаешь, что обрушилось на мир.
– Вы про эпидемию?
– Эпидемию, после которой, думаю, долгая война между человечеством и микробами закончится.
– Да, будет плохо. – Я вспомнил про Телфорда.
– Будет хуже, чем плохо. Согласно последней информации, это вирус, созданный человеческими руками, и смертность составляет 98 процентов. Результат превзошел их ожидания. Потом вирус вышел из-под контроля.
– Я боюсь за Гвинет. Телфорд, умирая, плюнул в нее.
Мистер Хэнлон в удивлении вскинул голову, но тут же отвел глаза.
– Где Телфорд нашел ее?
– Он добрался до девочки раньше нас. Тоже заразил.
Мистер Хэнлон помолчал, но не потому, что ему нечего было сказать. Наоборот, хотел сказать слишком много.
– Я всегда надеялся, что повод будет более приятным, но принимать тебя в своем доме для меня большая честь. «Аддисон Гудхарт» подходит тебе больше, чем «Сын Оно».
72
Тигью Хэнлон, опекун Гвинет и благодетель, который дал отцу ключ от продовольственного склада и примыкающего к нему магазина подержанных вещей, оказался совсем не адвокатом, получающим высокие гонорары, как я поначалу предполагал.
В свое время морской пехотинец, прошедший войну, он стал священником и настоятелем церкви Святого Себастьяна. Именно к нему в час беды обращались наши с Гвинет отцы. Именно благодаря ему его прихожанка, мать судьи Галлахера, приняла все необходимые меры, чтобы девочку отдали под опеку Гвинет. Он был осью наших пересекшихся жизней.
В ту ужасную ночь мы находились в подвале дома настоятеля, примыкающего к церкви Святого Себастьяна, и отец Хэнлон обходился без белого воротничка священника, символизирующего на публике его статус.
До его признания чашу моего сердца до краев наполняли эмоции, а теперь она переполнилась. Я сел на краешек кресла, попытался найти подобающие слова и поначалу не смог. Накатившая волна эмоций не сшибла меня. Диплом по стоицизму я защитил еще до того, как научился ходить. Мне требовалось лишь мгновение покоя, и нужные слова, я это знал, обязательно бы нашлись.
– Вы кормили нас все эти годы.
– Еда не принадлежала мне. Ее жертвовали церкви.
– Вы одевали нас.
– Ношеной одеждой, которую тоже приносим в дар.
– Вы хранили наш секрет.
– Другого и нельзя ожидать от священника, выслушивающего исповеди.
– Вы никогда не подняли руку на отца.
– Я видел его лицо лишь несколько раз.
– Но никогда не ударили его.
– Я смог только раз посмотреть ему в глаза.
– И не ударили его.
– Мне следовало это делать чаще.
– Но после каждой встречи вы впадали в отчаяние.
– У меня периодически случалась депрессия и до того, как я узнал о тебе и человеке, которого ты называешь отцом.
– Однако от мыслей о нас ваша депрессия усиливалась. Вы сообщили в записке, что мы вызывали у вас кошмары, но вы все равно поддерживали нас.
Закрыв лицо руками, он заговорил на латыни, не со мной, возможно, молился. Я слушал, и, хотя не понимал слов, его великая печаль сомнений не вызывала.
Я поднялся с кресла, приблизился на пару шагов к отцу Хэнлону, но остановился, потому что мне не даровали, в силу моих отличий, способность утешать людей. Если на то пошло, я вызывал ярость. В ту ночь, когда отца жестоко убивали, я лежал под внедорожником, остро ощущая собственную неадекватность, бесполезность, и стыдился своей беспомощности.
Латинские слова крошились в его рту, слетали с губ отдельными слогами, он запинался в молитве, глубоко, со всхлипом вдыхал, а с выдохом из груди вырывались какие-то отрывистые звуки, наполовину рыдания, наполовину свидетельства отвращения.
Двадцать шесть лет жизненного опыта говорили, что именно я вызвал столь сильные, неконтролируемые эмоции.
– Я уйду. Не следовало мне вообще приходить сюда. Глупо. Я поступил глупо. И безответственно.
– Нет. Подожди. Позволь мне взять себя в руки. Дай мне шанс.
Мы получили от него так много, что я считал себя не вправе отказывать ему в любой просьбе.
Совладав с эмоциями, он направился к двери, через которую мы вошли, еще раз проверил замки, чтобы убедиться, что запер их. Постоял, прислушиваясь к бурану, спиной ко мне, наконец нарушил долгую паузу:
– Восточный ветер, как тот, что разделил море. – Эта мысль привела к другой, и он процитировал: – «Так как сеяли они ветер, то и пожнут бурю» [25].
Хотя мне многое хотелось сказать, я знал, что лучше воздержаться. Баланс его разума и сердца нарушился, и только он сам мог восстановить гармонию.
– Северные корейцы, те, что остались, совсем недавно объявили, что птицы сами не болеют, но разносят болезнь. Невозможно ввести карантин на полеты птиц.
Об астероидах, убивающих планеты, писали книги и снимали фильмы, эти истории вызывали ужас у зрителей и у читателей. Но для того, чтобы уничтожить цивилизацию, не потребовалось прилетевшей из космоса горы массой в миллион тонн. Для убийства одного человека хватало нескольких капель нектара, собранного с олеандра и замешанного в мед, а все человечество смогло отправить в мир иной нечто меньшее, невидимый глазу микроб, созданный со злыми намерениями.
– Твой отец не знал, кто он, да и не было у него причин, чтобы знать, – добавил священник, все еще стоя лицом к двери. – Ты знаешь, кто ты, Аддисон?
– Чудовище, – без запинки ответил я. – Ошибка природы, выродок, мерзость.
73
Ветер тряс дверь подвала, на которую смотрел отец Хэнлон, и он, заговорив, словно озвучил мои мысли:
– Может показаться, что это ветер испытывает дверь на прочность, но в эту ночь из всех ночей высока вероятность, что в дверь ломится что-то похуже ветра. Это не те времена, о которых Иоанн Богослов писал в «Откровении». Армагеддон представлялся часом ужаса и славы, но нет никакой славы в том, что грядет, никакого последнего суда, никакого нового мира, только горькая трагедия невообразимого масштаба. Это дело рук мужчин и женщин во всей их извращенности и греховности, жажда власти на службе массовых убийств. В такую ночь самые черные духи притягиваются из мест их обычного обитания, устраивают радостные празднества на улицах.
Нежный аромат кофе уступил место вони горящих марионеток. Помня реакцию Гвинет, когда мы с девочкой покидали дом из желтого кирпича, я прокомментировал:
– Так пахли марионетки в камине архиепископа. Но этот запах – обман. С той стороны ничего нет.
– Не будь столь уверен, – предупредил отец Хэнлон и указал на дверную ручку, которая отчаянно ходила вверх-вниз, и точно не от ветра. – Что бы ни хотело ворваться сюда, оно принесет с собой сомнения. Ты знаешь, что этот художник Паладайн в своем завещании потребовал положить с ним в гроб марионетку?
– Их же было шесть, и Гвинет нашла все.
– Эта отличалась от тех шести. Паладайн вырезал и разрисовал ее по своему образу, и говорили, что она невероятно на него похожа. Его мать, оставшаяся единственной живой родственницей, стала и наследницей. Женщина со странными интересами и не менее странными верованиями. Возможно, многое передалось ему от нее. Она похоронила сына в полном соответствии с его завещанием, на мало кому известном кладбище, которое привлекает людей, не желающих лежать в благословенной земле, и на него не ступала нога священнослужителя, какую веру ни возьми.
Вонь усилилась, и хотя дверь перестала трястись, а ручка – поворачиваться, я повторил: «Это обман».
– Ты должен узнать, кто ты, Аддисон, чтобы больше не сомневаться и не быть столь уязвимым. – Он повернулся спиной к двери, но все равно не смотрел на меня. Не отрывал глаз от рук, которые повернул ладонями вверх. – Сомнения – это яд. Они ведут к потере веры в себя, веры во все, что хорошее и истинное.
Штормовой ветер наносил все новые удары по дому, и хотя построили его из крепкого кирпича, над головой уже что-то трещало.
Отец Хэнлон опустил руки и приблизился ко мне на два шага, но не пытался встретиться со мной взглядом.
– Ты не чудовище, не ошибка природы, не выродок, не мерзость. Полагаю, ты видел свое отражение в зеркале.
– Да.
– Часто?
– Да.
– И что ты видел?
– Не знаю. Ничего. Наверное, я к этому слеп.
Он продолжал напирать:
– Ты видел какой-то дефект, который мгновенно вызывает у других ненависть и ярость?
– Мы с отцом провели много часов, пытаясь докопаться до причины, но в итоге решили, что нам этого знать не дано. В наших лицах, особенно в глазах, даже в наших руках, есть нечто такое, что другие люди видят при первом взгляде на нас, но мы это нечто не видим. Множество людей подаются назад, увидев паука, так? Но если бы пауки обладали разумом, они бы понятия не имели, почему их так часто ненавидят, поскольку друг другу пауки кажутся очень даже привлекательными.
– Ты близок к истине, но таких, как ты, нельзя сравнивать с пауками. – Он подошел ко мне, встал передо мной, но не поднял голову. Взял одну из моих затянутых в перчатки рук в свои. – Человек, которого ты называл отцом, рассказал мне о твоем прибытии в этот мир. Твой биологический отец был бестолковым, безответственным, возможно, даже преступником, ты никогда его не знал. И за твоей матерью числилось много грехов, но что-то человеческое в ней оставалось. Ты родился от мужчины и женщины, как все мы, но с одним ключевым отличием. И родился ты с ним, возможно, потому, что мир движется к тому времени, когда понадобятся такие, как ты.
– С каким отличием? – спросил я, затаив дыхание в ожидании ответа. Я знал, что это отличие очертило всю мою жизнь и превратило в изгоя, пусть и понятия не имел, в чем оно состоит. В этом загадочном мире главной загадкой моей жизни был я сам.
– Рожденный от мужчины и женщины, ты тем не менее не потомок Адама и Евы, каким не был и твой второй и лучший отец. Милостью Божьей, как такое возможно, выше моего понимания, да и, скорее всего, понимания любого, ты не несешь на себе пятно первородного греха. Ты обладаешь чистотой, невинностью, которую все остальные чувствуют мгновенно, точно так же, как волк – запах зайца.
Я начал возражать, что никакой невинности нет, но он сжал мне руку и покачал головой, останавливая меня.
– Аддисон, я боюсь смотреть на тебя, как не боялся ничего в своей жизни. Потому что вижу не только тебя, но и кто есть ты, и кто – я. Когда я смотрю на тебя, я заглядываю в себя и вижу все грехи моей жизни в ярком калейдоскопе моментов прошлого, и столько грехов мне не вспомнить за всю жизнь, с пристрастием допрашивая собственную совесть. Когда я смотрю на тебя, я вижу, каким бы я мог быть, и я знаю, что я не тот, каким быть должен, и передо мной выстраиваются все ситуации моей жизни, в которых я поступил неправильно, не проявил доброты, причинил боль, солгал или позволил себе непристойную мысль. Все это открывается мне вместе и в одно мгновение.
– Нет, – запротестовал я, – вы хороший человек.