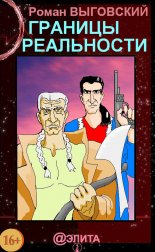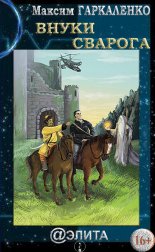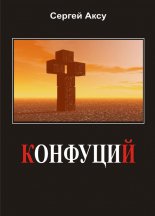Невинность Кунц Дин
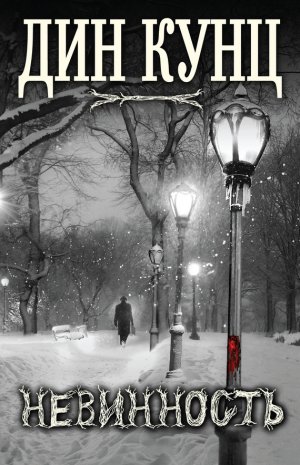
Dean Koontz
Innocence
Copyright © 2014 by Dean Koontz Published by arrangement with Prava i Perevodi and Lennart Sane Agency AB
Разработка серийного оформления Сергея Власова
Иллюстрация на переплете художника Михаила Петрова
© Вебер В., перевод на русский язык, 2014
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2014
Часть первая
Девушка, которую я встретил под фонарем у Чарльза Диккенса
1
Избежав одного пожара, я ожидал другого. Не боялся подступающих языков пламени. Пожар – это свет и тепло. Всю нашу жизнь каждый из нас нуждается в тепле и ищет свет. Я не мог бояться того, в чем нуждался и что искал. Для меня загореться – всего лишь ожидание неизбежного конца. Этот дивный мир, полный красоты, очарования и света, будил во мне только один вполне терпимый страх, с которым я могу прожить долгие годы.
2
Я способен на любовь, но так долго прожил в одиночестве после смерти отца. Я любил только дорогих мне мертвых, и книги, и мгновения поразительной красоты, которыми город удивлял меня время от времени, когда я проходил по его улицам, в строжайшей тайне от всех.
К примеру, ясными ночами, в тот поздний час, когда большинство населения спит, уборщики уже закончили свою работу, небоскребы гаснут до зари и появляются звезды. Над метрополисом [1]они не такие яркие, как над канзасской равниной или колорадскими горами, но все равно светят так, будто в небе тоже есть город, волшебное место, где я могу расхаживать по улицам, не боясь огня, где могу найти того, кого полюблю, кто полюбит меня.
Здесь, когда меня видят, моя способность любить не вызывает милосердия. Совсем наоборот. Когда меня видят и мужчины, и женщины, они испытывают отвращение, а их страх быстро переходит в ярость. Я не могу причинить им вред, даже обороняясь, и остаюсь беззащитным.
3
В какие-то ночи прекрасная, но грустная музыка проникает в мои расположенные на большой глубине, без единого окна комнаты. Я не знаю, откуда она берется, и не могу определить, что это за мелодия. Только музыка – никаких слов, но я убежден, что однажды слышал, как певица с прокуренным голосом исполняла эту песню. Всякий раз, когда доносится эта мелодия, мои губы начинают двигаться, словно произносят слова, но вспомнить их мне не удается.
Мелодия – не блюз, но давит на сердце, как блюзы. Я могу назвать ее ноктюрном, хотя знаю, что ноктюрн – это инструментальное произведение. Здесь же на мелодию положили слова, я уверен, что положили.
Вроде бы я мог проследить эти ласкающие слух звуки, приближаясь к вентиляционному коробу, или дренажному коллектору, или к какому-то другому каналу передачи, но все мои попытки найти их источник заканчивались неудачей. Музыка словно возникала в воздухе, передавалась через мембрану из невидимого мира, параллельного нашему.
Возможно, те, кто живет в открытом мире, нашли бы идею невидимого мира слишком заумной и отмели бы с порога.
Те из нас, кто остается скрытым от всех остальных, знают, что этот мир удивителен и полон тайн. Мы не обладаем магическим восприятием, лишены ясновидения. Я верю, что признание нами многомерности реального мира – следствие нашего одиночества.
Жить в городе толп, автомобилей и постоянного шума, постоянно к чему-то стремиться, участвовать в непрерывном соперничестве, в борьбе за деньги, статус и власть, это, вероятно, отвлекает разум, и в итоге он более не видит – и забывает – мир, в котором живет. А может, из-за скорости и напора этой жизни, чтобы сохранить здравость ума, необходимо закрыть глаза на многообразие чудес, загадок и тайн, из которых состоит настоящий мир.
Когда я говорил «те из нас, кто остается скрытым», мне следовало сказать «я, который остается скрытым». Насколько мне известно, таких, как я, в этом метрополисе нет. Я живу один уже долгое время.
Двенадцать лет я делил это подземное убежище с отцом. Он умер шестью годами раньше. Я его любил. Мне недостает его каждый день. Теперь мне двадцать шесть, и, возможно, впереди у меня долгая одинокая жизнь.
Прежде чем появился я, мой отец жил здесь со своим отцом, которого я не имел чести знать. Большая часть мебели и книг досталась мне от них.
Вероятно, придет день, когда я передам все мое имущество кому-то еще, кто будет называть меня отцом. Мы – живучая династия обездоленных, обитающих в тайном городе, который никогда не видели жители метрополиса.
Меня зовут Аддисон [2]. Но тогда не требовались нам имена, потому что разговаривали мы лишь друг с другом.
Иногда, с улыбкой, отец называл себя Оно. Но, разумеется, настоящее его имя было другим. Меня он называл Оно-от-Оно, или сыном Оно, и, естественно, эту маленькую шутку понимали только мы.
По человеческим стандартам выглядели мы невероятными уродами, вызывая в людях отвращение и неконтролируемую ярость. И пусть по умственному развитию мы ничуть не уступали тем, кто живет в открытом мире, мы не хотели оскорблять их чувств, поэтому прятались от них.
Отец говорил мне, что такие, как мы, не должны злиться на других мужчин и женщин из-за их отношения к нам. У них полным-полно тревог, которых нам просто не понять. Он говорил, что у нас, сокрытых, тоже есть проблемы, но у тех, кто в открытом мире, их гораздо больше, причем они гораздо сложнее, и это правда.
Мы скрываемся, чтобы избежать чего-то большего, чем наказание. Однажды ночью моего отца поймали в открытом мире. Двое испуганных, разъяренных мужчин подстрелили его, а потом забили дубинками до смерти.
Я на них не разозлился. Я их жалел, но и любил как мог. Мы все попали в этот мир по какой-то причине, должны задаваться вопросом почему и надеяться, что удастся это выяснить.
Моя маленькая, лишенная окон резиденция служила мне и школой, где я обретал знания, и самой важной из трех комнаток является та, где вдоль стен выстроились стеллажи из красного дерева, построенные отцом моего отца. Стеллажи уставлены книгами, которые не понадобились тем, кто живет в мире наверху.
Перед каждым большим, удобным креслом стояла оббитая скамеечка для ног. У каждого кресла – деревянный куб для стакана или чашки и бронзовый торшер со складчатым абажуром из натурального шелка персикового цвета.
Маленький стол и два стула с прямыми спинками обеспечивали место для обеда. В те дни, когда мы жили вдвоем, за этим столом мы играли в карты и шахматы.
В те дни я иногда раскладывал пасьянс. Мне не очень нравилась эта игра, но случалось, тасуя карты или сдавая их, я видел руки моего отца, а не свои. Его пальцы деформированы, потому что срослись неправильно в самостоятельно наложенных шинах после того, как священник сломал их одним воскресным вечером, когда отец был еще ребенком.
Я любил эти руки, которые никогда не причинили вреда живому существу. Бледные шрамы и артритные костяшки казались мне прекрасными, потому что говорили о его мужестве и напоминали, что я не должен озлобляться из-за жестокостей, творимых по отношению к нам. Он страдал больше моего и все равно любил жизнь и мир.
Стол и другую мебель принесли сюда сверху, для чего пришлось приложить немало усилий, или сработали прямо здесь те, кто пришел до меня.
Шесть лет мне не требовались оба кресла. По большей части, читая, я сидел на стуле, который стал моим с того самого момента, как я прибыл сюда. Впрочем, иногда я сидел на стуле отца, чтобы вспоминать его и не чувствовать себя таким одиноким.
Во второй комнате, так же как в других, высота потолка восемь футов. Толстые стены, пол и потолок сделаны из железобетона. Иногда в нем возникали вибрации, определить источник которых невозможно, так же как вышеупомянутой музыки.
С каждой стороны дверной проем без двери, гамак подвешен от стены до стены. Парусину легко протирать от грязи, а мое одеяло – единственная постельная принадлежность, которую надо стирать.
При жизни отца, ночами, когда сон ускользал от нас, мы лежали в темноте или при свечах и говорили часы напролет. О том, какую малую часть мира мы видели своими глазами, о чудесах природы, которые мы разглядывали в книгах с цветными фотографиями, о том, что они могут означать.
Возможно, эти воспоминания – счастливейшие из всех, хотя счастливых воспоминаний у меня много и мне не так-то легко поставить одни выше каких-то других.
У дальней стены между гамаками стоит холодильник. Отец моего отца в свое время жил без этого предмета обихода. Мой отец – самоучка, как и я, – без чьей-либо помощи стал и электриком, и механиком по ремонту бытовой техники. Он разобрал холодильник, перенес по частям из наземного мира и собрал здесь.
Слева от холодильника – стол с тостером, плиткой и мультиваркой. Справа – открытые полки для хранения продуктов и кухонной утвари.
Питался я хорошо и благодарил город, в котором всего было в достатке.
Когда отец моего отца нашел это убежище, сюда уже подвели электричество и оборудовали его канализацией, но мебель отсутствовала, и он не нашел свидетельств того, что кто-то здесь жил.
До того, как отец нашел меня, одинокого и ожидающего смерти, он и его отец выдвинули немало предположений, объясняющих появление этих комнат.
Сразу на ум приходила мысль, что это бомбоубежище, построенное так глубоко под улицами, под столькими толстыми слоями бетона, что даже многочисленные атомные взрывы не могли разрушить его, а добираться до него приходилось таким сложным и криволинейным маршрутом, что смертоносная радиация, которая движется только по прямой, не нашла бы сюда дорогу.
Но, если отвернуть два винта и снять крышку с любой стенной розетки, на металлической соединительной коробке можно прочитать название компании-изготовителя, которая, что подтверждено документально, ушла с рынка в 1933 году, задолго до возникновения атомной угрозы.
А кроме того, атомное бомбоубежище только на двоих в большом городе никто бы строить не стал.
Третья комната, ванная, тоже из бетона, указывала на то, что строители не предусматривали уничтожения города и его подземных коммуникаций в огне атомного взрыва. В умывальнике-стойке и ванне на отлитых из бронзы львиных лапах по два крана, хотя горячая вода обычно скорее теплая. То есть бойлер, откуда ее забирали, находится очень далеко. Сливной бачок расположили над головой, вода из него текла, если дернуть за цепочку.
При строительстве этой части города какой-то чиновник, возможно по совместительству сексуальный хищник с жаждой убийства, построил это убежище под тем или иным благовидным предлогом для себя, с намерением позже убрать из документов всю информацию о нем, чтобы затаскивать женщин в принадлежащее ему подземелье, где мог мучить и убивать их в свое удовольствие: город над головой понятия бы не имел о происходящем внизу.
Но, вероятно, ни главный инженер строительства, ни архитектор подземных коммуникаций все-таки не были ненасытными маньяками-убийцами: когда отец моего отца в далеком прошлом нашел это уютное местечко, он не обнаружил на гладких бетонных стенах ни подозрительных пятен, ни других улик совершенных здесь убийств.
В любом случае ничего зловещего я в этих комнатах не нахожу.
Всякий раз, покидая эту безопасную гавань, а мне приходится это делать по многим причинам, я рискую жизнью. В результате у меня развилось обостренное чувство надвигающейся опасности. Здесь никаких угроз нет. Это дом.
Мне нравится гипотеза о невидимом мире, параллельном нашему, о котором я упоминал ранее. Если такое место существует, отделенное от нас мембраной, которую мы не можем обнаружить нашими пятью чувствами, тогда, возможно, в каких-то точках эта непрерывная мембрана выпучивается, и малая часть другой реальности накладывается на нашу, а поскольку оба мира родились из одного и того же источника любви, мне нравится думать, что секретные убежища, вроде этого, созданы специально для таких, как я, изгоев не по своей воле, которых ненавидят, за которыми охотятся, которым отчаянно необходимо место, где их никто не найдет.
Есть только одна версия, которую я готов принять. Я не могу изменить свою внешность, не могу стать более привлекательным для тех, кто ужаснется, увидев меня, не могу вести иную жизнь, кроме той, к которой приговорила меня моя природа. Эта версия утешает и успокаивает меня. Если появляется другая, не столь обнадеживающая, я отказываюсь даже приглядываться к ней. Так много в моей жизни прекрасного, что я не рискую рассматривать любую темную идею, которая может отравить мой разум и лишить меня моей веры в радость.
Я никогда не выхожу в открытый мир при свете дня, не выхожу даже в сумерках. Наверх, за редким исключением, поднимаюсь только после полуночи, когда большинство людей спят, а остальные бодрствуют, но дремлют.
Черная обувь для ходьбы, темные джинсы, черная или темно-синяя куртка с капюшоном – мой камуфляж. Под курткой у меня шарф, которым я могу закрыть лицо – до глаз, – если предстоит пересечь переулок или улицу, где меня могут увидеть. Одежда моя из лавок старьевщиков, куда я попадаю после их закрытия теми же маршрутами, какими могли попасть туда крысы, если бы родились для того, чтобы воровать, как родился я.
Такой же костюм был на мне и в ту декабрьскую ночь, когда моя жизнь переменилась навсегда. Будь вы таким же существом, как я, вы бы ожидали, что никакие изменения, да еще столь разительные, просто невозможны. И однако, появись у меня возможность обратить время вспять, а потом пойти другим путем, я бы повторил то, что сделал, невзирая на последствия.
4
Я звал его отцом, потому что именно им он для меня и стал. Пусть и не был моим настоящим отцом.
По словам матери, мой настоящий отец любил свободу больше, чем ее. За две недели до моего рождения он ушел и не вернулся, отправился в море, как говорила она, или в далекие джунгли, неугомонный человек, путешествующий, чтобы найти себя, но на самом деле себя только теряющий.
В ночь моего рождения неистовый ветер сотрясал маленький дом, сотрясал лес, даже сотрясал, по ее словам, высокий холм, заросший этим лесом. Ветер ссорился с крышей, выдавливал окна, тряс дверь, будто настроился незваным гостем войти туда, где рождался я.
Когда я появился в этом мире, двадцатилетняя дочь повитухи в испуге выбежала из спальни. Плача, укрылась на кухне.
Когда повитуха попыталась задушить меня детским одеяльцем, моя мать, пусть и ослабевшая после тяжелых родов, достала пистолет из ящика прикроватного столика и лишь угрозой спасла мне жизнь.
Чуть поздней, уже тихим утром, все птицы улетели, словно их сдуло с деревьев и унесло на край континента. Они не возвращались три дня, а потом первыми появились воробьи и стрижи, за ними – ястребы и вороны, а самыми последними – совы.
Повитуха и ее дочь сохранили в тайне мое появление на свет. То ли боялись, что их обвинят в попытке убийства, то ли могли спать спокойно, только забыв о моем существовании. Обе заявили, что я родился мертвым, и моя мать это подтвердила.
Восемь лет я прожил на этом высоком холме, спал или под открытым небом, или в маленьком уютном доме, у которого заканчивалась узкая проселочная дорога. Все это время, до второй половины дня, когда я ушел, я не видел ни одного человеческого существа, за исключением моей благословенной матери.
Конечно же, я бродил по этому лесу в том возрасте, когда большинству детей не разрешают выходить со двора. Но я обладал и большой силой, и сверхъестественной интуицией, и родством с природой, словно в моей ДНК присутствовали и сок деревьев, и кровь животных, да и моя мать чувствовала себя более спокойной, когда в доме меня не было. Тенистый днем и залитый лунным светом ночью, лес стал мне таким же знакомым, как знакомо отражение собственного лица в зеркале.
Я знал оленей, белок, разнообразных птиц, волков, которые появлялись из грациозных арок папоротника и исчезали в них. Мое сообщество состояло из покрытых перьями и мехом существ, которые путешествовали при помощи крыльев или четырех быстрых лап.
В лесной чаще и на лугах, которые она окружала, иной раз даже у нас во дворе, я иногда видел чистяков и туманников, как я начал их называть. Я не знал, кто они такие, но интуитивно понял, что моя дорогая мать их не видит, потому что никогда о них не говорила. И я не упоминал о них, поскольку знал, что мои слова расстроят ее и заставят еще сильнее волноваться обо мне.
Позже и в городе я встречал чистяков и туманников. Со временем начал лучше понимать их природу, о чем расскажу позже.
В любом случае все те годы я полагал счастливыми, хотя, если на то пошло, в той или иной степени я был счастлив всегда. И лес воспринимал не чащей, а моим личным садом, уютным, несмотря на огромность, и бесконечно загадочным.
Чем более знакомым становится какое-либо место, тем больше обнаруживается в нем тайн, если вы хотите добраться до сути окружающего вас мира. Я сталкивался с этим парадоксом всю свою жизнь.
Вскоре после моего восьмого дня рождения моя мать более не желала видеть меня в доме. Она не могла спать в моем присутствии. Не могла есть, худела. Не хотела, чтобы я жил в окрестном лесу. Отчасти из-за мысли, что лес – мой дом, которая напоминала ей: лес не жалует ее так, как меня. Отчасти из-за охотника. Поэтому мне пришлось уйти.
Я не мог ее винить. Я ее любил.
Она очень старалась любить меня, и в какой-то степени ей это удавалось. Но выдержать такую ношу, как я, она не могла. Хотя я всегда счастлив – по меньшей мере, несчастливым меня не назовешь, – ее я ужасно печалил. И эта печаль медленно убивала мою мать.
5
По прошествии более чем восемнадцати лет, проведенных в этом знакомом, но загадочном городе, пришел декабрь, который изменил мою жизнь.
Когда я поднялся на поверхность в ту ночь, за плечами висел рюкзак, потому что я намеревался пополнить продуктовые запасы. Я взял с собой два компактных светодиодных фонарика, один держал в руке, второй повесил на пояс: на случай, если первый сломается. Маршрут из моих комнат до метрополиса наверху пролегал по большей части в темноте, как многие маршруты этого мира, что подземные, что нет, по бетонным тоннелям или под открытым небом.
Коридор шириной в пять футов уходил из комнаты с гамаком на десять футов, а потом упирался во вроде бы глухую стену. Я поднял руку и в правом верхнем углу вставил указательный палец в дырку, единственное углубление на гладкой поверхности, затем нажал кнопку, приводящую в действие механизм выдвижения засова. Бетонный блок толщиной в фут бесшумно повернулся на двух скрытых подшипниковых петлях, находящихся в футе от левой стены.
Возник проход в четыре фута шириной. После того как я переступал порог, массивная дверь вставала на место и запиралась на засов.
По второму коридору я мог пройти и без света. Восемь футов вперед прямо, потом плавно, по дуге, налево, и еще десять футов к хитро сконструированной решетчатой двери. С другой стороны дверь эта выглядела обычной решеткой, закрывающей вентиляционную шахту.
В темноте я прислушался, но за решетчатой дверью обитали лишь тишина да ветерок, легкий, прохладный и чистый, как дыхание снеговика, оживленного любовью и магией.
В воздухе пахло сырым бетоном и известью, которая десятилетиями испарялась из стен. В этой части подземного города я никогда не ощущал вони разлагающихся крыс или плесени, которой хватало повсюду.
Так же как и поворотную бетонную стену, решетчатую дверь снабдили секретным запорным механизмом. Она закрылась автоматически, едва я миновал ее.
Я включил фонарик, и из темноты возник коллектор ливневой канализации, словно луч света вырубил его в скальном грунте. Этот цилиндрический бетонный тоннель казался достаточно большим, чтобы избавить метрополис от повторения Всемирного потопа.
Иногда ремонтные бригады проезжали по главным тоннелям, таким, как этот, на электромобилях размером с пикап. В данный момент я находился в тоннеле один. За долгие годы я редко видел их издали, и еще реже мне приходилось убегать, чтобы меня не заметили.
Кто-то словно произнес надо мной заклинание уединенности. Когда я где-то прохожу под землей или на поверхности, люди обычно отворачиваются от меня, и я – от них за мгновение до того, как меня могут увидеть.
Иначе меня бы давным-давно убили.
Последний мощный ураган случился в октябре. С тех пор тоннель полностью высох, а на полу остался всякий мусор: пластиковые пакеты, банки из-под пива и газировки, чашки из «Старбаксов», вязаная перчатка, детский ботинок, сверкающий фрагмент бижутерии, все, что упало на дно из иссякающего потока дождевой воды.
Мусора обычно не так уж много. Я мог пройти не одну милю, ни на что не наступив. На высоте трех футов от пола с обеих сторон тоннеля тянулись дорожки для технического обслуживания. На них бурлящая вода редко что забрасывала.
Время от времени я видел и другие решетки, самые обычные, безо всяких секретных запорных механизмов, и железные лестницы, которые вели к служебным люкам на потолке или к трубам меньшего диаметра, из которых во время ливня в тоннель поступала вода.
В этом подземном лабиринте хватало и более ранних по времени дренажных тоннелей из кирпича, камня или бетонных блоков. В сравнении с современными тоннелями от них веяло очарованием той эпохи, потому что строили их каменщики, которые гордились своим мастерством.
Согласно преданиям метрополиса, одна из бригад каменщиков служила главарю преступного мира тех далеких времен, и они замуровали в стены несколько его врагов, кого мертвым, а кого и живым. Я никогда не встречал маленьких крестов, вроде бы выбитых на кирпичах, отмечающих эти могилы, не видел в щелях между камнями, из которых выкрошился цементный раствор, пальцы скелета, напоминающие окаменевшие древесные корни. Возможно, правды в этих историях нет, обычные городские легенды, хотя я знаю, какими бесчеловечными могут быть отдельные представители человечества.
На полпути до первого пересечения двух главных тоннелей я заметил впереди знакомый люминесцирующий серебристо-белый клок тумана. Четко очерченный и непрерывно меняющий форму, он плыл ко мне, словно воздух превратился в воду, а он был светящимся угрем.
Я остановился, наблюдая за туманником. Они всегда будоражили мое любопытство, так же как чистяки. Опыт общения с ними говорил, что бояться их нечего, но признаю, рядом с ними мне становилось не по себе.
В отличие от щупальца настоящего тумана или струйки пара, вырывающейся из трубы, этот призрак не расплывался по краям и не менял форму под влиянием потоков воздуха. Вместо этого он, изгибаясь, как змей, направлялся ко мне. Длиной в семь или восемь футов, примерно четыре в диаметре, он, проплывая мимо, остановился, встал вертикально, закружился, как кобра, зачарованная музыкой флейты. Потом снова принял горизонтальное положение и продолжил путь. Его сияние по мере удаления меркло, наконец исчезло совсем.
Я видел чистяков и туманников всю жизнь. Надеялся, что придет день, когда я точно узнаю, что они такое и зачем здесь находятся, хотя и подозревал, что так и останусь в неведении. Или, раскрыв их тайну, мне придется заплатить за эти знания очень высокую цену.
6
– Ты – слишком высокая цена, которую мне приходится платить, – заявила моя мать тем днем, когда отослала меня прочь. – Я жила по своим правилам и понимала, что мне предъявят счет, но не такой. Не тебя.
Всегда прекрасная, как любая женщина в глянцевых журналах, как телезвезда, в которую влюблены миллионы, в последнее время она похудела и осунулась. Но даже усталость, теперь не отпускавшая ее, темные мешки под глазами не могли отнять у нее красоту. Скорее говорили о том, что у нее доброе сердце и она понесла ужасную утрату, но боль ее, как боль любого мученика, прекрасна, а оттого лицо ее становилось даже красивее, чем прежде.
Она сидела за кухонным столом со сверкающими хромированными ножками и красным пластмассовым верхом. Под рукой лежали лекарства и стояла бутылка с виски, по ее словам, еще одним лекарством.
И виски, если вы спросите меня, помогало ей лучше всего, в самом худшем случае она от него грустнела, иногда смеялась, а обычно ложилась спать. Таблетки, с другой стороны, и порошок, который она вдыхала носом, давали непредсказуемую реакцию. Она много плакала, или яростно орала и бросалась вещами, или могла сознательно причинять себе вред.
Ее изящные руки добавляли элегантности всему, к чему прикасались. Простой стакан для виски начинал сверкать, будто хрустальный, когда она вновь и вновь проводила пальцем по влажному от виски ободку. Тонкая сигарета превращалась в волшебную палочку, и поднимающийся дымок сулил исполнение всех желаний.
Мне не предложили сесть, поэтому я стоял по другую сторону стола. Я не предпринял попытки приблизиться к ней. Когда-то давно она обнимала меня. Потом могла вытерпеть только короткое прикосновение: отбросить прядь волос с моего лба или накрыть мою руку своей. Но в последние несколько месяцев и это стало выше ее сил.
Поскольку я понимал боль, которую причинял ей, знал, что один только мой вид ужасает ее, у меня тоже щемило сердце. Она могла сделать аборт, но не сделала. Она меня родила. А увидев, кто появился на свет из ее чрева… даже тогда защитила от повитухи, едва не удавившей меня. Я не мог не любить ее, и мне только хотелось, чтобы она могла любить такое чудище, как я.
В окне за ее спиной серело октябрьское небо. Осень сорвала большинство листьев со старого платана, оставшиеся дрожали под ветром, как летучие мыши перед тем, как сорваться в полет. Никак не подходил этот день для того, чтобы уйти из дома и остаться в этом мире в полном одиночестве.
Она велела мне надеть куртку с капюшоном, и я это сделал. Приготовила мне рюкзак с едой и аптечкой, и я закинул его за спину.
После этого мать указала на пачку денег на столе.
– Возьми… хотя едва ли они чем-то тебе помогут. Они краденые, но украл их не ты. В нашей семье крала только я. Для тебя это всего лишь подарок, они чистые.
Я знал, что недостатка в деньгах она никогда не испытывала. Взял подарок и засунул в карман джинсов.
Слезы, которые стояли в ее глазах, теперь потекли, но она не издала горестного стона или вздоха. Я чувствовал, что эту сцену она репетировала долгое время, с тем чтобы отыграть ее, не предоставив мне ни единого шанса изменить написанный ею сценарий.
Перед глазами у меня все расплылось, и я попытался выразить свою любовь к ней и сожаление, что я стал причиной ее отчаяния, но с губ сорвалось лишь несколько неразборчивых, жалких слов. Физически и эмоционально я превосходил обычного восьмилетнего ребенка и был мудрее, чем ребенок, но по возрасту оставался им.
Вдавив окурок в пепельницу, она смочила пальцы конденсатом на стакане виски со льдом. Закрыла глаза, прижала подушечки пальцев к векам, несколько раз медленно и глубоко вдохнула.
У меня раздулось сердце, прижалось к грудной кости, ребрам, позвоночнику, грозя разорваться.
Потом она вновь посмотрела на меня.
– Живи по ночам, если хочешь остаться в живых. Не снимай капюшона, опускай голову, прячь лицо. Маска привлечет внимание, но повязка может сработать. Но прежде всего, никому не позволяй увидеть твои глаза. Они выдадут тебя сразу же.
– Все у меня будет хорошо, – заверил я ее.
– Не будет у тебя все хорошо, – отрезала она. – И ты не должен дурить себе голову, думая, что будет.
Я кивнул.
Одним длинным глотком выпив полстакана виски, она добавила:
– Я бы не отослала тебя, если бы не охотник.
Охотник увидел меня в лесу этим утром. Я побежал, он погнался за мной. Выстрелил несколько раз, его пули разминулись со мной на считаные дюймы.
– Он вернется. И будет возвращаться снова и снова, пока не найдет тебя. Не покинет этот лес, пока ты не умрешь. А потом в это дело втянут и меня. Захотят узнать обо мне все, каждую мелочь, а я не могу допустить столь пристального внимания к своей особе.
– Извини, – ответил я. – Мне очень жаль.
Она покачала головой. То ли имела в виду, что никаких извинений не требуется, то ли указывала, что этого мало. Не могу сказать. Она взяла пачку сигарет, достала одну. Я уже надел вязаные перчатки. Руки тоже могли выдать меня. Накинул капюшон на голову. У двери, когда взялся за ручку, услышал голос матери:
– Я солгала, Аддисон.
Я повернулся, чтобы взглянуть на нее.
Ее изящные руки так тряслись, что она не могла поднести к кончику сигареты огонек бутановой зажигалки. Она выронила зажигалку на стол, сигарета упала рядом.
– Я солгала, сказав, что не отослала бы тебя, если бы не охотник. Я бы все равно отослала тебя, с охотником или без него. Я этого не выдерживаю. Больше не могу. Я эгоистичная сука.
– Нет, – ответил я, шагнув к ней. – Ты испугана, вот и все. Боишься не только меня, но… но и много чего.
Она осталась прекрасной, но по-другому, напоминая теперь языческую богиню штормов, разгневанную донельзя.
– Лучше заткнись и слушай, что тебе говорят, парень. Я эгоистичная, и тщеславная, и жадная, а что хуже всего, я люблюсебя такой. Балдеюот того, что я такая.
– Нет, ты совсем не такая, ты…
– Закрой свой проклятыйрот, просто ЗАТКНИСЬ! Ты не знаешь меня лучше, чем я знаю себя. Я такая, какая есть, и здесь ничего нет для тебя, никогда не было и не будет. Ты уходишь и живешь как можешь в дальних лесах или где-то еще, но не смей возвращаться сюда, потому что здесь для тебя ничего нет, ничего, кроме смерти. А теперь уходи!
Она швырнула в меня стакан из-под виски, но я уверен, что попасть в меня не хотела. Слишком далеко улетел стакан, разбился о холодильник.
Каждое мгновение, на которое я медлил с уходом, превращалось для нее в еще одну рану. Ни словом, ни делом помочь ей я не мог. Жизнь тяжела в мире, который сдвинулся.
Горько плача – так не плакал никогда, да и вряд ли буду, – я покинул дом и не оглянулся. Печалился не о моем тогдашнем положении или прискорбных перспективах, а из-за нее, потому что знал: ко мне она ненависти не испытывала, только к себе. Презирала себя не потому, что восемью годами раньше принесла меня в этот мир, а за то, что сейчас выгоняла меня в него.
Под нависшим над головой небом день убывал. Облака, ранее серые и гладкие, клубились, а кое-где почернели.
Когда я пересекал двор, ветер заставлял опавшие листья кружиться у моих ног. Так маленькие животные, зачарованные колдуньей, могли танцевать вокруг той, кому служили.
Я вошел в лес, уверенный, что охотника сейчас здесь нет. Его ужас, конечно же, превосходил ярость. Он не мог остаться в лесу с приближением ночи, но наверняка намеревался вернуться при свете дня.
Убедившись, что тени спрятали меня, я остановился, привалился спиной к дереву. Подождал, пока вытекут все слезы и туман уйдет из глаз.
Скорее всего, я в последний раз видел дом, в котором родился и до этого момента рос. Мне хотелось посмотреть, как сумерки начнут сгущаться вокруг его стен, переходя в темноту, как в окнах вспыхнет свет.
В те дни, когда мое присутствие тревожило мать больше всего, я бродил по лесу до сумерек, а спать ложился во дворе или, в холодные ночи, залезал в теплый спальник, который расстилал в отдельно стоящем сарае, приспособленном под гараж. Она всегда оставляла мне еду на переднем сиденье своего «Форда», и я обедал в угасающем свете дня, издали наблюдая за домом, потому что мне нравилось смотреть, как в окнах загорается теплый свет: я знал, что в мое отсутствие на душе у нее мир и покой.
Теперь вновь, когда темнота беззвездной ночи окутала маленький дом, ветер умер вместе с днем и лес затих, в окнах зажегся свет. Эти окна вызывали у меня такое приятное чувство дома, безопасности и уюта. Если меня приглашали в дом, тот же самый свет, но увиденный изнутри, менялся, становился не таким золотистым, каким воспринимался снаружи.
Мне следовало уйти в тот самый момент, по узкой проселочной дороге добраться до далекого шоссе, но я тянул время. Сначала надеялся увидеть, как проходит она мимо окна, бросить последний взгляд на женщину, которая дала мне жизнь. По прошествии часа, потом двух я признался себе, в чем причина: просто не знал, что мне делать, куда идти. Сидя на опушке леса, заблудился, чего не случалось со мной даже в чаще.
Парадная дверь открылась, в застывшем воздухе до меня донесся скрип протестующих петель, и моя мать вышла на крыльцо, подсвеченная сзади. Только силуэт. Я подумал, что она может меня позвать, надеясь, что я где-то неподалеку, сказать, что любит меня больше, чем боится, и уже нет у нее желания отсылать меня прочь.
Но потом увидел помповик, с пистолетной рукояткой, двенадцатого калибра, всегда заряженный в ожидании незваных гостей, о которых она никогда не сообщала мне никаких подробностей. Помповик этот она называла «страховым полисом». Держала его не абы как, а крепко, обеими руками, готовая к выстрелу. Ствол смотрел в навес над крыльцом, пока она оглядывала ночь. Как я понял, она подозревала, что я где-то неподалеку, и своими действиями хотела убедить меня, что слова у нее не расходятся с делом и я изгнан окончательно.
Мне стало стыдно: как я мог сразу не пойти навстречу ее желаниям. Но оставался на опушке и после ее возвращения в дом, когда она закрыла дверь и заперла на замок. Не мог заставить себя отправиться в путь.
Возможно, прошло еще полчаса, прежде чем грохнул помповик. Пусть выстрел приглушили стены дома, в тишине ночи прозвучал он достаточно громко.
Поначалу я подумал, что кто-то попытался проникнуть в дом через дверь черного хода или окно, которые я не видел с того места, где сидел. Мать часто говорила о врагах и о ее решимости жить там, где они никогда не смогут ее найти. Я помчался через кусты, во двор, и до дома уже оставалось совсем ничего, когда осознал, что найду там не убитого или раненого незваного гостя, а ее самого злейшего врага, каким была она сама.
Если бы моя смерть могла оживить ее, я бы тотчас же умер во дворе.
Подумал, что мне надо войти в дом. Она, возможно, только ранена, ей нужна помощь.
Но я не вернулся в дом. Я хорошо знал свою мать. Если речь шла о чем-то важном, если разумом и сердцем она решала, что это надо сделать, тогда она обязательно реализовывала задуманное. Не допускала ошибок и не останавливалась на полпути.
Не знаю, сколько я простоял во дворе, окруженный тьмой, в тишине, опустившейся на дом после выстрела.
Позже обнаружил, что стою на коленях.
И не помню, как я ушел. Осознал, что иду по проселочной дороге, за минуту до того, как та вывела меня к шоссе.
Незадолго до зари я спрятался в полуразрушенном амбаре заброшенной фермы. Дом сгорел, и его так и не отстроили заново. В амбаре жили мыши, но меня они не слишком испугались, и я заверил их, что собираюсь пробыть здесь лишь несколько часов.
Мать положила мне в рюкзак самое необходимое, но добавила и полдесятка шоколадных булочек с орехом пеканом, которые испекла сама. Моих любимых.
7
Шагая под городом, я прибыл к пересечению двух больших тоннелей, когда внезапно раздался грохот: промчался поезд подземки. Только ее линии находились глубже ливневых тоннелей. Если какую-то часть подземки вдруг заливало, воду откачивали в эти тоннели. В прошлом тысячелетии ее откачивали в обычную канализацию, но однажды нечистоты, наоборот, хлынули в подземку и залили две мили путей. На очистку ушли недели, и проводили ее бригады в костюмах химзащиты. После этого схему откачки воды пересмотрели.
Большой город – наполовину чудовище и наполовину машина, с артериями чистой воды и венами грязной. Нервы – телефонные и электрические кабели, кишки – трубы, канализационные, газовые, с горячим паром. Плюс клапаны, фильтры, вентиляторы, счетчики, двигатели, трансформаторы и десятки тысяч связанных между собой компьютеров. Хотя горожане спят, сам город – никогда.
Город кормил меня и обеспечил секретным убежищем, за которое я оставался перед ним в неоплатном долгу, но я по-прежнему не полностью доверял ему и немного боялся. Логика настаивала, что город, несмотря на свою сложность, всего лишь средоточие вещей, домов, машин и систем, что нет у него сознания или намерений. И однако пусть сами горожане не подозревали о моем существовании, я частенько чувствовал, что город обо мне знает и наблюдает за мной.
Если у города была жизнь, отличная от жизни горожан, тогда он мог быть как добрым, так и жестоким. Будучи созданием мужчин и женщин, он, естественно, разделял их грехи, так же как добродетели.
Грохот поезда подземки затих, и, миновав пересечение огромных тоннелей, я повернул налево, в подводящий тоннель, который поднимался к поверхности под бо€льшим углом, чем главные. Здесь технологические дорожки вдоль стен отсутствовали, и размеры тоннеля заставляли меня сутулиться и наклонять голову.
Я так хорошо знал все подземные авеню и переулки, что мог найти дорогу и без фонарика. Но, пусть я решался выходить на поверхность только ночью, а дни проводил глубоко под землей, родился я для света, и мне хотелось видеть его чаще, чем позволяли обстоятельства.
Я подошел к нише в стене по правую руку. Формой она напоминала половину цилиндра, сложенную из бетонных блоков. Из потолка ниши вверх уходил канализационный колодец, такой же, как любой другой, только над головой, а не под ногами.
Сверху колодец плотно закрывал тяжелый чугунный люк с утопленной гайкой на периметре. Из рюкзака я достал лежащий в нем инструмент, железный стержень длиной с фут, с Т-образной ручкой на одном конце и чем-то вроде торцевого ключа на другом. Когда головка ключа надевалась на гайку и поворачивалась, краевая задвижка, расположенная в люке, выходила из гнезда в железном кольце колодца, и люк откидывался на петлях.
Отец моего отца позаимствовал этот ключ из грузовика технической службы департамента обслуживания городских коммуникаций задолго до своей смерти. Ключом этим я дорожил, как ничем другим. Я бы потерял большую часть свободы, которой наслаждался, какой бы она ни была, если б остался без этого ключа.
Вернув ключ в застегивающееся на молнию отделение моего рюкзака, я взял фонарик в зубы, схватился за край колодца, подтянулся и вылез через открытый люк в подвал центральной библиотеки города. Там стояла тишина, приличествующая такому месту; меня встретил сухой, но не холодный воздух.
В первом часу воскресного утра огромное здание, конечно же, пустовало. Уборщики давно ушли. По воскресеньям библиотека не работала. Возникни у меня такое желание, библиотека находилась бы в полном моем распоряжении до утра понедельника. Но я собирался провести в этих стенах лишь несколько часов, прежде чем отправиться в другое место, чтобы пополнить продуктовые запасы моего бункера.
Система климат-контроля, гарантирующая заданные температуру и влажность, действовала не только в залах библиотеки, но и в огромном подвале, где ряды массивных колонн поддерживали сводчатый каменный потолок. Между колоннами расположились металлические шкафы, каждый на бетонном постаменте высотой в фут. Некоторые для папок с бумагами, другие – гораздо шире, для чертежей и подборок газетных номеров. Бумага с годами становилась совсем хрупкой, не выдерживала собственной тяжести, и подборки могли храниться только плашмя.
В этом архиве хранилась вся история города, чем и обусловливался доступ к системе ливневой канализации. Одним колодцем дело не ограничивалось. В случае прорыва водовода или другой маловероятной катастрофы люки тут же открыли бы, гарантируя, что вода не поднимется выше бетонных постаментов, на которых стояли металлические шкафы.
Мне нравилось это огромное пространство, колоннады, сводчатые потолки, напоминавшие мне фотографии резервуаров, построенных Франсуа д’Орбе под Водным партером и садом Версальского дворца. В луче фонарика тени колонн откидывались, словно огромные черные двери.
Подвал обслуживали два лифта, обычный и грузовой, но я никогда ими не пользовался. Считал лестницу более тихой и безопасной. На этот раз выбрал ту, что находилась в юго-восточном углу подвала.
Разумеется, в библиотеку меня тянули книги. Хотя отец и его отец собрали немало книг, выброшенных теми, что жили наверху, да и я мог брать книги в лавках старьевщиков, где отоваривался после их закрытия, многие книги я мог найти лишь в центральной библиотеке.
Лестница привела меня в зал периодических изданий, со стенами, обшитыми панелями орехового дерева, где читатели могли познакомиться с газетами и журналами. Короткий коридор вел в главный читальный зал, архитектурный шедевр площадью в шестнадцать тысяч квадратных футов, поднимающийся из моря коричневых мраморных плит. В этом огромном помещении хранилась часть книжного собрания библиотеки, но главным образом его занимали деревянные столы, за которые одновременно могли усесться пятьсот читателей.
Раньше в этот поздний час читальный зал освещался только волшебным, янтарным светом города, который просачивался через высокие арочные окна. На этот раз горели многие лампы.
Я чуть не ретировался, но интуиция посоветовала мне подождать, присмотреться, понять.
Десятилетия тому назад ночные сторожа патрулировали многочисленные залы и коридоры центральной библиотеки. Но в стране, которая едва не докатилась до банкротства, самой предпочтительной системой безопасности считаются крепкие замки и охранная сигнализация по периметру, потому что она не требует зарплат, медицинской страховки и пенсионного обеспечения.
Проходы между восьмифутовыми полками с книгами, которые библиотекари называют стеллажами, располагались по направлениям север – юг и восток – запад. На подходе к этому лабиринту я услышал шаги, едва слышные даже в библиотечной тишине, шаги невероятно легкие и быстрые: так мог бежать только ребенок, над которым нависла угроза неминуемой смерти.
И впереди, на перекрестке проходов между стеллажами, справа, то есть с севера, появилась хрупкая девушка-подросток, быстрая, как газель, бегущая с грацией балерины, едва касаясь пола пальцами ног. На ней были серебристые туфли, совсем как крылатые ноги Меркурия, но в остальном она отдавала предпочтение черному. Мне показалось, что ее длинные волосы тоже черные, блестящие под светом ламп, как поверхность пруда под луной. Она появилась лишь на мгновение, чтобы исчезнуть. Чувствовалось, что спасает свою жизнь.
Преследователя я не слышал, но ее очевидный страх предполагал, что он совсем близко. Если за ней гнались, то я не знал – и представить себе не мог – преследователя, который мог бежать быстрее, чем она.
Я с осторожностью вошел в проход между стеллажами. Люстры, свисавшие с потолка, который отделяли от пола добрых пятьдесят футов, не горели. Проход, по которому пробежала девушка, пустовал по всей длине, освещенный стальными бра, инкрустированными бронзой и стилизованными под старинные подсвечники. Они крепились достаточно высоко к металлическим рейкам шириной в шесть дюймов, которые разделяли полки.
Стеллажи делились пополам сплошной перегородкой, поэтому я не мог заглянуть поверх книг в соседние проходы. Мягко ступая, продолжал идти на восток, добрался до следующего прохода север – юг, параллельного первому, но и в нем девушку не обнаружил.
Стеллажи образовывали большую решетку – не лабиринт, как в старой видеоигре «Миз Пакман». Но мне казалось, что совсем это не решетка, а что-то куда более запутанное, и шел я осторожно, выглядывая из-за углов, поворачивая то в одну сторону, то в другую, как подсказывала мне интуиция.
Теперь я шел на юг, приближаясь к перекрестку, где намеревался повернуть налево, когда что-то услышал, возможно, едва слышный скрип туфли с мягкой резиновой подошвой. Я замер между двумя бра, не в тени, но и не ярко освещенный.
Высокий худощавый мужчина проскочил перекресток передо мной, справа налево, вероятно так уверенный в местонахождении девушки, что даже не взглянул в тот проход, где стоял я. Через мгновение исчез. Я подумал, что периферийным зрением он уловил мое присутствие и сейчас вернется, чтобы заглянуть в проход, но нет, он продолжил преследование. Был он в брюках от костюма, белой рубашке с закатанными рукавами и галстуке. Не хватало только пиджака. Из этого я сделал вывод, что он не просто работал здесь, но и занимал высокую должность. Но что-то в нем – может, маниакальная решимость найти девушку, или закаменевшее лицо, или пальцы, сжатые в кулаки, – подсказывало мне, что девушке крепко не поздоровится, если он все-таки ее найдет, и он постарается сделать так, чтобы об этой встрече никто больше не узнал.
Я решился последовать за ним, но к тому времени, когда обогнул угол, в проходе его не увидел. Пусть я хорошо знал библиотеку, этот лабиринт принадлежал ему – не мне. И если он являл собой Минотавра, а я примерял к себе роль Тесея, который уничтожал таких чудовищ, тогда все могло закончиться печально для положительного героя, учитывая, что я никогда не убивал ни монстров, ни кого-то еще.
Девушка вскрикнула, и тут же раздался крик мужчины: «Сучка, маленькая сучка! Я тебя убью!» Девушка вскрикнула вновь. Грохот от лавины падающих книг подсказал, что кто-то необычным образом использовал источники знания.
Акустика в этом огромном зале путала карты. Золоченые сводчатые потолки, стены из известняка, мраморный пол, стеллажи, набитые книгами, впитывали и отражали звуки, и вскоре казалось, что битва идет во всех проходах, со всех сторон. И тут же все стихло.
Я застыл на перекрестке, склонив голову, потом повернулся на триста шестьдесят градусов, сердце ухало. Я боялся, что с ней что-то случилось. Вспомнил, что Минотавр в пещерах под Критом жрал человеческую плоть.
8
С надвинутым капюшоном на голове, опустив голову, насколько возможно, чтобы видеть, куда иду, я поворачивал налево, направо, налево, туда, сюда, вперед, назад, проскочил «Историю» со всеми ее войнами, «Естественные науки» со всеми их открытиями и тайнами. Несколько раз я улавливал какое-то движение, легкое, быстрое дыхание девушки, сдавленное ругательство, произнесенное мужским голосом. Дважды я видел его, поворачивающего за угол, девушку – нет, и меня это устраивало: все лучше, чем наткнуться на ее труп.
Я обнаружил проход, где книги валялись на полу, вероятно сброшенные с полок девушкой, чтобы задержать преследователя. У меня защемило сердце от такого обращения с книгами, но она прожила на свете, как мне показалось, не больше шестнадцати лет, и весила каких-то сотню фунтов. Рост мужчины в рубашке с закатанными рукавами превышал шесть футов дюйма на два, весил он как минимум в два раза больше, чем она, определенно не мог контролировать свою злость и угрожал ее убить. Даже если бы ей пришлось уничтожить всю библиотеку, чтобы спастись, она поступила бы правильно. Каждая книга – живой разум, открытая для всех жизнь, мир, ожидающий своего исследователя, но все это есть и у живых людей… и даже больше, потому что их истории еще не написаны полностью.
Тут что-то изменилось, и я поначалу подумал, что тихие звуки, которые издавали два человека, дичь и охотник, сменились гробовой тишиной. Но в этот миг послышался легкий шорох, возникло ощущение, что где-то на границе слышимости находится фонтан и тысяча тоненьких струек воды переливается из каскада в каскад.
Вместе с едва слышным звуком пришел запах, не свойственный библиотеке; не трехсотлетней бумаги, не легкого цитрусового аромата известняка, определенно не отдушек полироли для дерева или не воска для мрамора. Пахло улицей, по которой только что проехала поливальная машина, и сопровождал запах прохладный ветерок, слишком слабый, чтобы шелестеть страницами сброшенных на пол книг.