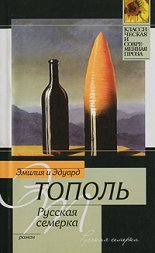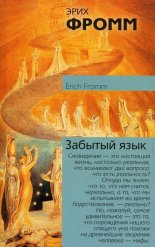Путеводитель по стране сионских мудрецов Губерман Игорь

Короче говоря, народы шастали по этой территории туда-сюда и обратно. Понятно, что кто контролировал этот не самый уютный кусок земли, тот и стриг с него купоны. То есть место это все-таки было привлекательным. Но однажды начались кошмарные разборки в северном Средиземноморье, все передрались друг с другом не только на материке, но и на островах. Тут-то всякие симпатичные ребята с этих островов, да еще ахейцы и дорийцы, ионийцы и сардинцы, даже дануну хлынули кто куда, и многие осели в Эрец-Исраэль. Евреи называли их плиштим, то есть захватчики, что, как вы понимаете, по-русски будет филистимляне. Вторгнувшись, они стали обустраиваться и построили довольно много городов, таких как Ашдод, Ашкелон, Гат, Экрон и, будь она неладна, Газа. Надо сразу признать, что сравнение евреев с филистимлянами будет явно не в пользу первых, ибо филистимляне были люди образованные, организованные и высококультурные.
В то время, когда они сотворяли такие чудеса, как Кносский дворец на Крите, или, умастившись благовониями, вели ученые беседы под доброе винцо с изысканной закуской, евреи дикой галдящей толпой шатались по Синайскому полуострову, ели саранчу, и вовсе не исключено, что по ним прыгали песчаные блохи. Кое-как придя в себя после иерихонского концерта, они начали расселяться по стране — племя здесь, племя там. Все это сопровождалось боями местного значения, в которых особо отличился Гидеон, о котором мы рассказывать не будем. Сам виноват: надо было позаботиться и оставить хотя бы парочку достойных туристических объектов. А к тому времени, в котором жил герой и о котором мы непременно расскажем, евреи и филистимляне уже стали жить мирно, а точнее — евреи были под филистимлянской властью. Что немудрено, поскольку у филистимлян помимо культуры и хороших манер было железо, а у евреев не было ни того, ни другого, ни третьего.
Речь пойдет о настолько известном человеке, что ему в Петергофе даже поставили памятник в виде фонтана из чистого золота. Ну хорошо, из бронзы, но позолоченной. Вот уж кто оставил после себя память вместе с кучей объектов, так это он —Самсон! Для начала: он не брился и не стриг волосы. Это очень удобно. Затем, он был судьей. И наконец, он был здоровущий мужчина — голыми руками разорвал льва (см. фонтан в Петергофе) — и еще был очень изобретательный. Однажды поймал триста лисиц, связал их хвостами, к этим узлам прикрепил факелы и пустил обалдевших зверюшек на филистимлянские поля, в результате чего не только пожег всю пшеницу, но и виноградники, и масличные рощи. В наше время такой человек называется пироманом.
Разумеется, подобное обращение с животными заслуживает всяческого осуждения (львов, например, в Израиле совсем не стало), но никто Самсону на вид не поставил: уж больно дикого нрава был человек и силы необычайной.
В другой раз Самсон в одиночку поубивал сразу тысячу филистимлян, выбрав для этой цели необычное оружие, а именно: ослиную челюсть. Без сомнения, найдутся люди, которые скептически отнесутся к этой истории: ну двух убил, ну десять куда ни шло, но тысячу — это уже фантастика и перебор. А зря: подлинность любой истории легко проверяется наличием небольшой и случайной детали, которую совершенно ни к чему было придумывать. Так вот, в деле Самсона такая деталь имеется. В Библии сказано: «Нашел он свежую ослиную челюсть». Именно указание на то, что означенная челюсть была не высохшая, не какой-нибудь второй свежести, а совершенно свежая, с очевидностью свидетельствует о правдивости этой истории.
Все свои подвиги совершал Самсон в долине Сорек, немного восточнее города Бейт-Шемеша. В этой долине находится очень красивая сталактитовая пещера площадью аж в пять тысяч квадратных метров. Однако главная достопримечательность этих мест располагается на перекрестке, где от дороги, ведущей к шоссе № 1 (Тель-Авив — Иерусалим), отходит дорога в сторону Рамле и Лода. Сам перекресток называется Шимшон, то есть Самсон. Речь идет о киоске около автобусной остановки, где продаются всякие незамысловатые бутерброды, кола, минеральная вода и все такое прочее. Так вот: в конце шестидесятых — начале семидесятых годов прошлого века у этого киоска останавливались не только люди, проезжавшие мимо по делам, не только подходили люди, ожидавшие автобуса. Сюда приезжали из Беер-Шевы и Эйлата, из Нагарии и Кирьят-Шмона, со всех концов Израиля тянулись сюда жители, невзирая на палящую жару и невыносимый зной летом и пронизывающий холод и проливные дожди зимой.
Как вы понимаете, не вчерашние сэндвичи и кока-кола манили сюда этих людей. Дело в том, что у женщины, которая торговала в этом киоске, были груди. «Ну и что? — скажете вы. — У всех женщин есть груди — на то они и женщины». — «Ах! — ответим мы вам. — Что вы такое говорите! Таких грудей, какие был и у этой женщины, не было ни у какой другой, и не видал таких никто — такой невероятной красоты и размера они были».
Счастливцы, видевшие это чудо света, утверждают, что были они подобны горе Фавор каждая, другие говорят о двух ведрах донышком вверх, третьи, на манер царя Соломона, сравнивают их с белорунными овцами. В народе они получили прозвище «груди государства». В результате район перекрестка Шимшон стал одной гигантской дорожной пробкой, что вызывало недовольство Министерства транспорта, Управления дорог и полиции. Но никакие меры не помогали, ибо те, кого посылали эти меры принимать, стояли в полной оторопи, не в силах отвести восторженных глаз от Божьего чуда. Все это кончилось из-за мужа, которому, по словам одного из тех, кто своими глазами видел «груди государства», надоело делить их со всем миром. Он продал киоск и увез свое сокровище неведомо куда. С тех пор прошло почти сорок лет. Выросло два поколения людей, не видевших воочию этих легендарных грудей. Но нет человека в Израиле, который на вопрос, чем знаменит перекресток Шимшон, не воздел бы мечтательно глаза к небу и благоговейно вздохнул: «Груди государства…»
Вернемся, однако, к Самсону. Этот незаурядный человек заслуживает нашего внимания не только благодаря своему буйному поведению и ставшей общим достоянием красивой фразе «Умри душа моя с филистимлянами», но тем, что именно в нем впервые проявилась характернейшая черта еврейского народа: влюбленность в чужие культуры. Самсон был по уши влюблен в филистимлян. Собственно, романы между народами — явление достаточно нередкое: роман англичан с Италией и Грецией, например, или русских — с Францией и Германией. Да, среди россиян были и англофилы, и италоманы, но это мелкие группы, никак не повлиявшие на два главных направления. Романы эти — романы счастливые, и даже временные ссоры (в истории известные как войны) только подбрасывали дров в огонь пылающей страсти. Конечно же, евреи были (и до сих пор остаются) привязаны к местам своего проживания, будь то Чехия или Украина, Аргентина или Италия. Но мы говорим о любви, которая оставляет след на долгие-долгие годы и память о которой не исчезает многие поколения после разрыва. Это не только влюбленность в культуру, это еще влюбленность в образ жизни и, наконец, в самое место. Однако не стоит представлять себе евреев этакими Казановами на исторических перекрестках. Особенность еврейских романов заключается в том, что это всегда была любовь без взаимности. Горькая, безответная, исполненная иллюзий и самообманов, любовь со стандартно плохим концом. Три великих романа — с Испанией, Германией, Россией — оставили в сердце еврейского народа раны, которые не зарубцевались и по сей день. И сегодня при слове «Испания» вздрагивает душа каждого еврея, хотя после разрыва прошло более пятисот лет. Гранада… Толедо… Сантьяго-де-Компостелла… Саламанка… Барселона… Сарагоса… И сжимается сердце, и комок подкатывает к горлу, и все тело томится, как при имени женщины, которую давным-давно, на заре туманной юности любил ты со всей отчаянностью и безоглядностью, отдавая этой любви себя всего, до самого конца, без остатка.
Достаточно часто говорится о способности евреев мимикрировать. В Израиле это особенно наглядно: грузинский еврей — он более грузин, чем еврей (а что такое еврей?), бухарский еврей — чистой воды бухарец, немецкий — такой немец, что тошно, и перечень этот можно продолжить. Только это лишь начало, на поверхностный и первый взгляд. Мимикрируя, животное меняет свой внешний вид, еврей же меняет абсолютно все, включая образ мыслей и работу желудка. Так было с немецкими евреями, с русскими, теперь с американскими. Но испанские евреи всегда оставались сами собой: они никогда не пытались выдавать себя ни за испанцев, ни за мавров. Может быть, именно этой их особенности мы обязаны тем, что только им дано было создать в изгнании то, что зовется золотым веком ивритской поэзии. Не как американские евреи на идиш и не на своем повседневном языке ладино — нет, на иврите, на древнем языке предков изливали свои чувства испанские евреи. Они подчеркивали свою особость в отличие от евреев Германии и России, желавших раствориться в коренном народе, как это делают сегодня многие евреи Америки.
Но, как уже сказано, кроме иврита был у евреев еще один язык — ладино, сохранивший до сего дня вкус и аромат средневекового кастильского языка. Испания была первой любовью евреев, но как справедливо заметил влюбленному Маяковскому Бурлюк: «Бросили бы вы это дело, Владимир Владимирович, — первая любовь никогда не бывает удачной». (В случае евреев слово «первая» надо убрать.) И все же, несмотря на обособленность, все смешивалось в Испании и даже кровь.
Направляя клинок в грудь своему ненавистному сводному брату Педро Жестокому, будущий король Испании Энрике воскликнул: «Умри, еврейский выродок!» Он знал, что говорил.
Как ни кичились испанские и португальские гранды своей голубой кровью, но мало можно найти на Пиренейском полуострове аристократических семейств, в череде предков которых не маячила бы еврейская тень. И даже сам Фердинанд, подписавший эдикт об изгнании евреев из Испании, был, так сказать, нечист насчет происхождения. Бабка его с материнской стороны была еврейкой. В конце XVIII века португальский король под влиянием инквизиции издал эдикт, обязующий евреев носить зеленые шляпы. Через несколько дней его премьер-министр маркиз де Помбаль явился к нему, держа в руках две зеленые шляпы. В ответ на удивленный взгляд короля маркиз глубоко поклонился: «Согласно эдикту Вашего Величества. Одна для меня. Другая для вас». Эдикт был отменен.
Как ни странно слышать это нам сегодня, но средневековая Испания была на редкость терпимым государством. В главном соборе Толедо богослужения шли на трех языках: латыни, арабском, иврите — конфессии по очереди использовали помещение. На надгробной плите отца Альфонса VI надпись сделана на четырех языках: латыни, кастильском, иврите, арабском, а сам Альфонс не без гордости называл себя королем трех религий.
Хронисты того недолгого времени называли евреев «позвоночным столбом» испанской экономической жизни. Ткацкие фабрики, серебряные рудники, виноделие, ремесла — всюду наблюдалось (и терпелось) веское участие евреев. Уж не говоря о торговле и финансах. Мозговые тресты при испанских королях составляли евреи. А когда изгнали их, то констатировал один хронист нечто важное для нашей темы: «Испанские евреи оставили Испанию очень еврейской, сами они уехали очень испанскими».
Разрыв наметился в связи с объединением страны, когда пало последнее государство мавров, когда отдельные королевства слились в единую империю и все потекло в соответствии с известным рецептом: один народ, одна религия, один язык, один фюрер. И может быть, действительно нет другого рецепта, а тогда уж и подавно не было. В изгнание ушли триста тысяч евреев — пять процентов населения Испании, и, видит Бог, это были не худшие пять процентов. Многие из них осели в Турции. И сказал султан Баязет: «Не понимаю, почему испанского короля называют мудрым владыкой, если он так обезлюдил свою страну, а мою облагодетельствовал». Еще кто-то отправился в Англию, в Голландию. И в XVII веке в период ожесточенных колониальных схваток между Испанией и Голландией среди голландских корсаров было много евреев, которые вели пиратские корабли со свитками Торы на борту. Именно они сожгли Вальпараисо, но разумеется, в будний день — в субботу, как известно, огнем баловаться нельзя.
Однако многие евреи — гораздо больше, чем ушло в изгнание — остались. Они приняли крещение, а вместе с ним и кличку: марранос — свиньи. С одной стороны — оскорбительную, с другой — защитительную. Ведь первое, что проверяла инквизиция (не за евреями она гонялась — за христианами притворными и христианами неправильного толка), — это наличие свинины на кухне. Многие, очень многие из марранов втайне продолжали соблюдать свою религию. Это они сочинили самую знаменитую еврейскую молитву «Кол Нидрей», которую читают евреи в Судный день, умоляя простить им лживые клятвы.
И до сегодняшнего дня в Испании есть семьи, в которых по субботам берут выходной, чтобы не ходить на работу, и зажигают свечи. Эти люди могут быть верующими христианами — но это семейная традиция. Существует забавный аспект марранской культуры: именно им обязана испанская кухня обильному употреблению оливкового масла — марраны не пользовались животным жиром и маслом для жарки (не кошерно). Существует даже такое блюдо, как «фальшивый окорок»: внешне совершенно свиной, а на деле сделанный из копченой курятины.
Множество великих испанцев родились в марранских семьях. Достаточно назвать Сервантеса (его мать была крещеная еврейка), и даже величайшая испанская святая Тереза из Авилы была из марранской семьи. Тоска евреев по Испании была так велика, что несмотря на смертельную опасность около ста тысяч изгнанников вернулись.
А что же сами испанцы, вспоминают ли они этот роман, да и вообще признают ли, что он существовал?
Ответ однозначный: да. Достаточно привести слова Федерико Гарсиа Лорки: «Четыре беса создали Испанию: бес католический, бес барочный, бес цыганский и бес еврейский».
А что же те, кто не вернулся? Как мы уже говорили, они рассеялись по разным странам. Но где бы они ни были, они хранили свой язык — ладино — и пели свои знаменитые сефардские романсеро, в которых еврейские молитвы сплелись с арабскими макамами и кастильскими ритмами.
Приятно заметить, что один из авторов, будучи в Гранаде, оторвался со своей женой от группы, чтобы навестить роскошный склеп Изабеллы и Фердинанда — королевской четы, изгнавшей некогда евреев из Испании. Он давно хотел (и тут свою мечту исполнил) кинуть им на усыпальницу пару шекелей — в надежде, что они узнают таким образом, что евреи не только живы, но имеют уже собственное государство.
Роман с Россией отличался от романа с Испанией так же, как роман с одной женщиной отличается от романа с другой. Но были и интересные параллели.
*
- Евреям от Бога завещано,
- что душу и ум ублажая,
- мы любим культуру, как женщину,
- поэтому слаще — чужая.
Так, до изгнания испанские евреи не скрывали своего происхождения — напротив, даже подчеркивали оное, как и российские евреи до конца XIX века. И так же, как испанские марраны, многие евреи послевоенного Советского Союза пользовались любой возможностью, чтоб скрыть постыдный факт своего еврейства. С другой стороны, российский роман — наиболее загадочный и непонятный из всех трех. В Испании евреи жили полторы тысячи лет, в Германии — чуть ли не две. За это время действительно могут произрасти отношения, возникнуть симбиоз, развиться чувство причастности.
В России евреи к моменту начала романа жили всего-навсего несколько десятков лет. Вообще-то они появились в России куда как давно: по некоторым сведениям, ими был основан Киев. Но затем при Владимире Мономахе были изгнаны и снова оказались в России лишь благодаря разделу Польши в девяностых годах XVIII века. Россия неожиданно для себя и безо всякого на то желания стала обладательницей самого большого количества евреев в мире.
Об отношении евреев к новому отечеству говорят слова одного из блестящих русских военачальников, героя войны 1812 года — графа Михаила Андреевича Милорадовича: «Без евреев мы не победили бы в этой войне, и у меня не было бы всех этих орденов и медалей». Итак, лояльность, верность, усердие давно были проявлены и замечены, но любовь вспыхнула после реформ шестидесятых годов XIX века. Надо сказать, что накал этой страсти испугал изрядную часть коренного населения. Как писал М. Горькому один из его читателей: «С устранением антисемитизма Россия стала бы благоденственной страной, но евреи были бы там хозяева, а русские — рабы». Евреи этих опасений начисто не ощущали и старались еще больше: мол, непонимание рассеется и любовь расцветет пышным цветом. Мы вовсе не собираемся вникать в сложные отношения евреи—русские. Во-первых, этим и без нас масса народу занимается, что русских, что евреев, во-вторых, вся наша книжка вовсе не про это, а в-третьих, мы говорим исключительно о любовных коллизиях еврейского народа. Так что вернемся, как говорится, к нашим баранам.
Кроме идейных антисемитов и ярых противников этой любви (таких, как Достоевский, например), в русской интеллигенции мы встречаем и филосемитов (Соловьев, Бердяев). Тут надо сказать, что филосемиты в первую очередь были русскими патриотами, которые считали, что антисемитизм вреден русскому народу, поскольку отвлекает его от собственных существенных проблем. И наконец, были люди нейтральные. Они хотя и не испытывали теплых чувств к докучливому обожателю, но в силах были объективно отнестись к возникшей ситуации. Так, Чехов, например, устами своей героини-библиотекарши признавал: «Если б не молодые девушки-еврейки, библиотеку можно было бы закрывать». А потом пришла революция. Сперва февральская. Потом октябрьская. Тут евреи, так же как и русские, заметно раскололись. Среди участников первого бунта юнкеров против большевиков треть была юнкерами-евреями. Среди вождей противников большевиков — Винавер, Гоц, Мартов. Еврей Канегиссер стреляет в еврея Урицкого. Но ярый антисемитизм Белого движения положил этому конец. Белое движение изгнало евреев, Красное — открыло им объятия. И евреи кинулись в них со всем восторгом. На много, много лет. Мы не будем перечислять всех поэтов, композиторов, ученых, хозяйственников — и да, чекистов и партийцев. Они были всюду. Но главное — они уже не считали себя евреями. Самыми ярыми преследователями сионизма и иудаизма были члены Еврейской секции ВКП(б). Они в судорогах коллективного энтузиазма пылко строили новый мир, Царство Божие на земле. А когда дело было сделано, то вдруг обнаружили, что то, что они считали любовью, другие полагали насилием. Что России наскучила их назойливая привязанность. А они ведь (это очень важно и поэтому повторим) ну никак себя евреями не полагали и не осознавали, они напрочь не хотели быть другими и чужими. Пытаясь доказать свою верность, они шли на все, чтоб быть своими для упрямых россиян. Как заметил Михаил Светлов: «Чего они хотят — ведь мы уже и пьем, как они?» Ситуация была жалкой и никак не могла содействовать приятности облика притязателя на сердце России. Эту малосимпатичную черту евреев с горечью подметил философ Карсавин: «Мне стыдно за стыдящихся своего еврейства евреев». Отторгнутые евреи больно переживали свое двойственное положение.
Наш троюродный брат Лодик (царствие ему небесное) был весьма засекреченным конструктором ракетных катеров. В конце шестидесятых один такой катер, находившийся на вооружении египетского флота, потопил израильский фрегат «Эйлат». На следующий день, встретив в КБ своего приятеля (тоже еврея), Лорик растерянно сказал: «Как тебе нравится? Наш катер потопил наш фрегат…»
Принять ситуацию достойно, отказаться от надежды на ответную любовь евреи были попросту не в состоянии. Дело доходило до вещей воистину анекдотических. Так, Владимир Осипов, легендарный русский националист, диссидент, редактор журналов «Вече» и «Община», признался в лагере Михаилу Хейфецу, своему коллеге по заключению, что с идеей русского национализма его познакомил поэт Илья Бокштейн.
То, что ощущали россияне, остро и точно сформулировано оказалось в переписке Натана Эйдельмана и Виктора Астафьева. Трудно было найти русского человека, знавшего и любившего Россию больше Эйдельмана. Автор изумительных книг, тонкий исследователь, блестящий архивист, он дышал Россией, всей ее культурой и историей. И вот однажды написал письмо прекрасному прозаику Астафьеву.
Тут мы с местоимения «мы» перейдем на «я», ибо один из авторов был свидетелем этой переписки.
Много уже лет назад я оказался в числе первых слушателей первого письма той переписки. К Тонику Эйдельману я всегда испытывал невероятное почтение, что дружбе нашей изрядно мешало, но тогда — решительно, хотя несвязно и неубедительно — стал возражать. Многие помнят, наверное, что письмо это упрекало Астафьева в некорректности к национальным чувствам грузин — да еще тех грузин, гостеприимством которых он пользовался, будучи в их краях. Я сказал Тонику, что письмо это (еще покуда не отправленное адресату) выглядит неловко: будто некое послание провинциального учителя-зануды большому столичному лицу со смиренной просьбой быть повежливее в выражении своих мыслей. Я говорил и чувствовал, что говорю что-то не то и не по сути, и конечно, я не был услышан. И письмо было отправлено. А через короткое время (свой ответ Астафьев уже написал, и переписка эта обрела публичность) собирался я из города Пярну возвращаться домой в Москву. Так как приютивший меня Давид Самойлов уезжал в Таллин, то и я с ним увязался. Поэта Самойлова радостно и любовно встречали местные журналисты, и мы очень быстро оказались на какой-то кухне, где уже был накрыт стол для утреннего чаепития. Но Давид Самойлович сказал свои коронные слова, что счастлив чаю, ибо не пил его со школьного времени, и на столе явились разные напитки. Хозяев очень волновала упомянутая переписка, они сразу же о ней спросили; я было встрял с рассказом (Давид Самойлович был сильно пьян, в тот день мы начали очень рано), но старик царственно осадил меня, заявив, что он все передаст идеально кратко. И сказал:
— В этом письме Тоник просил Астафьева, чтоб тот под видом оскорбления грузин не обижал евреев.
И я сомлел от восхищенного согласия. Именно это я пытался тогда сказать Тонику, но все никак не мог сообразить, что именно я высказать хочу.
Ответ на то письмо тогда последовал отменный, до сих пор со смутным удовольствием я перечитываю послание Астафьева, когда оно мне попадается порой. Это была высокая — наотмашь — отповедь коренного россиянина случайному и лишнему в этой стране еврею. И державно - почвенная злоба и обида за родной народ российский — все в нем было замечательно. Некоторые строки, напоенные сарказмом, непременно приведу, их надо нам читать и перечитывать: «Возрождаясь, мы можем дойти до того, что станем петь свои песни, танцевать свои танцы, писать на родном языке, а не на навязанном нам "эсперанто", тонко названным "литературным языком". В своих шовинистических устремлениях мы можем дойти до того, что пушкиноведы и лермонтоведы у нас будут тоже русские, и, жутко подумать, собрания сочинений отечественных классиков будем составлять сами, энциклопедии и всякого рода редакции, театры, кино тоже приберем к рукам и — о ужас! о кошмар! — сами прокомментируем "Дневники" Достоевского».
Поеживаюсь и сейчас, перепечатывая это. Кто мешает ущемленным местным людям писать собственные песни? Разве, чтобы стать пушкиноведом, нужно что-нибудь еще, кроме способностей и готовности к нищенской зарплате? До белого каления раздражает бедного прозаика сам факт еврейского участия и во всем перечисленном, и во всем прочем, не названном.
Но это же как раз и есть еврейская точка зрения, глумливо пояснил мне соавтор: мы их любим и усердствуем, так почему и чем мы так им неприятны? С этим я ошеломленно согласился. Ибо ведь ответной любви — не было и в помине. А что касается замечательных поэтических строчек:
…Особенный еврейско-русский воздух…
Блажен, кто им когда-либо дышал… —
так ведь и это написал еврей Довид Кнут, от россиян такого мы не слышали ни разу.
В семидесятые годы СССР открыл евреям выезд. Это и было началом конца одного из самых волнующих романов еврейской истории. Конечно же, еще и посегодня мы находимся внутри этого процесса. И тем не менее те евреи, которые хотят стать русскими, могут добиться своего. Здесь и крещение, и смешанные браки. Те, кто хотят сохранить свою культурно-национальную особость, —уехали или уедут. И конечно же, есть те, которые, как бы это поприличнее выразиться, хотят и рыбку съесть, и усесться самым приятным образом. Как и свойственно такого рода людям, совершают они эти действия с грацией слона в посудной лавке, с тем замечательным отсутствием малейшего такта и редкостным бесстыдством, которое, увы, заметно свойственно евреям. Это и хасидские радения в Кремле, и хамство нуворишей, это и многое другое, что перечислять нам неприятно.
Сделаем только минутное отступление в генетику — науку, для нас невнятную и темную, но есть у нас гипотеза, которую не высказать нельзя. Когда-то ведь евреи завоевали землю Ханаанскую, и мы уже упоминали этот факт. А там издревле жили давние потомки Хама — да, того самого, знаменитого библейского сына Ноя. Легко предположить, что главная особенность этого предка (сделавшая его имя нарицательным) передалась в какой-то степени потомкам. А пришельцы, смешиваясь с местным населением усвоили черты его характера, слегка ослабив и разбавив их, естественно. Так не отсюда ли явились пресловутые еврейские бесцеремонность и настырность?
Что ж, есть люди, которые сидят на вулкане не из-за отсутствия достоверной информации, а по собственному желанию. И когда вулкан взорвется, им не на кого будет жаловаться, кроме как на себя самих.
Что же осталось от еврейско-русского романа? Ответим только за себя. Осталась огромная любовь к этой стране. К ее людям. К ее полям, лесам, городам и деревням. Осталось страшное ощущение причастности. К ее истории. К ее душе. И еще песни, которые многие поколения израильтян поют на иврите, в полной уверенности, что это исконно израильские песни, и которые мы, надравшись, поем хором по-русски. Например:
- Летят перелетные птицы
- Ушедшее лето искать.
- Летят они в жаркие страны,
- А я не хочу улетать.
- А я остаюся с тобою,
- Родная моя сторона,
- Не нужно мне солнце чужое,
- И Африка мне не нужна.
Конечно же, не нужна, какая там Африка! Музыка Блантера.
Эхо этого романа, раздирающее душу ощущение двойной причастности, принимает порой формы поразительные. Одному из нас однажды позвонила наша давняя общая приятельница и, чуть запинаясь, попросила ей помочь: захоронить прах отца, недавно умершего в Питере. А разговор наш — в Иерусалиме. Речь шла о распылении праха в Иудейской пустыне — такова была предсмертная отцовская просьба. И была всего лишь половина праха — вторую он просил оставить в Питере, в котором прожил свою жизнь и который обожал. А был он физиком, талантлив был необычайно, много сделал для науки и империи, а кто он — осознал на старости, отсюда и такое ярое желание соединиться со своим народом хотя бы в виде части праха. Было нечто символическое в нашем предстоящем действе, и сидели мы в машине молча, подбирая место, чтобы виден был оттуда Иерусалим — это входило тоже в просьбу к дочери. На склоне возле могилы пророка Самуила такое место отыскалось. Дочь вынула из сумочки старый школьный пенал, вытрясла оттуда горсть серого праха, и ветер аккуратно унес его, развеивая по пустыне. Так советский физик разделил себя посмертно, чтобы обозначить поровну свою любовь и причастность.
*
- Забавно, как потомки назовут
- загадочность еврейского томления
- - евреи любят землю, где живут,
- ревнивей коренного населения.
*
- Питомцы столетия шумного,
- калечены общей бедой,
- мы дети романа безумного
- России с еврейской ордой.
Что же до воспоминаний о романе, то ничуть мы в этом не уступим тем евреям из Испании, которые наверняка годами разговаривали о своем прекрасном прошлом (как евреи, вышедшие из Египта). Если в эти разговоры вслушаться, то возникает странная миражная картина: вовсе не было в России просто учителей-евреев, просто инженеров-евреев, просто техников-евреев и бухгалтеров-евреев. Были лишь начальники, директора (ну, замы в крайнем случае) — одни лишь командиры и распорядители. И всё было доступно им, и всё они могли достать. Один из этих устных мемуаристов пожевал губами, вкусно вспоминая, что у него было, и блаженно сообщил:
— А какие одеколоны я пил!
И еще об одном романе, суть которого можно вполне выразить известными словами: «Ибо сильна любовь, как смерть». Вот именно: как смерть.
Роман евреев с Германией достиг своего апогея в двадцатых годах XX века. Несколько цифр: в эти годы число смешанных браков с коренным населением достигает сорока пяти процентов. С 1921 года до 1935-го активно действует Союз национал-немецких евреев, выступавший на стороне нацистов, разделяя все ценности этой идеологии (за исключением, естественно, одной — мизерной, в сущности, в результате недоразумения…).
Можно сказать, что евреи в Германии появились раньше самих немцев — в IV веке они пришли сюда вместе с римскими легионерами и прилепились к этой земле. Слепотой, вызванной горячей привязанностью, они страдали издавна. Во время первого Крестового похода французские евреи, ставшие жертвой погромов, предупреждают своих немецких соплеменников об опасности, связанной с продвижением крестоносцев через Германию. «Спасибо, — отвечают немецкие евреи, — но с нами этого не случится». Эту свою глубокую веру они пронесут через века, вплоть до печей Майданека, Треблинки, Освенцима.
Немецкие евреи говорили на своем языке. Этот язык, на котором говорили не только они, но затем евреи всей восточной Европы, отличался от всех других языков, на которых общались евреи Изгнания. И не только тем, что его основой был средневековый немецкий. Он отличался тем, что был единственным, который евреи называли еврейским — идиш. Это удивительный язык, который трогает сердца даже тех, кто, нам подобно, знает на нем полтора-два слова. Как в свое время отметил Ломоносов, у каждого языка есть своя сфера приложения: на испанском с Богом хорошо говорить, на французском — с дамами любезничать, на немецком — ругаться, русский же ко всему пригоден. Поскольку про идиш, равно как про иврит, Ломоносов не написал, то мы хотим дополнить наблюдения мэтра российской науки и словесности. Так вот, иврит, как всем совершенно очевидно, — официальный язык Господа Бога. На нем Он диктовал Моисею заповеди, на нем Он говорил с пророками, на нем поносил сынов Израилевых и порой жалел их. Все это Он делает на иврите. Но смеется и плачет Господь на идише…
Роман, бурно расцветший в XX веке, зарождается в первой половине века XIX. Его приметы изрядно схожи с развитием русского романа. Так, дружок Лессинга (и даже прототип главного героя его пьесы «Натан Мудрый»), знаменитый философ Моисей Мендельсон (дед Феликса Мендельсона, композитора), пеняет королю прусскому Фридриху II за «нелюбовь к немецкому языку».
В XIX веке Гейне из своего парижского далека пишет: «О, Германия, возлюбленная моя недостижимая, моя любовь…» И тяжеловесным эхом звучат в XX веке слова Зигмунда Фрейда: «Все мое либидо принадлежит Австро-Венгрии».
Да, именно в Германии (Австро-Венгрия — часть немецкоязычного мира) были написаны основные главы еврейской истории в Диаспоре. Именно здесь евреи стали европейским народом. И здесь они (чего не было в других местах) участвовали в создании нации, верными сынами которой они себя считали: «Мы немцы Моисеева закона».
XIX век — это обилие еврейских салонов, ставших заметным явлением немецкой культуры. Приведем в пример берлинский салон Рахель Левин. Именно здесь зародился культ Гете. Сюда за честь считали быть приглашенными принцы и дипломаты, поэты и ученые, музыканты и философы. «Великой акушеркой немецкого духа» называли Рахель Левин. И снова эхом в XX веке звучат слова Томаса Манна: «В еврействе я ощущаю тот же самый артистически романтический дух, который составляет суть немецкого духа…»
А что же думает о себе «великая акушерка», к которой с величайшим почтением относятся лучшие люди нации?
А вот что: «Никогда, ни на одну секунду я не забываю этот позор. Я пью его с водой, я пью его с вином, я пью его с воздухом. Еврейство внутри нас должно быть уничтожено. Это святая истина». Хороший стиль был у фройлен.
В своем старании не только казаться, но и быть немкой она была совсем не одинока. Как правило (евреи все-таки народ пассионарный, то бишь страстный, склонный к крайностям), подобное старание часто доводит еврея до антисемитизма.
«Деньги — ревнивый Бог Израиля» — эти слова принадлежат Марксу.
Их там было много — евреев, без которых не только Германия не была бы Германией, но и мир был бы другим: упомянем лишь Фрейда и Эйнштейна.
К концу XIX века евреи селились не только в центральных городах, но и по всей провинции. Как и в России, парод с изрядным недоверием относился к этим людям. Еврейская любовь, как и во всех романах, была односторонней и безответной. Результатом явились разнообразные проекты, поданные по инстанциям. Самый мягкий из них назывался «Проект о переселении этих паразитических растений в Африку».
Первая мировая война стала индикатором патриотических чувств евреев. Самым популярным шлягером этой войны была «Песнь ненависти к Англии». Услышав ее, Чемберлен задумчиво отметил: «Она такая страстная — наверное, ее сочинил еврей». Он не ошибся: автором был еврей Лиссау.
Крупнейшим идеологом антисемитизма, как мы уже упоминали, был Рихард Вагнер. Его книга «Израиль в музыке» начинается дивным пассажем: «В своем труде я хочу отвлечься от мысли, что все мы в равной степени ненавидим евреев, и перейти к их пагубному влиянию в нашей музыке…»
Знаменитый пианист Иосиф Рубинштейн (нет нужды сообщать, что был он евреем) направил Вагнеру письмо, в котором после выражения глубокой солидарности с текстом просил об одной милости: позволению искупить вину за свое еврейство под сенью мэтра. Разрешение было получено. Так и жил Рубинштейн в Байрете. Делал фортепианные транскрипции опер учителя, исполняя их для гостей с присущим ему виртуозным блеском, а когда Вагнер преставился — застрелился на его могиле.
*
- Мне слов ни найти, ни украсть,
- и выразишь ими едва ли
- еврейскую темную страсть
- к тем землям- где нас убивали.
Конец этого романа хорошо известен. Памятником ему служит музей Яд ва-Шем в Иерусалиме. Это гора со множеством деревьев, каждое из которых посажено в честь праведника мира, имя которого написано на табличке, стоящей у корней. Так называют в Израиле людей разных национальностей, которые, рискуя своей жизнью, спасали евреев. В этом музее много всякого. И лабиринт — Долина Исчезнувших общин, и памятник полутора миллионам детей, погибшим в Катастрофе.
В Талмуде сказано, что убивший человека убивает не только его самого, но целый мир. Вот и здесь бесконечно отражается свеча, напоминая о том, что от ее пламени могли бы зажечься еще многие, целые миры, но… и звучат имена и возраст — восемь лет, три года, двенадцать лет… И висит над пропастью товарный вагон, в котором — в условиях намного хуже, чем для скота, — везли евреев на бойню. А еще есть там музей, где собраны работы художников, погибших в гетто и лагерях, и фотографии, и чего там только нет… Главное здание музея, после того как вас проводят через кошмарную историю самой большой в истории человечества гекатомбы, заканчивается обращенной в сторону Иудейских гор гигантской прозрачной стеной, метафорой одинакового финала всех романов. Этот музей надо посетить, даже если вы приехали сюда на пару дней. Без него вам никогда не понять эту страну и этот народ.
Почему же в тридцатых годах, когда все всем было ясно, лишь триста тысяч из полумиллиона немецких евреев оставили страну? Почему не все? Ответ в словах Манеса Спреера: «Я не верил слухам об Освенциме, потому что страшился. Я как смерти боялся разрыва с Германией».
Вот-вот. Страшна любовь, как смерть…
Что же осталось после романа? Остался язык идиш, который все-таки выжил и который пестуют сумасшедшие энтузиасты. В Галилее, в Тефене — Музей немецкого еврейства. Остались люди, которые в третьем поколении считают себя немецкими евреями. И наконец, остался страшный отпечаток в психологии народа, отпечаток, которому еще долго не суждено стереться.
А что же Самсон? Да все то же самое: не мог устоять этот косматый потомок сынов пустыни перед волшебным очарованием заморской принцессы. Перед утонченностью и изысканностью культуры повседневной жизни, перед продуманностью торжественных церемониалов; и безыскусные объятия девушек его племени — разве могли они сравниться с искушенными ласками прекрасных женщин Филистии? И когда однажды здесь, в долине Сорек, он встретил женщину, которую звали Далила, то ничего уже поделать с собой не смог. Она предавала его неоднократно, и он знал об этом, но прощал ей все, ибо любил ее так, как любят люди по-настоящему сильные, — больше себя самого. С помощью Далилы, как известно, филистимляне схватили его, лишенного прежней силы, и выкололи ему глаза. После чего Самсона отвели в Газу (будь она неладна!), где он от молодецкой удали когда-то вырвал и утащил городские ворота. Там он и покончил жизнь самоубийством, прихватив с собою тьму филистимлян. Посещать место, где произошла эта героически-трагическая история, не рекомендуется (сами видите, Газа уже тогда была пакостным местом, а сегодня — еще хуже).
Похоронили Самсона там же, где он родился, — неподалеку от киббуца Цора.
Проезжая мимо киббуца или посетив его для дегустации отменного вина, которым он славен, посмотрите вокруг — на горы, поля, леса… Посмотрели? Так знайте: это было здесь.
Глава 8
Судя по Библии, основным занятием колен Израилевых в период Судей были драки и войны друг с другом. Время от времени их всех вместе и по отдельности трепали филистимляне, но скорее по привычке, чем по нужде, поскольку никакой угрозой они для филистимлян не являлись. Таковым было положение дел до появления на свет человека по имени Самуил. Самуил работал пророком. Пророки были, как правило, плохо одетые люди, типа юродивых, которые народ стыдили, предвещали кары и несчастья, всячески внушали нравственные чувства. Народ их, естественно, не очень любил, но побаивался, ибо Господь возымел привычку говорить через пророков. Впрямую говорить с евреями Он не решался или брезговал. Надо сразу сказать, что, несмотря на непрезентабельный вид и несколько экзальтированное поведение, пророки эти проповедовали довольно дельные вещи, хотя часто неосуществимые, но тут надо сделать скидку — всякого может занести в устном творчестве бог знает куда. А вообще-то… Впрочем, стоит ли говорить о том, что идеи человеческого равенства, идеи социальной справедливости впервые были высказаны здесь, на этой земле, именно этими странными людьми, которых вряд ли допустили бы в приличное общество Лондона, Парижа и Москвы. И столь же зряшно — сокрушаться о том, что идеи эти так и остались идеалами, хотя с тех пор прошло три тысячи лет.
Конечно же, к дельным словам этих людей и тогда никто не прислушивался. Честно говоря, складывается такое впечатление, что наиболее трудной задачей в истории человечества всегда являлась попытка доказать современникам, что дважды два — четыре. А наивных людей, которые упрямо продолжают эти попытки или просто прокламируют эту нехитрую истину, подвергают поношению и надругательству. Это еще в лучшем случае. Когда-то в юности сын одного из авторов написал в школьном сочинении о пьесе Грибоедова: «Людей, которые искренне болеют душой за общество, общество искренне считает душевнобольными». Сформулировано крайне точно. Короче, мы хотим сказать, что если вы вдруг вспомните выражение «Нет пророка в своем отечестве», то имейте в виду: впервые это было замечено именно здесь.
Напомним, что евреи в ту эпоху проводили всё свое свободное время в драках друг с другом и с филистимлянами. И если друг с другом им (по очереди) везло, то с филистимлянами, естественно, — нет. Причем до такой степени, что филистимляне захватили ковчег Завета и утащили к себе в город Ашдод. Но ничего хорошего (для похитителей) из этого не вышло: ковчег стал устраивать филистимлянам жуткие проблемы. Поначалу он изуродовал роскошную статую местного бога Дагона. Довольно диковатое поведение: зачем произведения искусства калечить? Но потом он одумался и прибегнул к более изощренным способам: сперва покрыл кожу бедных аш-додцев «мучительными наростами» (может быть, эти ребята просто перебрали с солнечными ваннами?), после чего произошел настоящий мышиный набег. Суеверные филистимляне отнесли и эту напасть на счет ковчега, а на тех редких здравомыслящих, которые говорили, что не худо бы помойки почистить, махали руками. Короче, на всякий случай ашдодцы отослали ковчег в город Гат, но вместе с ковчегом туда явились и наросты. Жители Гата, недолго думая, переправили проблематичный трофей в Ашкелон.
Здесь мы хотим ненадолго отвлечься от нашего повествования, чтобы сказать пару слов об этом милом приморском городе. Для туриста его основной (помимо пляжей) достопримечательностью является парк, в котором сохранились древние стены города, римская базилика, греческие и римские статуи (точнее — то, что от них осталось), развалины византийского времени. Но главное — в этом парке стоят недавно раскопанные самые древние в мире арочные ворота! Их выстроили ханаанцы в XVIII—XIX веках до н. э. Довольно внушительное сооружение для тех лет и этих мест. Согласитесь, что возможность пройти через самые древние в мире ворота — шанс, который глупо упустить. А теперь вернемся к приключениям ковчега.
Ашкелонцы не обрадовались подарку, потому что вид покрытых наростами жителей двух соседних городов у них никакого энтузиазма не вызывал. Немедленно погрузили они ковчег на телегу, и в такой панике пребывали эти несчастные люди, что вместо лошадей или на худой конец мулов — запрягли коров, которые обреченно потащили телегу на восток. Так ковчег прибыл в город Бейт-Шемеш, где по инерции пригробил еще и пятьдесят тысяч евреев. В общем, приносил он одни несчастья.
Взаимные потасовки продолжались, и народ, уставший от того, что всюду полный беспредел, возопил: «Хотим начальника! И не многих, как судьи и пророки, а одного! Даешь царя!!!» Вот тут на арену и выступает пророк Самуил. Пророк как пророк, только с потомством было у него нехорошо. В том смысле, что детишки на руку были нечисты, то бишь попросту взятки брали, на что народ немедля Самуилу указал: мол, ты пророк и человек приличный, но уже, пардон, в годах. И что же — нами эти отморозки будут управлять после тебя? Не согласные мы. И снова завели свою песню: «Хотим царя. Как у других».
Деваться Самуилу стало некуда, ибо народу отказать было нельзя. В поисках подходящей кандидатуры Самуил повел себя, как опытный политтехнолог эпохи развитых видеокоммуникаций: главное — это хорошие внешние данные и фотогеничность. Руководствуясь этим, Самуил обозрел родной народ и обнаружил парня по имени Саул, который мало того, что был красавчик, просто вылитый Ален Делон, но еще — «был выше всего народа». То, что происходил парнишка из захудалого колена Вениамина, пророка не смутило: это даже демократично. «Cheese!» — крикнул он парню, и, когда убедился, что зубы у него здоровые, судьба бедного Саула была решена. Так абсолютно неожиданно для себя самого и безо всякого на то желания стал Саул царем.
А теперь поставьте себя на его место: живете вы тихо-мирно, никому не мешаете, занимаетесь сельским хозяйством, животноводством, навоз таскаете, и вдруг — трах-тарарах — из грязи в князи. И это при полном отсутствии знаний в области систем управления, экономики, геополитики и всего такого прочего. И разумеется, при наличии целой кучи завистников и просто искренне недоумевающих граждан: ну почему именно он?
Другой на его месте растерялся бы или в целях упрочения авторитета пригробил пару сотен людишек, но Саул повел себя в высшей степени достойно. Тех, кто на него губой тряс, он не только не тронул, но, что интересно, и другим не дал. А затем быстренько стал сооружать армию. Поначалу он надавал по шее аммонитянам и, войдя во вкус, обрушился на филистимлян. Первую свою победу он разделил с сыном своим Ионафаном, и случилось это к северу от иерусалимского квартала Неве-Яаков. Сам же царь продолжал жить в родной деревушке Гива. Гива на иврите значит «холм», и холм этот до сих пор стоит, как и стоял. Только теперь там живут арабы, не имеющие никакого сентимента к еврейской истории. Те исторические камни, которые там когда-то были, они растащили для собственных нужд, поэтому смотреть там совершенно нечего, разве что недостроенную (из-за отхода территории к Израилю в результате Шестидневной войны) виллу иорданского короля Хусейна, торчащую на самой вершине холма, на том самом месте, где, вполне возможно, стоял домик царя Саула. Впрочем, ее тоже смотреть ни к чему — каркас, он и есть каркас, и его вполне видно с дороги в Неве-Яаков по левую сторону. А если ехать обратно, то по правую.
Успехи еще никому большой любви не приносили. А точнее — те, кто любил, тот и продолжает любить, несмотря на эти успехи, а те, кто недолюбливал, тот и продолжает недолюбливать, только еще сильнее. В этом, разумеется, ничего нового нет. Печально только, что к недовольной публике присоединился пророк Самуил. По-человечески понять старика можно: дети, какие ни есть, а все же своя кровь, но их на царство возвести не удалось. Опять же раньше сам командовал, а теперь другой, и, что всего обиднее, сам же его назначил. И царствует как-то странно — к людям прислушивается: «Я боялся народа и послушал голоса их» — надо же, какой демократ.
Короче, поговорив с Богом и получив Его одобрение (подтвердить некому и приходится верить на слово), он стал под Саула копать и втихаря подыскивать новую кандидатуру. На наш вкус, не очень это красиво, но из истории слово не выкинешь (без того, чтобы вставить другое или два)… Естественно, новая кандидатура должна была быть во всем противоположна предыдущей — так оно и произошло. Во-первых, парнишка был совсем молоденький, малорослый, седьмой сын из захудалого семейства. (Это наводит на мысль, что Самуил, скорее всего, рассчитывал мальчишкой управлять.) Зато был он, как сказано, смазливый блондин, рыжеватого оттенка, с красивыми глазами. Семейка жила неподалеку, в Вифлееме. С бабкой этого парнишки произошла трогательная история, описанная в библейской Книге Руфи. Мы эту историю пересказывать не будем, кто хочет — пусть сам читает, а поля, где эта самая Руфь сыскала свое счастье, — вот они! — если смотреть из Иерусалимского района Гило на восток, то впереди и справа. А еще надо заметить, что Руфь эта была моавитянка, то бишь и не еврейка вовсе, и слава богу, что родился ее внучек в те далекие смутные времена, потому что сегодня у него, по причине такой бабки, столько проблем с раввинатом было бы, что ни о каком царстве и речи быть бы не могло, а тогда — пожалуйста. Короче, Самуил втихаря помазал отрока елеем, после чего умер. Не сразу, но умер. Похоронен он в своей гробнице на холме у шоссе напротив Гиват-Зеэва. Именно с этого места впервые увидели Иерусалим крестоносцы и назвали его горой Радости.
Именно тут заслонил рукой глаза Ричард Львиное Сердце, ибо поклялся не видеть Иерусалим, если не сможет его взять.
Да, мы совсем забыли сказать, что отрока звали Давид. Мы ничуть не сомневаемся, что вы и сами давно догадались (наши книги читают люди исключительно интеллигентные и образованные, которым они, собственно, и на фиг не нужны), так что имя его мы сообщаем больше для порядка.
Меж тем царь Саул впал в депрессию. Конечно, на это у него хватало причин, но судя по всему, в данном конкретном случае депрессия была результатом безобразного состояния дворцовой музыкальной команды. Стыдно сказать, но играли они так бездарно и фальшиво, что царь не выдержал и возопил: «Найдите мне человека, ХОРОШО играющего, и представьте его ко мне!» И таким человеком оказался именно Давид. В результате он стал царским любимчиком и оруженосцем. Эту поучительную историю необходимо рассказывать всем детям, которых мучают фортепиано, скрипкой и другими пыточными инструментами. «Играй, мерзавец, гамму, играй, может, царем станешь!» Но это мы отвлеклись. А тут как раз филистимляне очухались и захотели реванша, поскольку у них обнаружилось новое секретное оружие. Этим оружием был великан Голиаф — страховидное существо неимоверных размеров и силы.
Итак, сошлись армии в долине Ха-Эла, где проходит шоссе из Бейт-Шемеша в сторону КирьятТата, неподалеку от бензоколонки. Если смотреть на запад, то слева будет местечко Ли-Он, где живут наши друзья, чудные люди Женя и Арье Гилат (их зять, живущий там же, выращивает органически чистые овощи и готовит дивные маслины), а справа — горка, где как раз был лагерь и силач Голиаф с нетерпением ждал битвы. Итак, все приготовились к сражению, и тут филистимляне говорят: «Зачем проливать лишнюю кровь, мы все-таки с вами не в темном Средневековье живем: давайте выставим по одному человеку. Наш победит — вы наши рабы, ваш — мы ваши».
Ударили по рукам. И тут вышел Голиаф. Сорок дней не могли израильтяне найти подходящего соперника, и сорок дней «выступал филистимлянин тот утром и вечером и выставлял себя». А на сорок первый появился Давид (он до этого, поскольку старшие братья были призваны в армию, вернулся домой следить за хозяйством). И опять Саул проявил себя человеком. «Мал ты, — говорит, — куда тебе с таким чудищем тягаться?» Но Давид исхитрился уболтать царя. Такая способность убалтывать называется красноречием, а этого дара у Давида было в избытке. В дальнейшем он употребил свой талант на сочинение псалмов, которые вот уже три тысячи лет неизменно входят в список литературных бестселлеров.
Саул, добрая душа, еще свои доспехи предложил Давиду, но тот разумно от них отказался (больно велики ему они были). Обменявшись с Голиафом теплыми приветствиями, Давид метко запустил сопернику камнем в лоб, и на том дело было кончено.
И это было здесь! А место это называется Хурват-Ха-нот, и есть в нем множество всякого интересного, а в том числе — и могилка бедного Голиафа.
Карьера Давида пошла в гору. Саул, разглядев помимо музыкальных и другие незаурядные таланты юноши, определил его в генералы. Давид не посрамил доверия и частенько радовал царя обрезками крайней плоти врагов. Сегодня крайняя плоть обрезанных младенцев используется для изготовления какого-то лекарства (так мы слышали), а в те времена ей вообще никакого употребления не было. Но был обычай в доказательство победы приносить головы убитых врагов. Этот странный и непонятный отход Давида от традиций легко объясняется его юными годами и хрупким сложением: обрезки крайней плоти таскать, конечно же, легче, чем головы. Короче, все шло как нельзя лучше: карьера, с царским сыном Ионафаном закадычные дружки, и как венец всему — женитьба на царской дочери Мелхоле, по-простому Михаль, и в довершение — дикая популярность в народе. Вот она-то все и сгубила. Царь взревновал. И по-человечески его понять можно. Здесь вообще такая страна, что всех понять можно, поскольку каждый по-своему прав. Как говорится в старом еврейском анекдоте про раввина, к которому обратились двое тяжущихся. Выслушал раввин первого и говорит: «Ты прав». А потом выслушал второго и говорит ему: «И ты прав». — «Но, ребе, — вмешалась жена раввина, — не может быть, чтобы они оба были правы». — «О, — сказал раввин, — и ты права!» Вот такое — отчаянное, можно сказать — положение, и длится оно уже три тысячи лет с гаком. Короче, Саул решил от Давида избавиться. Саул! Такой замечательный, славный человек, а вот и его не миновал неизбежный закон: нет власти без, как это говорится, необоснованных репрессий, вопрос только в количестве жертв. А что первые кандидаты для репрессий — это наиболее близкие, так это и кошке понятно. Когда же сын Ионафан пытался урезонить папашу, тот в него метнул копье и хорошо, что промахнулся, иначе знаменитая картина Репина «Иван Грозный убивает своего сына» называлась бы по-другому.
*
- Опрос общественного мнения,
- весьма стихиям соприродного,
- всегда родит во мне сомнения
- в достоинствах ума народного.
*
- Печально, если правы те пророки,
- слепые к переменным временам,
- которые все прошлые уроки
- и в будущем предсказывают нам.
Давид, видя, что ему ничего не светит, или, наоборот, хорошо видя, что именно ему светит, сделал ноги, и прибились к нему разные люди числом до четырехсот человек. Не в состоянии поймать Давида, Саул начал крушить все подряд.
Давид меж тем стал разговаривать с Господом, а Тот ему отвечал. Это было началом долгого и плодотворного диалога. А сейчас мы отправимся в оазис Эйн-Геди на берегу Мертвого моря, но прежде чем рассказывать о том, как, почему и что произошло в Эйн-Геди, скажем несколько слов о самом Мертвом море.
Глава 9
Прежде всего, Мертвое море — это действительно единственное мертвое море в мире, хотя если подумать об экологии на планете Земля, то быть ему единственным осталось совсем недолго. Расположено оно в самом низком месте земного шара, на четыреста семнадцать метров ниже уровня любого обычного моря (имеется в виду еще полуживое Средиземное и остальные). А поскольку оно мелеет, опускаясь, то с каждым годом бьет свой собственный рекорд. Мертвым оно называется потому, что никто в нем не живет. Есть только в устье Иордана два типа архибактерий, сохранившихся со времен зарождения жизни на Земле, а в ручейках, которые впадают в него, водятся лишь мелкие рыбешки, слепые от рождения. Потому что разных солей здесь — аж тридцать процентов (отсюда на иврите это Соленое море).
Римляне называли Мертвое море Асфальтовым озером, и это справедливо. Набатеи продавали асфальт, сиречь битум (он же — смола), египтянам для бальзама, которым начиняли мумии. Помимо асфальта и соли в нем уймища невероятно полезных минералов, отчего вода здесь тяжелая и маслянистая.
Соответственно известным сказочным архетипам мертвая вода является целебной, а может быть — наоборот: архетипы появились оттого, что вода в Мертвом море целебная. Так или иначе, но стоит вам зайти в это море, как любая кожная пакость или царапина заживает чуть не прямо на глазах. Даже псориаз, и тот не в силах устоять перед этой водой — правда, чтобы он потускнел, надо окунать свое тело в эти воды не один раз, а несколько. Кроме того, здесь полно целебной грязи, а также не менее целебных серных источников. Не исключено, что они образовались в момент уничтожения Содома и Гоморры, ибо именно серу широко использовал Господь в ходе этой карательной операции. Сюда приезжали лечиться и царь Соломон, и Ирод, и Клеопатра, которая на основе воды Мертвого моря делала свой знаменитый бальзам красоты. Ее дело продолжили израильские косметические компании. Сегодня для граждан, желающих сделать свою кожу бархатистой, шелковистой и так далее, существуют водно-грязевые заведения, принадлежащие киббуцу Эйн-Геди, а также разные лечебные кабинеты в отелях, расположенных на берегу в южной части моря.
Для того чтобы утонуть в Мертвом море, необходимо приложить огромные, нечеловеческие старания, поэтому в нем никто не тонет. Что же касается плавания, то оно возможно, но весьма нестандартным способом: либо стоя, либо сидя. Заходить в воду рекомендуется осторожно (не дай бог, чтобы вода попала в глаза — вспомните рыбешек), а затем надо сесть и, подгребая руками, двигаться в любом направлении спиной вперед. Выйдя из воды, необходимо встать под душ с пресной водой, иначе кожа покроется слоем соли.
Состояние души на Мертвом море — блаженное и умиротворенное. Причиной тому является не столько экзотика и красота окружающего пейзажа (розовые, фиолетовые, голубые и коричневые горы, синее небо), сколько испарения брома, которые человек невольно вдыхает. А брома здесь — почти что половина всего мирового запаса. От брома, как известно, успокаиваются и нервы, и все остальное. (По счастью, не навсегда, так что бояться не надо.) В двадцатых годах прошлого века явился на берега Мертвого моря бывший российский эсер Мойша Новомейский. Родился он в Сибири, диплом горного инженера получил в Германии, в горной академии Клоустале, а в 1905 году посидел, как и положено, в тюрьме. Когда же стало ясно, что большевики победили, уехал в Эрец-Исраэль и здесь в 1929 году выбил концессию на добычу брома и поташа на Мертвом море. Здесь в жуткой жаре, в условиях немыслимых он создал ныне знаменитые заводы Мертвого моря.
*
- Хотя исход у всех – летальный,
- и не бывает исключений,
- однако этот путь фатальный
- прекрасен массой приключений.
(Мы хотим заметить в скобках, что если бы неисчислимые евреи — всякие меньшевики, эсеры и эсдеки, анархисты, монархисты, большевики и кадеты — потратили свою бешеную энергию столь же толково, как Мойша Абрамович Новомейский, то намного больше пользы принесли б они и всему человечеству, и собственному народу.)
Именно на этих заводах работал наш друг Илья Войтовецкий, человек во всех отношениях выдающийся, и именно здесь он встретил Шломо Дрори, чья история (которую Илья нам рассказал) заслуживает того, чтобы быть услышанной. У нее, этой истории, как и у любой другой, много начал. Словно капилляры, они образуют мелкие сосуды, которые в свою очередь впадают в сосуды побольше, и наконец, большие присоединяются к артерии, по которой бежит живая кровь рассказа. Мы начнем ее с того момента, когда в славном городе Вене, в семье выходцев из Польши родился мальчик. Имя ему было Соломон, или Шломо, а фамилия — Дойчер.
Жили они себе, поживали, мальчик оказался к музыке способный, но случилось тут вторжение нацистов. Стало очевидным, что не только музыкальная карьера не светит еврейскому юноше, но и вообще ничего не светит. И Шломо вместе с братом и еще несколькими приятелями одной темной ночью украли некое суденышко, спустились по Дунаю до Черного моря, а оттуда — в Средиземное и спустя некоторое время вышли на берег земли Израиля.
А вскорости началась Вторая мировая война, и Шломо вступил в ополчение, из которого потом в рамках Британских вооруженных сил была организована Еврейская бригада. Однажды (это было в Хайфе) назначили Шломо в ночной караул. Особо охранять было нечего, и Шломо в нарушение армейского устава открыл взятую у сослуживца тонкую книжечку. Это оказались стихи неизвестного ему русского поэта Константина Симонова в переводах Авраама Шленского. И вот, когда дошел он до стихотворения «Жди меня», случилось с ним то, что так замечательно описано в новелле Стефана Цвейга «Гений одной ночи». (Кстати, и сам Цвейг в это время мыкался в Палестине, а затем уехал в Бразилию, где вскоре совершил самоубийство, не выдержав крушения любимого и единственно возможного для него мира.) Музыка родилась сама, без всякого участия Шломо Дойчера, он просто услыхал ее, а наутро пропел своему сослуживцу, профессиональному музыканту, который записал мелодию и сделал аранжировку. Через месяц песня стала народной, а сам Шломо попал в армейский музыкальный ансамбль, где благодаря своему красивому сильному тенору стал солистом. И естественно, коронным его номером была любимая всеми «Жди меня».
А в Европе… да, собственно, все знают, что в это время творилось в Европе. Отец Шломо был убит. Мать ухитрилась добраться до Италии, где ее спрятали монахини в своем монастыре, а когда линия фронта приблизилась, справили ей фальшивые документы, и вот так, выдавая себя за итальянку, удалось ей эту линию перейти. Было это осенью 1944-го. Нищая, голодная, одинокая, пришла она в римскую синагогу в день, который зовется Судным днем и в который решается наверху судьба каждого из нас, жить ему или умереть, и вообще — все, что случится с человеком в этот год. Она стояла в синагоге и плакала, потому что слов у нее никаких не было, а слезы пока еще были. И тогда подошел к ней человек в форме майора американской армии и сказал на языке идиш: «Не плачь, Бог обязательно поможет». Но она только плакала. И снова сказал человек: «Не плачь».— «Как же мне не плакать? — сказала женщина. — Муж мой убит, а что с детьми — неведомо». — «Бог поможет», — сказал офицер и, чтобы отвлечь ее, стал расспрашивать, откуда она. Женщина назвала ему местечко в Польше, откуда была родом. «А муж твой откуда?» И женщина назвала местечко, откуда родом был ее муж. «А как звали твоего мужа?» И когда женщина ответила, воскликнул майор: «Велик Господь, это ведь мой дядя!»
Честно говоря, мы не знаем, правда ли он был племянником того несчастного или просто хорошим человеком, но как бы то ни было, устроил он эту женщину на жилье, накормил ее, и тогда она взмолилась: «Найди моих детей. Если живы они, то наверняка в армии, ибо так я их воспитала». И стал майор наводить справки. А в это время Еврейская бригада воевала в Италии. И то ли счастье улыбнулось майору, то ли впрямь Господь вмешался, но узнал майор, что оба ее сына здесь, в Италии, а один — в ансамбле, который завтра будет давать концерт для солдат в городе Бари. Вот и повез он ее, ничего не говоря, в город Бари. И когда готовились артисты к выступлению, то вошел в комнату солдат и говорит: «Кто здесь Дойчер?» И сказал Шломо Дойчер: «Я». — «Там твоя мать», — сказал солдат, а Шломо сказал: «Как так?» И сказал солдат: «Не знаю. Там она, а с ней какие-то офицеры и наш командующий». И сказала тогда Хана Марон, в будущем знаменитая израильская актриса, а тогда девушка из фронтового ансамбля: «Ее надо подготовить. Мы войдем все по очереди, а ты последний». И так они решили. И еще они решили, что ни в коем случае он, Шломо, не должен плакать. Потому что он гордый солдат Еврейской бригады и вообще… Вот так они решили и стали выходить по одному, а последним — Шломо. И мать его не узнала. И подошел Шломо к ней и сказал только одно слово: «Мама». И все заплакали. И она. И Шломо. И члены ансамбля. И офицеры. И командующий. И тогда взял командующий женщину под руку и повел в зал, где сидели солдаты, а Шломо ушел за сцену, потому что ему надо было выступать. И поднялся командующий на сцену и сказал: «Ша! Велик Господь! Сейчас выйдет на сцену солдат Шломо Дойчер и споет песню, которую он написал специально для своей мамы». Но когда вышел на сцену Шломо Дойчер, то перехватило у него дыхание, потому что подумал он: «Вот, встречу с матерью я начинаю с вранья». И он бросился со сцены за кулисы. Но все это поняли по-другому и стали дружно аплодировать…
В Милане, в театре Ла Скала, послушав Шломо и восхитившись его голосом, предложили ему ангажемент.
«Какова мечта ваша?» — спросил его дирижер, ожидая услышать: роль Каварадосси, Герцога, Рудольфа. Но услышал он совсем неожиданное: «Быть крестьянином на земле Израиля». Как известно, далеко не всякая мечта исполняется.
*
- Сквозь бытия необратимость
- евреев движет вдоль столетий
- их кроткая неукротимость
- в упрямстве выжить на планете.
*
- Нельзя, когда в душе разброд,
- чтоб дух темнел и чах,
- не должен быть уныл народ,
- который жгли в печах.
Не исполнилась и эта, но вполне возможно, что и было это ценой за встречу в городе Бари. Впрочем, Шломо Дойчер, ставший Шломо Дрори, не жаловался и вполне был доволен службой на этих самых заводах Мертвого моря. Вот такая удивительная история.
А чудеса, связанные с песней «Жди меня», сочиненной знаменитым русским поэтом и работником заводов Мертвого моря, продолжали случаться, и мы расскажем еще об одном. Это произошло в страшную Войну Судного дня, когда постучали в дверь молодой женщине люди в военной форме и сказали: «Твой муж погиб. Его самолет сбит. Но поскольку тела не нашли, то, пока не отыщут хоть что-нибудь от него, считаться он будет пропавшим без вести. Но знай, его нету среди живых, и мы приносим тебе искренние соболезнования».
Страшная эта весть почти убила женщину, но ей надо было жить, ибо внутри ее зрело и росло дитя погибшего пилота. И вот, включив радио в перерыве между страшными новостями той войны, она услышала песню «Жди меня». И она стала ждать. Люди говорили ей: «Отсиди по нему траурную неделю — он погиб», — но она упрямо качала головой. И только звонила в армию: может, нашли шлем, часы, хоть что-нибудь. И когда отвечали ей, что нет, говорила она: пока не найдут — не верю. Но как-то позвонила ей из Австралии тетя погибшего мужа и сказала: «Мы видели в новостях, как из сбитого "Фантома" катапультировались два летчика, и один из них — он!» А когда прислали ей запись, то увидела она два расплывчатых черных пятна и показала это сослуживцам по эскадрилье, и они сказали: «Не он». (И таки не он это был.) «Низко взорвался самолет, — сказали они. — Не было у летчиков шансов. Не мучь себя». Но она упрямо качала головой и слушала песню «Жди меня».
Прошло пять месяцев, и у нее родился мальчик, которого она назвала Дрором. И прошел еще месяц. «Не сходи с ума», — говорили друзья. Но она качала головой. А еще через две недели вышла она купить газету и на первой странице увидела фотографию, сделанную корреспондентом французского журнала «Пари-матч»: ему сирийцы позволили снять нескольких пленных, которые поприличнее выглядели. «Вот он!» — воскликнула она, но все друзья и родственники сказали: это не он. Но еще через два месяца постучали в дверь представители Красного Креста, и лица у них были совсем не такие, как у тех усталых и небритых людей в военной форме восемь месяцев назад…
- Как я выжил, будем знать
- Только мы с тобой, —
- Просто ты умела ждать,
- Как никто другой.
Глава 10
Так чем же все-таки знаменит оазис Эйн-Геди и что в нем произошло? Ну, прежде всего, это оазис. То есть кругом пустыня, а тут — райский сад и даже с водопадом. Честно говоря — не Ниагара, но все-таки.
И для начала — грех не рассказать одну прекрасную историю. Израильтянам свойственна любовь к животным (правда, из числа поклонников фауны следует исключить ортодоксальных евреев, которых даже кошка, не говоря о собаке, повергает в мистический ужас). Так вот, в районе Мертвого моря, в оазисе Эйн-Геди водятся леопарды. Когда-то, во времена оны, они встречались на каждом шагу, а теперь их менее десятка.
При входе в заповедник — большой щит. Суровое предупреждение о том, какие кары ожидают человека, мешающего мирной жизни леопарда, заканчивается призывом не приближаться к милой зверюшке, дабы не повредить ее самочувствию. Что делать, если леопард выразит намерение познакомиться с вами поближе, не сказано. И справедливо: в конце концов, законом охраняется леопард, а не вы. Да что там! В какой еще стране, скажите вы нам, сводки новостей открывались бы сообщениями о случке животных? А в Израиле это было. Лет этак двадцать пять назад, в семь утра мы услышали, что Александр Яннай трахнул Шломцион (леопардам дают имена исторические) по первому разу. Радовались мужчины и женщины — у нас будут юные леопардики. Однако радость эта обернулась неслыханным унижением мужского населения страны Израиля. Ибо каждый час сводки открывались все тем же сообщением — менялось лишь число: тридцать, пятьдесят, сто пятьдесят… И с каждой такой новостью головы мужчин клонились все ниже и ниже. Как реагировали на это женщины, нам не известно. Успокоился этот Казакова к полудню на триста семьдесят четвертом заходе.
Когда-то здесь обитали ессеи (секта живших обособленно от общества), во времена римлян стояла первая фракийская когорта Десятого легиона, скрывались тут повстанцы Бар-Кохбы, но самое главное — именно здесь, «в безопасных местах Эйн-Геди», если забраться наверх и пойти к истокам водопада, прятался от царского гнева Давид.
Посмотрите на эти пещеры, и пусть вам сердце подскажет, в какую именно из них «зашел Саул для нужды» (Библия, в отличие от прочих эпосов, либерально относится к физиологическим потребностям человека). А в этой пещере как раз и скрывался Давид со своей командой. Покуда царь тужился, дружки стали подбивать Давида: мол, давай кончай гада! Но хоть и много чего было в Давиде накручено — в том числе водились и весьма порочные наклонности, — но подлости в нем не было. Убить со спины, да еще при акте дефекации? Нет. Хочется думать, что помимо просто человеческой порядочности в Давиде также были чисто эстетические задатки, не позволявшие ему убить царя в подобных обстоятельствах. Поэтому все, что сделал Давид, — это отрезал у царя «край одежды». Тот факт, что Саул не обратил на это никакого внимания, скорее всего, свидетельствует о том, что… — нет, мы не будем говорить о чем. В конце концов, мы пишем не учебник по физиологии! Одним словом, когда Саул закончил то, что начал, и вышел из пещеры, тогда только вышел из пещеры и Давид, помахивая куском ткани, и произнес трогательную речь.
Как мы уже говорили, Давид был одним из лучших краснобаев Древнего мира, так что не удивительно, что Саул устыдился и расплакался, пообещав больше так не поступать, но на всякий случай и с Давида взял клятву не делать ему пакостей. Итак, Саул отправился восвояси, а Давид промышлял для пропитания мелким рэкетом. Да-да, из песни, как говорится, слова не выкинешь…
*
- Еврейского характера загадочность
- не гений совместила со злодейством,
- а жертвенно-кристальную порядочность
- с таким же неуемным прохиндейством.
Впрочем, идиллия эта длилась недолго, и Саул опять стал гоняться за Давидом — и опять история повторилась. На этот раз проворный Давид стащил у спящего царя копье и «сосуд с водой». (Уже в древности было известно, что здесь надо всюду таскать с собой бутылочку с водой и пить, даже если не хочется.) И опять Давид обратился к царю, и снова (честно говоря, в хорошей литературе такой повтор недопустим, что доказывает подлинность Библии) царь устыдился и обещал, что больше не будет.
Оставив царя метаться между угрызениями совести и манией преследования, Давид — жить-то надо — поступил на службу к филистимлянам. Хорошего тут мало, только в жизни всякое бывает, в том числе — и некрасивые поступки. Так прошло полтора года. И филистимляне решили, что расправиться с Саулом, которого покинул Давид, будет для них пара пустяков. Положение Давида в этой ситуации было весьма двусмысленным. Но тут ему повезло. Хотя царь Гата, у которого Давид был вассалом, полностью ему доверял, остальные филистимлянские князья воспротивились участию Давида в этой кампании. Таким образом, Давид был избавлен от возникшей было нравственной проблемы.
Перед битвой царь Саул обратился к Андорской волшебнице с просьбой вызвать для совета тень пророка Самуила. Тень явилась и с удовольствием свела старые счеты, злорадно сообщив царю, что не только победы ему не видать как своих ушей, но и сам он погибнет, и сыновья его, и войско его. И вот тут мы в последний раз с уважением и глубокой симпатией обратим взор на первого еврейского царя. Да, он явно страдал и маниакально-депрессивным психозом, и всем тем, чем обычно страдают цари, тираны и более мелкие сошки, чьей мечтой и целью жизни является власть. Но он-то, простой пастух, этой власти не искал! Ему ее навязали! И не вина его, а лишь беда его, что пагубные хворости властителей Саула не миновали.
*
- У смерти очень длинная рука,
- и часто нас костлявая паскуда
- предательски разит издалека,
- внезапно и как будто ниоткуда.
Выслушав пророка, Саул не бежал, не искал спасения. Зная, чем для него битва закончится, он в последний раз в своей жизни, скомандовал своим солдатам «За мной!» (ибо нет в израильской армии приказа «Вперед!», а есть только «За мной!»), и хочется думать, что произнес он это со спокойной душой. Скорее всего — даже с облегчением, поскольку знал, что в этот день его тяжелая миссия пришла к концу. Битва происходила на горе Гильбоа, которая находится как раз между городами Бейт-Шеаном — или, как его в старину называли, Скитополисом — и Афулой.
Города Афула и Бейт-Шеан внимания никакого не заслуживают, а Скитополис — наоборот. До того как стать Скитополисом, он звался Бейт-Шеаном, как и сейчас, и именно на его стенах после гибели на горе Гильбоа были выставлены тела царя Саула и его сыновей. Кроме этого, он знаменит тем, что здесь снимался фильм «Иисус Христос — суперстар». Город этот основал фараон Тутмос III. Сегодня большая часть города раскопана и являет собой зрелище весьма впечатляющее. Здесь обнаружили много изумительных мозаик, часть из которых находится в Музее Израиля в Иерусалиме. Есть там и амфитеатр на десять тысяч человек, и театр, и бани, и фонтан, так что любителям древности — это лакомый кусочек. Здесь даже можно посидеть в античном сортире! Кроме того, там по ночам устраивают ошеломительные цветосветомузыкальные действа — куда там Голливуду!
Что же до горы Гильбоа, то она от горя и стыда за то, что ей пришлось стать местом гибели несчастного царя с потомством, облысела. Такое бывает с горами тонкой душевной конституции. Вот так: взяла и облысела. Зато от этого потрясения на ней выросли черные ирисы, которые растут и цветут только на ней, а больше нигде, и ранней весной это удивительное растение может наблюдать всякий желающий, и вы в том числе, совершенно бесплатно. По прошествии многих-многих сотен лет и при заботливом участии еврейских земледельцев гора Гильбоа все-таки стала опять покрываться растительностью и обросла, как в стародавние времена, но кой-какие проплешины все-таки остались.
Давид, очень переживая гибель Саула и своего любимого друга Ионафана, сочинил по этому поводу несколько трогательных строк. Затем, оставив филистимлян, увел своих ребят в город Хеврон, в землю его родного колена Иегуды (где пещера, в которой похоронены патриархи и праматери), и стал царствовать.
В то же время выживший сын Саула Иевофсей царствовал над остальным Израилем. И в результате этой ситуации случилась довольно долгая вялотекущая война со многими жертвами, в том числе — и самим Иевофсеем, и многими выдающимися людьми того времени. Все они погибли разнообразными смертями, и царь Давид каждого оплакал в трогательных стихах, исполненных высокого поэтического достоинства. Когда наконец всех поубивали и родник, питавший литературные таланты Давида, временно иссяк, то все колена (за неимением другой кандидатуры) присягнули Давиду. И поскольку стал теперь Давид не просто вождем одного колена, а всеизраильским царем, то, дабы избежать упрека в поблажке собственному племени, решил он перенести столицу из родимого Хеврона в нейтральное место. Оно нашлось на границе между территориями колена Иегуды и колена Вениамина. Маленький занюханный городишко, стоявший на водоразделе на краю пустыни. Зато в центре страны, как раз на пересечении различных торговых путей. Правда, небольшая закавыка там все же была, ибо жили в этом городе иевусеи — народец такой. И поскольку добровольно свой город они покидать не хотели, а другого подходящего места для столицы не было и не предвиделось, то у царя Давида не оставалось никакого другого выхода, как этот город захватить. Что он и сделал. И город этот назывался — Иерусалим,
Глава 11
Много лет тому назад одному из авторов этой книги довелось побывать в Сантьяго-де-Компостелла — старинном испанском городе, где в кафедральном соборе похоронен покровитель Испании — древний еврей Иаков, которого испанцы зовут Сантьяго. Город этот был на протяжении многих сотен лет целью паломничества, и не большим преувеличением будет сказать, что строилась Европа вдоль путей, ведущих к Сантьяго. Помимо желания увидеть этот город свирепого барокко и собор, своей избыточной пластикой напоминающий индийские храмы, автора влекло желание купить там шляпу. Собственно, шляпа паломника с прикрепленной к ней раковиной (во Франции этих моллюсков называют Сен-Жак, что по-французски опять же святой Иаков) у него уже имелась, но рогатой галицийской шляпы еще не было. И заскочил он в магазин, где, выбрав дивную шляпу, подошел к хозяину заведения — вальяжному галисийцу со слегка брезгливым выражением лица. Заворачивая покупку, продавец скользнул по очередному покупателю скучающим взглядом и пробормотал: «Сеньор из Лондона?» Поводом для этого предположения послужила, очевидно, майка с надписью «SASHA LONDON». «Нет, — вежливо ответил покупатель продавцу, — сеньор из Иерусалима». — «Из Иерусалима?» Брезгливость, скука — все это в мгновение ока соскочило с галисийца. Он низко поклонился и с великим уважением произнес: «О, сеньор, в мире есть только три истинно великих города: Иерусалим, Рим и Сантьяго-де-Компостелла!»
Во Флоренции в церкви Святой Аннунциаты находится знаменитый Corto del Morte — дворик мертвых, где похоронены величайшие художники этого города — такие как Понтормо, Бенвенуто Челлини, Андреа дель Сарто, Бронзино… Природная любознательность, склонность к изящным искусствам, а также свойственная тому же автору любовь к кладбищам привели его в это редко посещаемое туристами место. Однако дворик оказался закрыт. Выяснилось, что открывают его всего лишь раз в году, когда служат заупокойную мессу по похороненным там мастерам. Немного поколебавшись, он решился подойти к священнику: «Падре, я художник. Из Иерусалима. Я хотел бы прочитать заупокойную молитву по своим флорентийским коллегам». — «Из Иерусалима?!» И священник лично проводил путника в затворенное место.
*
- Пришел в итоге путь мой грустный,
- кривой и непринципиальный
- в великий город захолустный,
- планеты центр провинциальный.
Волшебное слово «Иерусалим» бесчисленное количество раз открывало нам наглухо, казалось бы, запечатанные двери. И нет, наверное, человека на земле, у которого при звуках этого слова не шевельнулось бы в душе нечто особенное, что связано с этим городом, вне зависимости от того, бывал он там или нет.
Иерусалим располагается в Иудейских горах — там, где они начинают свой спуск к Иудейской пустыне и Мертвому морю. И хотя летом здесь достаточно жарко, а по весне и осенью песчаный ветер хамсин укутывает город плотной и душной белесой вуалью, можно сказать, что климат здесь почти идеальный, ибо, как бы ни было жарко днем, к вечеру температура падает, и ночная прохлада смывает накопившуюся за день усталость. К вечеру, словно возвращая собранный за часы палящего зноя свет, начинают светиться дома, выстроенные из иерусалимского камня — мраморизованного известняка, и мягкое золотое сияние раскинувшегося на холмах города представляет собой зрелище ни с чем не сравнимое. Зимы здесь дождливые, и дождь идет не только сверху, откуда ему положено идти, но совершенно со всех сторон и даже снизу. Этому феномену никакого научного объяснения до сих пор найти не удалось. Порой выпадает снег, и тогда вся жизнь в городе останавливается до той поры, пока снег не стает. А по утрам можно видеть, как по долинам наподобие кавалерийских манипул, ал, эскадронов — здесь все побывали — неудержимо несутся облака, а над ними сияют, словно стоящие на облаках, дома на вершинах холмов, и тогда Иерусалим небесный становится не метафорой, а самой что ни на есть реальностью.
Иерусалим — город многоликий, он чем-то похож на луковицу, у которой бесчисленное количество шелухи, и, сколько бы ты слой за слоем ни снимал, до самой луковицы добраться не суждено.
Собственно, если трезво посмотреть на этот город, то надо будет признать, что в смысле красоты ему не под силу тягаться с такими городами, как Рим, Венеция, Париж, Прага… Да чего уж там, Сеговия, Сиена, Каркасон, Толедо, Верона — все они обладают архитектурными достоинствами много выше иерусалимских, как в смысле ансамбля, так и по качеству отдельных зданий. Даже наиболее выдающееся сооружение — Купол-на-Скале (еще его называют мечетью Омара) — не в состоянии состязаться ни с Василием Блаженным, ни с Пантеоном, ни с Шартрским собором.
И в смысле напряжения жизни, свойственного столичным городам, Иерусалим никак нельзя сравнить с такими городами, как Лондон, Москва, Берлин, Амстердам. И тем не менее этот провинциальный, грязный, бедный город спокойно сознает себя центром мира, и никто не оспаривает у него этот титул (честно говоря, сомнительный).
Иерусалим пропитан мистикой самых различных сортов: христианской, каббалистической, мусульманской, масонской. Это здесь в одном из неказистых домов Мусрары, а может быть — Геулы или Нахлаота, сидят вокруг стола, освещенного тусклой лампочкой, несколько низкорослых старых евреев, и отсюда они плетут сети знаменитого заговора, сети, в которых вот уже столько лет беспомощно барахтается весь мир. Роль эта поочередно переходит от одного иерусалимца к другому, и подчас человек сам не знает, что именно он — один из мудрецов Сиона. Это здесь время от времени можно увидеть очередного мечущего властительные взоры молодого мужчину — как правило, он одет в белую хламиду и порой даже едет посередь автомобилей на белой ослице.
Иерусалим — единственный в мире город, имя которого есть в перечне острых психических расстройств: иерусалимский синдром. Среди паломников, стекающихся сюда из самых отдалённых уголков планеты, он встречается настолько часто, что уже описан психиатрами как уникальное (короткое, по счастью) душевное заболевание. В больнице Кфар-Шауль давно есть специальное отделение, где привычно лечат бедолаг, свихнувшихся рассудком от нахлынувшего в душу восторга. Человек пятьсот перебывало в этом отделении. Были среди них пророки Даниэль и Илья, Иоанн Креститель (тоже не один), Дева Мария, царь Давид и даже Сатана. А вполне здоровый (до приезда сюда) американец ощутил внезапно здесь, что он — Самсон, и взят был санитарами возле Стены Плача: он пытался сдвинуть многотонный каменный блок, поскольку блок стоял неправильно и не на месте. А когда его уже в больницу привезли, врач попытался возвратить его в сознание простейшей логикой: Самсон ведь не бывал в Иерусалиме. Но Самсон не внял словам врача: он выставил окно в палате и выскочил. Однако убежал недалеко и стал на остановке у больницы ждать автобуса, чтобы вернуться и доделать начатое. За ним было послали дюжих санитаров, только опытная медсестра сказала, что все сделает сама. Подойдя к американцу, она сказала: «Господин Самсон, вы уже доказали только что, что вы действительно Самсон, теперь вернитесь ненадолго, вам необходимо отдохнуть». Такую логику Самсон воспринял и послушно возвратился. А уже через неделю сам не помнил, что с ним именно происходило.
Сапожник из Германии давно мечтал сюда приехать, чтобы тихо и смиренно поклониться всем святым местам. Однако же, приехав, громогласно и прилюдно объявил, что он на самом деле — посланный свыше пророк по имени Святой сапожник. И принялся провозглашать и проповедовать основы той морали, что начисто забыли грешные обитатели нашего города. Тут мельком мы подумали, что был отчасти прав этот бедняга, но не будем отвлекаться от сюжета.
Тихая немолодая шведка (по профессии — учительница и психолог), только что вступив в Иерусалим через Яффские ворота, замерла от ужаса: на крыше дома через маленькую площадь от нее стоял и улыбался дьявол. Вмиг переместившись с крыши вниз, он принялся входить в людей и выходить из них. Шведка ощутила в себе дикую божественную силу, чтобы побороться с ним, и с криками набросилась на окружающих. А полицейского, пытавшегося удержать ее и образумить, она чуть не задушила, ибо именно в него укрылся в ту минуту дьявол.
А другая женщина вполне спокойно путешествовала по Израилю в составе группы, а сорвалась сразу по приезде в наш город. Вдруг она исчезла из гостиницы. И только через двое суток обнаружили ее, точнее — необычным образом она сама внезапно объявилась. Без еды и питья она два дня бродила по улицам, разыскивая Иисуса Христа, поскольку явственно почувствовала (было озарение), что она — его невеста. А на исходе вторых суток некий голос ей сказал, что она по сути — голубь, и, стало быть, она должна лететь на небеса. Подумав (рассудительно и здраво), что одежда помешает ей взлететь, она разделась и понеслась по улице, размахивая руками. Так ее тут и обнаружили.
Ну, о мессиях нечего и говорить — они являются так буднично и часто, что врачам уже не интересно содержание их кратковременного бреда, их успешно и без разговоров лечат. Но бывают свихи необычные: один паломник ощутил себя внезапно ускорителем земной истории. Он призван был разрушить несколько святых исламских мест, чтоб вызвать битву Гога и Магога, а затем — приход Антихриста, чтобы вослед пришёл Мессия. Был задержан при попытке поджигания мечети.
Даже гиды по Израилю знают основные признаки душевного смятения от встречи с Иерусалимом. И если человек обособляется от группы, проявляет явную нервозность, прикупает белую одежду (или сам себе ее сооружает из гостиничных пододеяльников и простыней), с повышенным ажиотажем исполняет гимны и псалмы — тут можно ожидать и срыва. А дальше — спутанная речь, невнятное сознание и жаркие порывы громогласно проповедовать мораль о смысле и предназначении бытия. Не более недели тратят психиатры на лечение паломников, чьи души и рассудок отравляются восторгом после встречи с нашим городом. А туземцы преспокойно и привычно бродят по местам, таящим столь могучее духовное излучение.
Именно здесь, в Иерусалиме, открываются врата на Небо, но также и в ад, и здесь в назначенный день и час начнется самое роскошное из когда-либо бывавших шоу — Страшный суд. Вход в рай — повсюду, а Страшный суд будет проходить в Кедронской долине, под восточной стеной Старого города, вход в ад находится в долине Гей-Хином, или, как это место еще называется, — Султановых прудах. Пока что там устраивают концерты, и когда играют тяжелый рок, то не остается никаких сомнений, что именно это место является адскими вратами.
Иерусалим пропитан святостью, как лестница доходного дома — запахом котлет, капусты и мочи. И нигде в мире этой святостью не торгуют так бесстыдно, нагло и беспардонно, как здесь. Религиозный истеблишмент (вне зависимости от конфессии) распространяет эту заразу сверху вниз, поскольку главный интерес их — не кормление паствы духовной пищей, но стрижка этой доверчивой паствы.
Сама же церковная жизнь проникнута взаимными подозрениями, ревностью, завистью. Драки даже между иерархами самого высокого ранга — будничное дело. Достаточно вспомнить, как греческий и армянский патриархи вцепились друг другу в бороды, и где — в святая святых, в капелле Святого Духа, прямо над Гробом Господним. И как раз весной этого года почти на том же самом месте наставили друг другу синяков два священнослужителя рангом пониже.
Иерусалим, поскольку он фактически столица, является городом государственных служащих, то есть царством низкооплачиваемых и ленивых бюрократов.
Вот вам типичный иерусалимский анекдот.
Спорят дети, чей отец быстрее. Первый говорит: «Мой отец добежит до цели быстрее стрелы». — «А мой, — не уступает второй, — бегает быстрее пули». — «А вот мой, — усмехается третий, — государственный служащий. Он быстрее самого времени. Работа у него заканчивается в четыре, а он дома уже в три».
Однако надо отметить, что даже бюрократы в этом городе пропитаны его аурой и не чужды философии в духе Экклезиаста.
Наш друг, замечательный художник, скульптор и резчик по дереву Яков Блюмин, поднялся в Иерусалим (на иврите прибытие в Иерусалим обозначается словом «подняться», а отъезд — словом «спуститься», и отнюдь не физические реалии стоят за этими двумя глаголами) в начале семидесятых годов и тут же влип в бюрократическую паутину: некий чиновник немилосердно гонял его по разным кабинетам ради получения бессмысленной, но необходимой бумажки. К концу дня потерявший терпение Яков не выдержал. Будучи человеком неимоверной физической силы, он сперва устно объяснил чиновнику, что он с ним сделает, а потом, подняв тяжеленный стол, занес его над чиновничьей головой. Не успел стол опуститься, как искомая бумажка появилась в руках бюрократа. Отдав ее потерявшему дар речи Якову, чиновник принес стакан воды и, ласково уговаривая Якова успокоиться, принялся его отпаивать. Немного придя в себя, Яков сказал: «Какая же ты сволочь, ведь из-за тебя я целый день потерял, я из-за тебя не успел…»
Но что он не успел, договорить ему не удалось, потому что чиновник, нежно накрыв огромную руку Якова своей морщинистой, в коричневых пятнах старческой лапкой, сказал: «Мой дорогой, не нервничай, ради бога, не нервничай, ведь главное — это здоровье. И дай тебе бог дожить до ста двадцати лет в телесной силе, коей у тебя немало, и в полной ясности твоей красиво обрамленной бородой головы. Но увы, так уж устроен этот мир, что все мы, каждый в свой час, предстанем перед ангелом смерти. Он, — чиновник указал на коллегу, — я и ты тоже не избегнем этой участи. И поверь мне, — прищелкнул он языком, — даже половины из того, что ты хочешь, намереваешься и мечтаешь сделать, ты не успеешь. Среди этой массы несделанных дел будет и та малость, которую ты не успел сегодня…»
*
- Дается близость только с теми
- из городов и площадей,
- где бродят призраки и тени
- хранимых памятью людей.
Иерусалим еще и город мертвых, ибо умереть в Иерусалиме почитают за великую честь представители всех конфессий. Здесь на Протестантском кладбище на Сионской горе не переводятся камушки на надгробной плите человека, ставшего символом праведников мира, — Оскара Шиндлера. Здесь перед входом в церковь Гроба Господня покоится знаменитый рыцарь Филипп, а в центре города, где парк Независимости, — кладбище, на котором похоронены мамелюки Саладина, на горе Скопус — аккуратное военное английское кладбище и военное — на горе Герцля, где в День памяти солдат, павших в войнах Израиля, собираются родственники, друзья, уцелевшие однополчане. А еще есть кладбище у восточной стены Старого города, которое учредил сам Гарун аль-Рашид, чтобы не смог Мессия войти на Храмовую гору через запечатанные ворота Милосердия (или, как их еще зовут, Золотые ворота). Слышали когда-то мусульмане, что коэнам (потомкам жрецов Храма) входить запрещено на кладбище, вот и стали хоронить там умерших. И не забудем церковь Гробницы Святого Семейства, где похоронена Дева Мария с родителями своими и мужем Иосифом (другой вариант — в Турции, в Эфесе), и там же Мелисанда, легендарная королева крестоносцев. А еще — пещера в Санедрии, где упокоены члены Великого Синедриона, и еще рядом с отелем «Кинг Давид» — пещера, куда Ирод аккуратно складывал убитых им своих детей и жен. И гробница Иисуса Христа в церкви Гроба Господня, и мраморные клавиши надгробия великого Артура Рубинштейна беззвучным аккордом висят в сиянии иерусалимского неба. И много других могил и гробниц, о которых мы при случае поговорим, и, наконец, второе по древности кладбище на Масличной горе. Сохранны здесь уже не все могилы.
В самом низу Масличной горы проходит автомобильная дорога. Ее проложили иорданские власти во время Войны за независимость — прямо по кладбищу, вымостив дорогу могильными плитами. Историю одной из них грех не припомнить. Под ней лежал первый в Иерусалиме американский консул. Звали его Уорд Крессон. Христианин, знаток Библии, преуспевающий фермер. Что щелкнуло у него в голове, когда он стал добиваться, чтоб его послали в Палестину? Он был одержим идеей, что вот-вот придет Мессия и немедля снова выстроится Храм — он, видимо, хотел присутствовать при этом. Время — середина девятнадцатого века.
Приняли его с большим почетом, но повел себя сей консул очень странно: с головой ушел в еврейские проблемы. А в американские газеты принялся писать пламенные призывы слать деньги: нужна земля, чтобы сюда приехали евреи из всех стран мира — создавать промышленность и сельское хозяйство. И еврейскому народу это нужно, и Святой земле необходимо.
А спустя несколько лет после приезда принял он иудаизм и сменил свое гордое американское имя на Михаэль Боаз Исраэль. Он уже не был консулом (а жалованье ему и раньше не платили) и приехал навестить свою родную Филадельфию, чтоб увезти жену и шестерых детей (очень любимых, кстати). Но жена категорически отказалась все продать, перейти в иудаизм и кинуться в какую-то неведомую глушь. Более того: немедля обратилась в суд, что муж ее свихнулся на идее заново построить Иерусалимский Храм на собственные средства, вследствие чего уже не вправе собственным имуществом распоряжаться. И присяжные признали бедолагу невменяемым и недееспособным. Он тут же приговор обжаловал, и новый суд длился целую неделю — выступали психиатры, священники, раввины и друзья. Последние говорили о его полном психическом здоровье и прекрасном деловом разуме. Он выиграл процесс. А последние слова из речи его адвоката стоит здесь привести: «Единственная вина этого человека заключается в том, что он решил стать евреем».
И Михаэль Боаз вернулся в Иерусалим. Женился на еврейке, основал большую ферму, чтоб выращивать бананы, ананасы и лимоны, очень был любим и уважаем всеми, кто имел с ним дело. Но пережитые волнения довольно быстро дали себя знать. В последний путь его провожала огромная толпа. Но навестить его могилу невозможно.
Интересно, что все эти кладбища живут своей подземной напряженной жизнью. Как сообщил нам проработавший там много лет славный человек Миша Новиков, в силу характера иерусалимской почвы и подземного движения воды не лежат покойники в обиталищах своих, как им по чину полагается, — нет! Они двигаются, шевелятся, более того — кости их покидают належанные места и гуляют под землей, мешаясь с костями других.
Похороны здесь — это высокое иерусалимское действо. Они проходят организованно, быстро и профессионально. Как с удовлетворением заметил один наш знакомец, глядя, как споро и ловко закапывает похоронная команда его тещу. «Что-что, а хоронить в Иерусалиме умеют».
Иерусалимские мертвецы не просто мирно лежат в своих могилах, они правят этим городом, они диктуют, где пройдет дорога, где нельзя, а где можно построить дом. Они определяют даты праздников и характер церемоний. Они вершат месть. Они провоцируют войны и столкновения. Они даже играют свадьбы.
Неподалеку от рынка Махане Иегуда на улице Яффо под номером восемьдесят шесть в саду стоит особняк. Был он выстроен в конце XIX века богатым арабом-христианином в качестве свадебного подарка своему первенцу, любимому сыну. Не дни — недели готовились к этому торжеству. И вот настал день свадьбы. Звонили колокола. На новобрачных сыпались лепестки роз и зерна риса. А вечером к дому подкатывали ландо и коляски. Родители жениха и невесты встречали празднично одетых гостей, принимали свадебные подарки. Обменявшись с родителями традиционными поцелуями, гости входили в освещенный сотнями свечей зал, посреди которого в креслах с высокими резными спинками сидели жених и невеста. Слуги обносили гостей шербетом и восточными сладостями. Громко играл оркестр. Жених и невеста, не шевелясь, сидели рядом. Лица невесты, укрытого фатой, не было видно, а глаза жениха неподвижно смотрели в стену напротив, и пламя свечей отражалось в их матовой черноте. Жених был мертв. Причины смерти несчастного и даже время, когда это приключилось, — неизвестны: сразу после церемонии в церкви или через несколько часов.
Играл оркестр, слуги разносили угощение, и никто ни единым словом не осмелился нарушить это макабричес-кое торжество. Ближе к полуночи гости пустились в последний ритуальный танец вокруг новобрачных. Кружился хоровод, и неподвижно был уставлен в стену взгляд мертвеца. Ас последним аккордом раздался страшный крик его матери. И когда она разорвала на себе одежды, то вдруг разом погасли все свечи…
История эта произошла в 1882 году. Восемь лет дом пустовал. А потом турки устроили там больницу, только умирали пациенты, и ее закрыли — больные категорически отказывались в ней лечиться. Феномен проклятых домов известен каждому иерусалимцу: ни один человек не согласится жить в таком доме или открыть в нем дело. И тогда муниципалитет перевел туда отдел, ведающий регистрацией смертей. Он так там и работает по адресу: улица Яффо, 86.
А еще Иерусалим — это город грязных и запущенных районов, куда не ходят туристы и где пахнет гашишем, марихуаной, нищетой, будничным ожиданием чуда и такой же будничной безнадежностью. Это город, где лихие палестинцы воруют машины, чтобы, разобрав их на территориях, продать на запчасти; город, где взрываются мусорные баки, урны (оттого, наверное, их так мало, и все бросают мусор прямо себе под ноги), машины и самоубийцы-шахиды. Город, в котором крови было пролито больше, чем в любом другом; город, который пропах смертью, город фанатиков разных конфессий, готовых на все, чтобы восторжествовала их и только их истина. Это город нищих, которые, звеня своими банками и склянками, настырно требуют справедливости в ее денежном эквиваленте, а заодно и дают тебе возможность исполнить Божью заповедь о подаянии. Это город, в котором, по выражению одной тель-авивской уроженки, учившейся в Иерусалимском университете, живут только чудаки и сумасшедшие, где в университете ставят опыты великие ученые, где бродят по улицам великие поэты, где звучат инструменты великих музыкантов. Это город, где живут, уживаются и не могут ужиться евреи и арабы, христиане и мусульмане, где сошлись и стонут от этого союза Восток и Запад; город, где продается все — религия, честь, совесть — и где ни за какие деньги нельзя купить спокойствие, мир, терпимость.
Это — «…город оливковых гор… Город ветра. Город вдохновений…»
Строчка эта — из стихотворения Иегуды Амихая, человека, с которым нам посчастливилось выпивать, закусывать и разговаривать. Он был плоть от плоти этого города, в жилах его текла кровь многих поколений иерусалимцев, хотя, по паспортным данным, родился он в Германии, но это совершенно не имеет никакого значения, ибо не люди выбирают этот город, а этот город выбирает себе людей. Невысокий, круглоголовый, с ясными удивленными глазами провинциала, он ходил по его улицам с авоськой, и никто не сказал бы, что это великий поэт. Он был похож на обычного иерусалимского чиновника в своих клетчатых рубашках и стоптанных сандалиях. И он был таким же парадоксальным и простым, неожиданным и знакомым, обыденным и таинственным, как город, в котором он жил, как город, который жил в нем, как город, который он однажды назвал гаванью на берегу вечности.
Его дом стоит в квартале Ямин-Моше, под мельницей, которую, чтоб выманить евреев Старого города на неосвоенные просторы, построил известный еврейский филантроп, подданный британской короны сэр Мозес Монтефиори.
- Мельница эта никогда не молола муки,
- она молола ветер и птиц
- желаний Бялика, она молола
- слова и время, она молола
- дождь и даже орудийные снаряды,
- но никогда не молола муки.
- Теперь она обнаружила нас
- и каждый день мелет наши жизни,
- чтобы приготовить из нас муку мира,
- чтобы испечь из нас хлеб мира
- для поколений грядущих.
Перевод А. Воловика
И быть может, именно здесь, в Иерусалиме, но возможно, и в другом месте земли Израиля, вы ощутите живое дыхание истории. Один из авторов случайно был свидетелем короткого бытового разговора двух развозчиков хлеба. Дожидаясь кого-то возле своей машины, они закурили, и один из них сказал другому:
— А дурак был все же царь Давид, что построил город с этой стороны горы; построил бы с другой, и мы б сейчас с тобой в теньке сидели.
А впрочем, это ведь у всех по-разному и в разных приключается местах. К одному из авторов пришло это чувство во время службы в армии, в войну. Однажды командир подразделения, в котором он служил, сказал, что на конец недели они могут вызвать жен, чтобы совместно праздновать субботу. И жены, разумеется, приехали. Большой компанией они сидели при свечах, раввин уже прочел субботнюю молитву, они выпили субботнее вино, и ровный шум негромких разговоров витал над столами. И вдруг рассказчик — даже не подумал, а скорее ощутил, что точно так же некогда в пещере пировали, празднуя субботу, воины Бар-Кохбы или Маккавеев.
А второй соавтор испытал такое же примерно чувство, оказавшись в Риме возле арки, некогда воздвигнутой в честь Тита, взявшего когда-то Иерусалим. Там по верху идет изрядно стертая резьба, изображая длинную колонну то ли римлян, то ли пленных иудеев (до сих пор рассказчик это в точности не знает), несущих трофеи из Иерусалимского Храма. И при виде этой каменной картинки остро ощутил рассказчик свою кровную причастность к побежденным.
А еще нам хочется тут рассказать одну историю, без которой вполне можно обойтись, но поскольку она вспомнилась, то мы ее расскажем.
Это произошло много лет тому назад. Мы, тогда зеленые иммигранты, только-только взошедшие в город Иерусалим, познакомились с Ициком Авербухом (впоследствии — нашим близким другом), и он, человек широкого сердца и такой же души, пригласил нас и еще нескольких таких же новых граждан в свой дом на одной из улочек Старого города. Именно тогда мы имели несказанное удовольствие впервые лицезреть его жену Тали, красавицу йеменского происхождения. Эта вечеринка, затянувшаяся на всю ночь, запомнилась нам двумя событиями местного масштаба. Первый шок приключился, когда кто-то подсел к роялю и красавица йеменитка на чистом русском языке запела: «За окошком свету мало, белый снег валит-валит…» А за окошком в воздухе был разлит нежный аромат жасмина, мерцали отраженным лунным светом старинные камни еврейского квартала, и до Стены Плача было пять минут пешком… И все было замечательно, пока, под утро уже, не появился растерянный Ицик и не сообщил, что из стола пропала изрядная сумма денег. Не очень-то нам хочется тут раскрывать подробности, но в результате человек, бессовестно укравший деньги, был обнаружен (вот и зови к себе полузнакомых бывших соотечественников!), но, как понимаете, настроение у всех было испорчено, и народ начал расходиться.
Мы жили тогда на южной окраине далеко от центра. Понурые, с мерзким вкусом во рту, плелись мы вслед за таким же понурым Ициком к его автомобилю. Молча ехали мы по пустой Хевронской дороге на юг, как вдруг, ни слова не сказав, Ицик резко развернул машину и помчался назад. Не снижая скорости, объехали мы Старый город, пронеслись мимо арабских гаражей в Вади-Джоз, проскочили через Кедронскую долину и еще через несколько минут стояли на вершине Масличной горы. Перед нами в сумрачной предрассветной тишине лежал Иерусалим. А потом… Наше перо не способно описать чудо, совершившееся на наших глазах. Да, это был восход. И первые лучи взошедшего за нашими спинами солнца. И сразу вспыхнувшие золотым светом иерусалимские камни. И этот свет, и этот чистый засиявший город в одно мгновение смыли с наших душ липкую грязь, унижение и обиду.
На этом мы бы и закончили главу, когда бы не одна давно волнующая нас идея. Дело в том, что в Иерусалиме нет реки. А нам не известен ни один истинно великий город без реки. Конечно, можно утешительно сказать: мол, все они с рекой, а этот без реки не менее великий. Но только это слабый довод. Поэтому мы предлагаем вместо центральной улицы Яфо прорыть канал, чтобы шел он вокруг Старого города, где протекал некогда Кедронский поток, и низвергался далее в ущелье, ведущее к Мертвому морю. А от того канала чтобы в разные стороны отходили канальчики. И вместо улицы Кинг-Джордж, и вместо улицы Давид а-Мелех, и вместо многих других. А по каналам пусть плывут гондолы: это вид общественного транспорта, не требующий электричества, без выброса вредных газов, дешевый, к тому же красивый и даже романтичный.
Мы не сомневаемся, что, выставь мы с такой программой свою кандидатуру в мэры Иерусалима, наше избрание было бы неизбежным, а Венецию стали бы называть Северным Иерусалимом. К сожалению, мы не можем позволить себе занять эту должность. У нас другие заботы.
Глава 12
Итак, Давид захватил Иерусалим. Сделал он это хитроумным способом, о котором вам непременно расскажет гид на экскурсии в город Давида — через дорогу от раскопок под южной стеной Храмовой горы. Там много разных камней, нагроможденных друг на друга, и все они исторические. Мы лишь намекнем, что в качестве подсобного средства Давид использовал водопроводную систему. Правда, недавно выяснилось, что она построена на пару веков позже этого события, но это, как вы понимаете, не существенно. Кроме того, буквально только что (книга уже почти ушла в типографию) раскопали новый (то есть еще более старый) туннель вполне подходящей давности — судя по всему, это именно тот, через который проникли в город воины Давида. Во всяком случае, именно таковым он будет считаться, пока не раскопают что-нибудь еще более древнее.
Взяв Иерусалим, Давид крепко наподдал филистимлянам, что оказалось не трудно, поскольку он следовал тактическим советам Господа. Советы были конкретными и немудреными: типа «зайди им с тылу и иди к ним со стороны тутовой рощи», но важно, что они действовали. Затем, обустроившись при помощи царя Тира, пославшего плотников и кедровые бревна, царь перенес в Иерусалим ковчег Завета, что было, несомненно, мудрым решением, ибо теперь помимо столичного блеска город обрел статус религиозного центра (за что и платит по сей день). Как всегда, Давид не преминул показать свои музыкальные таланты, а заодно и дарования в области балета, но не классического (пуанты, фуэте и т. п.), а самого что ни на есть современного, ибо, как сказано в Библии, — «скакал перед Господом». Поскакав, Давид дал всем участникам «по куску жареного мяса и по одной лепешке» (к сожалению, рецепты не сохранились), и праздник окончился.
Затем Давид совершенно разошелся и поодержал тьму тьмущую побед над самыми разными соседними царями, но при этом не заносился и, в отличие от всех прочих своих коллег в прошлом, настоящем и будущем, не пытался искоренить память о своем предшественнике. Более того, стал искать кого-нибудь из уцелевшего потомства царя Саула: «Нет ли еще кого-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость Божию». Вот так, этими самыми словами и сказал. А когда обнаружился внук Саула, сын любимого друга Ионафана с красивым именем Мемфивосфей, то Давид не только не забыл о своих благих намерениях, но отдал ему всю собственность дедушки Саула, а также кормил, поил и вообще держал за сына. Библия сообщает деталь, после которой совершенно не приходится сомневаться в достоверности всего вышесказанного, а именно, что этот малый с красивым именем «был хром на обе ноги».
Воодушевленный своими добрыми делами, Давид в очередной раз побил всех, кого только можно, и залез на крышу своего дворца отдохнуть. И оттуда он увидел купавшуюся в бассейне женщину, и приключилось с ним такое, что (если честно) приключалось регулярно: Давид эту женщину страстно захотел.
Вообще, судя по Библии, он отличался исключительно сильным сексуальным темпераментом, а проще говоря — был изрядным бабником. К этому времени у него было, помимо известной нам Михали, еще куча жен, а уж когда он добрался до Иерусалима, то имена жен вписывать в Библию просто перестали, поскольку иначе эта книга разрослась бы чрезвычайно, просто написали: «И взял Давид еще наложниц и жен» — без упоминания имен и указания количества. Казалось бы, куда тебе еще, дай бог с этими управиться! Но в том-то и дело, что управлялся и никто в обиде не был.
В Иерусалиме у самых Яффских ворот есть место, которое зовется Цитадель Давида. Оно расположено над долиной Гей-Хином, той самой, которая Гиеном, то бишь Геенна Огненная, а огненная она потому, что в этой самой долине приносили язычники в жертву своему богу новорожденных детей, бросая их в горящую огнем пасть (в смысле — печку в виде пасти). А еще, как вы помните, место называется Султановы пруды и тоже, разумеется, не без причины, но она нам неизвестна. В этой самой Цитадели Давида (которая на самом деле — сохраненная римлянами одна из башен дворца Ирода Великого) сейчас музей города. Он очень мило сделан, там впечатляющие раскопки и хороший музейный дизайн. А тогда сидел на крыше этой башни царь Давид и внизу в прудах увидел Вирсавию. Так вот, плюньте в глаза тому, кто вам это скажет. Ну как мог царь Давид сидеть на крыше дворца царя Ирода? Как могла Вирсавия купаться в прудах Султана? Какого Султана? Короче, это было не здесь. Не здесь! Но было…
А что касаемо самого происшествия, то что с нас, малых сих, спрашивать, когда сам царь Давид — мудрец и полководец, благородное существо, талант, сам Бог с ним на «ты» — не мог с собой совладать. И целый мир, со всеми его птицами и цветами, хамсинами и грозами, запахом земли и вкусом росы, со всем, что есть в нем — таинственностью ночи и чудом утра, золотистыми волнами пустыни, шепотом травы, шуршанием пены на морском берегу, — весь Божий мир воплотился для него в этом светящемся в сумерках уходящего дня женском теле.
И в ту же ночь лег Давид с этой женщиной, и она забеременела. Казалось бы, что в этом плохого? А плохо то, что была эта женщина замужем, и муж ее, Урия, хетт по национальности, был одним из командиров Давидовой армии. Сей факт говорит, кстати, о многонациональном составе Давидова царства, а также о взаимной веротерпимости, которую Давид если не установил, то поддерживал. Это, понятное дело, хорошо, а вот трахать жену своего доверенного человека — куда как плохо. А после того, как не вышло приписать своего ребенка другому, то посылает царь своего воина Урию на верную смерть и тут, как ни крути, совершает дело подлое. Впервые в своей жизни Давид бежит от ответственности, впервые человек, не побоявшийся выйти против великана, ощущает во рту кислый металлический привкус трусости.