Красный рок (сборник) Евсеев Борис
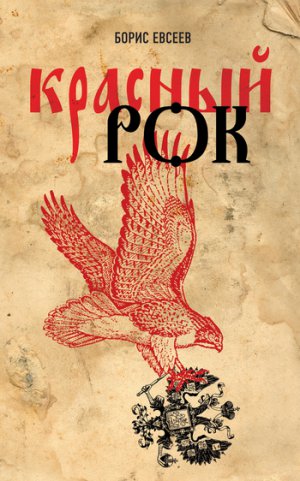
* * *
«Сука-падла-пирожок… Сука-падла-с-мясом… Су-па-пи, су-па-пи…»
Петух кружил по крыше пристройки, тонко и зло процарапывал ее стальными своими коготками и, чуть завернув голову кверху, вполголоса пел, клекотал, снова пел…
Петух ощущал в себе дерзкую утреннюю птичью вострость, он догадывался: ему подвластно все! Он круче, справней, удачливей всех других петухов округи. В зобу, в пищеводе что-то едко изжигало его, что-то толкало и толкало вперед, по кругу, без оглядки, марш! Едкое это жжение он выталкивал и выплевывал наружу чужими, человечьими словами: «тело легкое, кости полые, тело легкое, кости полые… лети, лети!» – бормотал и бормотал он. И при этом одним, скошенным в сторону глазом посматривал на окна инсулиновой палаты, а другим, уставленным в небо – ухватывал коршуна, висевшего вдалеке, за больничным квадратным двором, над жалким, полуразвалившимся курятником.
«Шулик-шулик-шулик!» – вдруг громко передразнил петух коршуна, сам этого передразниванья испугался, но потом смекнул – коршуна ему бояться нечего! Даже если этот воняющий мышами и рыбой «шулик-шулик» посмеет метнуться сюда, на сладко обволакиваемую лекарствами крышу, он, петух, убьет коршуна одним ударом воскового, тяжелого, выросшего до непомерности, остро-смертельного клюва.
Петух кружил и кружил по крыше. От потребности чем-то унять себя он временами встряхивал огромной, кренимой набок головой. И тогда в голову его прорывались новые звуки, картинки, влетали кусочки ушедшего дня, клочки ночи. Петух плохо помнил, что с ним было раньше. Слабые обрывки мелькали перед ним: металлическая сетка, насест, деревянное долбленое корытце, пшено горками, лужи, гладкие и ленивые, теперь кажущиеся ему отвратительными куры: сон, явь, опять сон…
В голове петуха что-то сдвинулось. Сдвинутость эту он давно и крепко ощущал, и она ему нравилась. Нравилась намного сильней, чем полузабытое нормальное состояние. Петуху теперь казалось: петь надо отвратно, петь надо издевательски, а клекотать и орать – ругательски-грубо, как орет поутряни драная котами ворона! Ну а раз не обязательно есть, то, стало быть, и не надо искать лакомые зерна, не надо тратить на поиски зерен сил, не надо поминутно и озабоченно выклевывать их из шелухи, из земли. Есть не надо еще и потому, что можно нюхать сладкие лекарства! И под завязочку насыщаться ими. А в случаях особых можно нюхать человеческое, хранимое в небольших крытых домиках, разбросанных там и сям по больничным квадратным дворам, пахнущее по-разному в женских и мужских отделениях дерьмо.
Запах заменял худому петуху еду, но не мог, ясное дело, заменить питья. Пить ему хотелось все время, но пить не простую воду, а воду, подслащенную глюкозой, или насыщенную сиропом, или подкисленную слабенькой человеческой кровью.
Правда, по временам, когда, отзвучав, стихал в голове нежный, но требовательный голос хозяйки, до петуха, хоть и с трудом великим, доходило: пить лекарства хочется именно оттого, крови глотнуть хочется оттого, что в голове непорядок. Непорядок виной и тому, что словно стальным поросячьим кольцом, какое продевают в нос противной свинье, чтобы она не рыла в хлеву, перехвачен петушиный лоб, а глаза зоркие, глаза дерзко-лупатые, оказываются иногда ниже темечка, на затылке…
Именно тогда, когда глаза оказывались на темечке, когда они видели все, что растет, шевелится, клубится и брызжет сзади, петух начинал, клекоча и подкудахтывая, захлебываться от небывалого удовольствия. Петух не знал, что смеется, то есть делает нечто такое, что бегающим по земле и летающим над ней делать вовсе не положено. Не знал петух и того, что смех для него опасен, разрушителен, и потому длил и длил мгновения насладительного клекота. И от такого «смеянья» петуху еще больше хотелось быть сдвинутым. А стоило ему про себя помыслить что-нибудь или прокричать, как тот же звук, тот же помысел сразу же вслух повторяли многие из тех, кто находился поблизости, в больничном дворе. Но таким «эхом мысли» забавлялся петух нечасто. Чаще происходило «отнятие» всех помыслов и ощущений, выкрадывание их из головы петуха. Этому выкрадыванию предшествовал голосок хозяйки.
Сначала петуху казалось: голос живет прямо в его голове, под гребнем. И петух бился головой о стену, крепко, до крови терся гребнем о забор. Он хотел от этого голоса бежать и прятаться, но потом понял: убегать не надо, прятаться не надо! Голос приходит извне: как приходит, так и уходит. Надо только подчиниться ему, сделать то, что хозяйка велит… Постепенно хозяйка своим голоском заменила петуху все: кур, еду, зерна, навоз…
И ему было сладко оттого, что кур топтать больше не хотелось, – хотелось потоптать, подмять, исклевать нежно и строго зовущую его хозяйку, хотелось почувствовать совмещение их с хозяйкой нижних отверстий, почувствовать свое проникновение в чужую клоаку, хотелось длить проникновение долго, туго! Похоть эта все расширялась, все увеличивалась, делала петуха бесстрашным и наглым, тем более что никакой боли он давно не чувствовал, а кроме боли, бояться ему было нечего…
И лишь иногда, когда петуху хотелось внезапно ударить в грудь себя самого, хотелось порвать широкую теплую жилу, идущую от груди к тонкой шее, – и лишь иногда он об этой нынешней своей сдвинутости жалел. От жалости его кидало в сон. Он засыпал в любом месте, где была какая-нибудь планка, шесток. Петух не боялся упасть во сне. Особенности мускулатуры, свойства сухожилий позволяли фалангам его пальцев автоматически сжиматься, когда он сидел на шестке, на ветке, на гребне больничной крыши…
Петух плохо помнил, что с ним было раньше, но зато и во сне, и наяву ясно, хотя тоже обрывчато, видел свое будущее. Видел лежащих в палате людей, на которых ему предстояло вскорости слететь, видел их оплывшие лица, чувствовал, как ловко продернуты их тела жгутами подрагивающих вен. А перестав видеть больных, видел он высокую, узорчатую, невозможную и ненужную в степи башню, видел зеленую черепицу ограды под башней, на которую ему зачем-то требовалось взлететь.
Впрочем, черепица в последнее время меняла цвет: становилась розовой, становилась густо-красной. Меняла очертания и башня, она заменялась башнями другими – пониже, поскромней, заменялась тучными, голубоватыми и тоже не виданными в степи домиками с золочеными луковками вместо крыш…
И тогда черный петух, тогда тощий кур, никак не попадущий в ощип, узнав внезапно свое будущее, ощущал прилив сил: надувались воздушные, расположенные с боков, улучшающие подъемную силу крыльев мешки, и огромным своим, за последние дни еще чуть наросшим клювом он сбивал эти золотые луковки и долбил их, долбил, долбил…
Вдруг петух остановился, замер.
Весь пыл и апломб слетели с него. Он затрясся от животного, лихорадочного страха, от предчувствия жестокого, тоже пахнущего лекарством и вонюче-затхлыми грибами наказания. В петуха вонзился голос грозно его упрекнувшей хозяйки.
Он попытался пресечь в себе дыхание, попытался остановить само сердце. «За что? За что?» – ударяла в виски петушиная кровь.
Но голос не повторился. Петух постоял немного на одной ноге перед окном, выпускавшим из себя влажно-сахарный дух инсулиновой палаты, глянул на шизо-фиолетовое, уже выскочившее из-за забора солнце и, сообразив, что сегодня влетать в палату не придется, что на сегодня дан ему хозяйкой отбой, – с веселым шумом выбулькивая пузырьки страха, царапая крышу когтями, соскользнул к себе в закуток, вниз. И уже там, восвоясях, заклекотал дерзко и непочтительно, заклекотал в голос:
«Сука-падла-пирожок! Сука-падла-с-мясом!..» – а затем, в пику хозяйке, забормотал хвастливо, забормотал низким, мужским, тоже хорошо ему знакомым голосом: «Цянь-дин, бай-хуэй… Цянь-дин, бай-хуэй… Хулли-мне-эти-точки… Хулли-хулли?..»
Эти чужие, не понимаемые, будоражащие влажной и сладкой жестокостью слова приятно ярили петуха. Они же позволяли выплеснуть наружу, выдавить из себя хоть на время пробившие голову насквозь, вздувшие гребень до громадных размеров голоса команд…
3. Голоса
Ветер осени внезапно стих. Ноябрь потеплел и тянулся над Сергиевым кротко, благостно. Часто светило солнце, а дожди шли косые: неострые, безвесные…
Под стенами лавры и чуть подальше, у невысокой ограды прилегающего сквера, близ лотков с деревянными лаковыми шкатулками, фигурками, игрушками стояли и сидели туристы. Тут же отирались нищие, зеваки, бомжи, странники… Странники и нищие были все как на подбор вяловаты, скучны, иногда отвратительно-развязны, а те, что были энергичны и держались пристойно, имели слишком простецкий, если не сказать глуповатый, вид. Человека, о котором Серову говорили и вчера, и третьего дня, среди них не было. Серов топтался на месте, шевелил пальцами босых ног, никак не привыкнущих к холодной земле.
Здесь, в Сергиевом, он почему-то не решался сесть на землю, не решался выкрикивать те слова, что широким летучим огнем палили его изнутри. Он сдерживал себя потому именно, что ждал встречи с человеком, который был здесь хорошо известен, был даже, кажется, почитаем. Во всяком случае, вчера и позавчера, устраиваясь на ночлег у лавринской случайной старушки, Серов наслушался о нем предостаточно.
Еще с полчаса потоптавшись на месте и стараясь принимать в себя мир целиком, не думать о его частностях, он решил, чтобы скоротать час, обойти два-три раза лавру кругом. А потом… Потом снова вечер и высветленный до прозрачности чай у сердобольной старушки, а за вечером ночь: трепетная и мягкая, как молитва; ночь, ради которой Серов и выстаивал теперь целыми днями перед куполом, близ Троицыных стен…
«Ночь, ночь, ночь! Сергиев, Сергиев, Сергиев!
Великая лавра и вполне осуществимые надежды, простоватая купеческая архитектура и таинственный Черниговский скит, многословные, тычущие во все руками зарубежные гости и сдержанные, но быстро отзывающиеся на чужую боль посадские жители, постоянное ожидание чуда от преподобного Сергия, и само его радостное дыхание, явно ощутимое в извивах рек, в лесах вековых, меж холмов, в переулках, близ пустошей, еще лежащих по окраинам великого Города-Посада, еще ждущих трудового пота, молодой, крепкой руки…
Сергиев! Нужно ли тебе, пребывающему в силе и славе, – сиротливое юродство? Или ты и без очистительной силы юродства – прекрасен, чист? Нужны ли тебе люди, попирающие ложную святость, от которой земля Преподобного наверняка давно очистилась? Нужны ли…»
Кто-то хлопнул Серова по плечу. Он внутренне обмер, оглянулся.
«Какой-то пьянчужка… Не тот, не тот!»
Обходя лавру, Серов, чтобы занять потрескивающий от далеких неясных голосов и сигналов мозг, стал считать и называть про себя башни: «Красная башня, Сушильная башня…»
И дальше, по порядку, вырастали перед ним и назывались по именам: ясная башня Звонковая, высокая, как колокольня, и слегка тощеватая Каличья, тучная – Плотничья, низенькая квадратная – Келарская, широкая и пышная над глубоко внизу текущим ручьем – Пивная башня…
Под Пивной башней, над обрывом, на длинной и тонкой дощечке сидел человек. Он сидел спиной к лавре, глядел на ручей, но когда Серов на цыпочках хотел свесившего вниз с крутого склона ноги обойти, тот резко обернулся, сказал повелительно:
– Сядь!
Серов, сам не зная почему, подчинился.
– Меня ищешь?
– А вы кто?
– Выкать у себя на Москве будешь. А я – Малый Колпак, или просто Малый. Аль не слыхал?
– Позавчера как раз услышал.
– Нюхом чую – меня ищешь. Кнут тебе нужен, и палка нужна. Дурь из спины вышибать. Будет кнут! И палку до самого до кончика проглотишь. Айда за мной!
Человек в полуботинках, в долгой, серой то ли свитке, то ли курточке поднялся. Был человек невысок и на вид странен: плечи широкие – ноги короткие, руки длинные. Лицо имел тоже запоминающееся: черные, сросшиеся брови над зелеными, глубоко запавшими глазами, желтоватые, тонкокожие, цвета лежалых газет щеки, мягко встрепанный пучок каштановой бороды, торчащей чуть не из самого кадыка. На голове сидевшего под Пивной башней была красная, островерхая лыжная шапочка с кисточкой, волосы – тоже каштановые, без седины – забраны в косу. Человек сначала долго подшлепывал губами, дергал кожей лба и лишь затем произносил слово или целую фразу.
– В лавру, в лавру пошли! Да одень ботинки, дурень! Не в босохождении смысл! – Он внезапно дернулся, мигом передвинул на бок заплечный сидор, выхватил оттуда войлочные музейные тапочки-мягкоступы, кинул их наземь… И Серов тут же с неожиданной радостью и великим удовольствием продел в тапочки босые ступни, завязал на пятках длинные крепкие тесемки.
Ногам стало теплей, тепло побежало от лодыжек наверх, быстро дошло до спины, залило живот, наплотнило ямочки над ключицами, плечи, шею.
– А это – чтоб оглох ты!
Человек со сросшимися бровями поднялся на цыпочки и влепил Серову не сильную, но звучную затрещину. Кровь от затылка и от задетого правого уха враз отхлынула.
– А это – чтоб онемел! – ляснул Серова еще и по губам человек в островерхой шапке.
Серов засмеялся. Как раз этого ему и хотелось уже часа три: чтобы ноги и спина согрелись, а голова остыла. Значит, встреченный именно тот, кто ему нужен!
– Вякнешь в лавре хоть слово – в реке утоплю, – сказал драчливый недоросток, поправил болтающийся сидор и тут же, не оглядываясь, побежал вперед, весело размахивая обеими руками.
В воротах лавры человек, назвавший себя Малым Колпаком, еще раз обернулся, зашипел таинственно:
– Молчи! Сейчас кощуны творить буду!
Он остановился на стыке обширных и очень высоких ворот лавринского, мощенного булыжником двора, стал чего-то ждать. Ждать пришлось недолго. Из отдела внешних церковных сношений вышли трое священнослужителей. Колпак стремительно выступил им наперерез и, ухватив крайнего – одетого не в священническую, а в серую рабочую рясу – сперва за грудки, с невиданной силой затряс его как грушу, но потом, словно передумав вытряхивать монаха из рясы, трижды смачно, даже хрустко на рясу серую плюнул.
Кто-то грозно крикнул, заспешили к месту кощунства верующие, служки, монахи попроще из находившихся здесь же, поблизости. Уже Малый Колпак получил от кого-то затрещину, уже слетела с него островерхая червонная шапочка, хрустнуло ухваченное крепко плечо.
– В милицейскую часть его!
– Басурман!
– Расходитесь, братие. Не на что тут глазеть.
– Ты что, дурак, белены объелся?
Малый Колпак словно только этого вопроса и ждал. Он еще сильней нахмурился, что-то замычал, как бы отнекиваясь, затряс головой, сделал вид, что хочет вырваться и убежать, а сам вертанулся на месте, вцепился в того же оплеванного и вмиг высоко, ловко и нагло, как подол женщине, задрал ему спереди серую рабочую рясу. Под рясой на животе оказался большой, цветной, укрепленный веревочками календарь, с последней страницы которого улыбалась чернявая, склонившаяся к автомобилю полуголая красотка.
– Гуа… – загудела небольшая толпа.
А Колпак плюнул еще. На этот раз вверх, в воздух. Все вынуждены были за плевком следить, вынуждены были сторониться, чтобы слюна низкорослого, творящего «похабы» человечка не попала на головные уборы, одежду… Пока смотрели вверх, Колпак плюнул опять: густо и смачно на руку все тому же, укрывающему злополучный календарик монаху…
Не выдержав непристойного поношения, сгорбившись и кляня самого себя, Серов поспешил из лавры вон. Он и сам мыслями устремлялся к чему-то похожему, сам хотел резких и странных действий, многозначительных дурачеств, поношений, обнажавших скрытное, тайное. Было неприятно лишь то, что Колпак устроил поношение в глубоко чтившейся Серовым лавре.
Уходя почти бегом из лавры, Серов вдруг припомнил, как, вернувшись с юга в Москву, не заезжая к себе на квартиру в Отрадное, он так же стремительно кинулся на дачу.
Жены на даче не было. Сын уже два года жил у бабушки.
Не зная, как обороть тоску и внутреннее напряжение, как избыть опять зазвучавшие в голове голоса, не зная, как вычистить из мозга петушиное квохтанье и петушиный крик, как пресечь вызванную отсутствием психотропов, к которым организм за десять дней привык, маету и ломку, он стал медленно, но неостановимо кружить по даче. Обычные действия, привычные движения, книги, телевизор, музыка – не помогали. Тогда он решил делать что-то необычное, дурацкое: скинул одежду, встал на голову, затем обмазал голову зубной пастой, паста стала сохнуть и от нее на душе стало еще противней, гаже. Серов побежал в ванную, голову вымыл и, продолжая выть от тоски и страшного внутреннего напряжения, начал, царапая и кровя щеки, бриться.
– Дима… Дим… Ты где? – неясные голоса, неясные шепоты и оклики отлились вдруг в тонкий, носовой, далекий, еле слышимый голосок Калерии.
Серов кинулся в комнату жены. Там, конечно, никого не было. Но голос раздался вновь. Теперь он, казалось, шел из дальних комнат, расположенных над каменным подвалом, в котором размещалась газовая установка АГВ.
Серов стал спускаться в подвал, по дороге неловко задел кистью правой руки торчащую из перилец железку. Четырьмя скупыми капельками выступила кровь. Серов поднес руку к глазам, затем крест-накрест вытер руку о лоб. Он хотел заглянуть за трубу АГВ, но голос Калерии вдруг пропал. Еще плескались в мозгу неясные шорохи, но никаких слов разобрать уже было нельзя. Сразу стало легче, стало ясно: надо освободиться от ломающей тоски и голосов до конца! Не зная, как этого добиться, он решил продолжать делать только то, что первым придет на ум, или то, что сделается само собою, без намеренья и умысла. Решив так, Серов из подвала тут же выскочил, потом вдруг расстегнулся и стал судорожно и прерывисто обливать стену, а затем и самого себя мочой. Стало жарко, как в бане, но тоска, державшая за горло весь день, стала уходить, стало легче, жизнь впервые за последний месяц как бы возвратилась на свое место, вписалась в назначенный ей ряд, поплыла, куда ей положено, в невидимом мощном потоке…
Серов радостно брызгал на себя еще и еще, затем, когда брызгать стало нечем, стал бегать на кухню, набирать в рот воду, чай, обрызгивать ими стены, окна, мебель…
За этим занятием его и застала жена. Она четыре дня ходила за ним, как за ребенком, поила бульоном с ложечки, приводила известного, иногда наезжающего на соседнюю дачу терапевта…
На пятый день Серов встал, сказал, что уже здоров, что уезжает по делам на пару дней в Сергиев.
– Не беспокойся… Мне лучше. Мне надо туда съездить… Хочу посмотреть, оглядеться, понять кое-что…
Отойдя от дачи метров на двести, Серов снял и забросил в кусты свои новенькие итальянские ботинки, затем зашел в магазин (в магазине на босые его ноги внимания никто не обратил), купил кусок сырого мяса, а в кафетерии, располагавшемся тут же, два вареных яйца и, чувствуя небывалую свободу и распирающее нутро здоровье, пешком пошел в Сергиев. Он шел, то отдаляясь от шоссе, то приближаясь к нему, шел по утоптанным грибниками и дачниками тропинкам, и внутри у него все пело. Так прошагал он несколько часов подряд. Вдруг голоса вновь настигли его. Они упали сверху, как паучья сеть, опутали голову, лишили дыханья, в ушах снова зазвучали грозовые разрывы, стал слышен слабый эфирный треск, заныл далекий, еле разбираемый, но все же явно таящий в себе угрозу женский голос. Тут же послышался и крик петуха. Вслед за криком женщина позвала внятно:
– Дим, Дима… Вернись! В Москву езжай… В Отрадное…
Не отдавая себе отчета в том, что делает, Серов вышел на проселок, ведущий к шоссе, стал останавливать машины, идущие в сторону Москвы.
Ломающая нежные стеночки висков тоска, раздирающая нервные волокна в клочья лекарственная лихорадка обрушилась на него вновь…
«Там за стеной…
За разбухшим от влаги забором…
Там Калерия… Там ее тело… Любовь там… Рай…»
Хмурый таксист, возвращавшийся из дачного поселка, куда возил старый, никому не нужный холодильник, покряхтев, взял-таки босого пассажира. Взял, конечно, из-за неожиданно предложенной высокой платы. Такси, попрыгав по ухабам проселка, выскочило наконец на Ярославское шоссе, и носовой голос, донимавший последние полчаса Серова, зазвучал отчетливей, ярче:
«Дима… Дим… Ты где? Езжай в Отрадное… Я буду там ждать тебя…»
Внезапно Серов выхватил из кармана плаща взятую с собой неизвестно зачем вишневую, купленную когда-то для сына блок-флейту, три или четыре раза в нее свистнул.
Голос Калерии тут же пропал. Ехать в Москву стало незачем.
– Я здесь… Здесь сойду… Остановитесь! – заторопился Серов. – Мне не туда… Мне в другую сторону надо… В Сергиев…
* * *
– Ты че, паря, заснул?
– Зачем ты так в лавре?
– А где ж? Я, брат, дьявола везде вижу! А в лавре – тем паче.
– Место святое…
– Правильно, святое. Вот и надо было беса этого шугануть оттуда. Глядишь, бес теперь вместе с монахом оттуда и уберется. Так! Так надобно! А то, ботинки снял! Носочки! Моча в голову! Кал на стене!.. Часа через два в другое место нагрянем. Там помогать мне будешь… А в кармане-то что за книжка? – спросил внезапно Колпак.
Серов вынул и подал Колпаку «Школу юродства».
– Так и думал! – крикнул Колпак и вмиг мелко изорвал и рассыпал вокруг листочками осенними брошюру. – Сектаторы гадят! Не смей больше и в руки брать! Теперя марш за мной в другое место!
Другое место оказалось дискотекой, в которую их долго не хотели пускать.
Наступил уже вечер. Голоса не возвращались. Серов после колпаковского «кощуна» в лавре отошел, ожил, чувствовал себя вполне в своей тарелке, словно всю жизнь тем лишь и занимался, что Христа ради юродствовал.
– Заплати! – повелительно сказал Малый Колпак. Серов заплатил за вход, они вошли. Серов ждал, что Малый Колпак тут же начнет действовать, но тот отчего-то медлил. Колпак долго стоял бездвижно, даже закрыл глаза. А когда открыл их, в глазах – узких, глубоко запавших – вставали слезы.
Колпак мягко отодвинул от внутренней двери, ведущей в танцзал и завешенной тонкими висюльками, какого-то верзилу в униформе, стал угол двери страстно и бережно целовать…
Верзила захохотал. Серову от мокрых едких взглядов стало жарко, тошно. Он оттащил Колпака в сторону, зашипел ему в лицо:
– Зачем ты… Зачем… в лавре плюнул… А здесь… В вертепе этом стены целуешь?!
– Затем. Там бес вокруг лавры вился! Видел я его. Оттого похабы творил. Потому и плюнул в него! А здесь – ангелы стайкой на двери висят. Плачут! Дальше войти не смеют! Тех, что внутри, жалеют. Пошли! Внутрь пошли! Вот те кадило. Нет огня в нем и дыма, а ты все одно – маши! Маши, когда укажу. Счас, только выберу которую обмахивать, счас, счас…
Он несколько минут оглядывал пристально редких танцующих, затем выбрал самую развязную, самую размалеванную женщину в легком, ярко-голубом платье на молнии. Малый Колпак подскочил к ней, оттолкнул от нее партнера и в короткой и грязной своей полусвитке-полукурточке, в дурацкой лыжной шапочке, по-жеребячьи вокруг женщины запрыгал.
Гогот и свист понеслись сначала откуда-то сзади, а потом и со всех концов танцзала. Опешивший партнер стоял и лыбился тут же. Внезапно Колпак крутанул женщину на месте, обернул ее к себе спиной и с треском, потянув до самого низу, раскрыл молнию на платье. Платье упало. Женщина в легких трусиках продолжала смеяться и плясать, а к Колпаку двинулись два мордоворота из охраны.
– Маши! – крикнул Колпак Серову. Серов стал неуклюже махать пустым кадилом, Колпак выкрикивал что-то плохо разбираемое на старославянском языке, танцующие начали разбредаться по углам, многие ушли курить.
– Одна! Одна здесь останешься! Все уйдут! Все! С кем похоть творить станешь?
Внезапно Колпак упал перед женщиной на колени, прижался щекой к остроносой ее обувке:
– Тяжко тебе будет! За это люблю тебя! И за похоть – тоже люблю! Что не мертвая – люблю!
Женщина, все еще млея от общего внимания к тучноватым своим бедрам и аккуратно разведенным в сторону грудям, чуть отдергивала от щек Колпака туфли, продолжала пританцовывать, крутиться. Тогда Колпак кинулся к сидящему у аппаратуры диск-жокею, всем телом резко повалился на крутящийся лазерный диск, на рычажки, на цветные лампочки… Музыка встала. А Колпак двинулся к выблескивающему в полутьме лунными огоньками бару. Звон высокий, звон чистый, зеркальный, а затем звон грубый и низкий, бутылочный, треск ломаемых стульев, визг кидающегося на хрупкие полки со всего разбега Колпака резанул зажмурившегося Серова по ушам.
Дискотеку закрыли. Колпака крепко побили. Серова помяли.
– Завтра! Завтра, – торжествовал выкинутый на улицу Колпак. – Завтра не то, паря, узришь! Не то испробуешь! Танцы что? Танцы – финтифирюльки ребячьи! А ты, паря, шибко интеллигентный. Хотя, может, это и ничего. Был во время оно даже князь-юрод… Сам царь в монастырь некий приехал однажды. Глядь, а князь этот в юродах на паперти обретается. «Личность эта нам знакомая, – сказал царь игумену. – Поберегите мне его…» И поберегли. Но это потом расскажу… Так что до завтрева, до завтрева…
* * *
Тихой серой мышью Ной Янович Академ перешмыгнул больничный двор.
Уже несколько дней он содержался Хосяком в палате № 30–01. За пределы отделения Академа больше не выпускали.
Ной Янович перешмыгнул двор и вклинился морщинистым и сухоньким, как щепка, но удивительно живым и подвижным тельцем в густой, кисельно-белый воздух 3-го медикаментозного.
Он на секунду задержался в дверях, прикидывая, чем бы сейчас призаняться: погонять по туалету Рубика или поклянчить витаминов у молоденькой ординаторши-практикантки. И ребячье сознаньице Ноя Яновича, годное ныне лишь для недолгих и несложных мыслительных операций, тоже на миг замерло, как замирает маленький шарик ртути из разбитого градусника на краю стола.
Как раз в этот миг, миг замиранья и несложных размышлений, на шею Ною Яновичу опустилась чья-то рука. Он был дерзко и нагло ухвачен за шкирку, поднят в воздух и все никак не мог повернуть назад свою коричневую от бессмертной старости мордашку, чтобы разглядеть обидчика. Крик «Ратуйте!», уже готовый сорваться с рудиментарно-раздвоенного языка, к языку этому словно бы и присох: обидчик сам развернул к себе обижаемого. На Академа внимательно, с медицинским прищуром глядел заведующий 3-м отделением.
– Вы меня как-то в последние дни избегаете, Ной Янович… И это весьма печально. Кто же прячется в туалете? А под солярами зачем целый день сидеть? Дни-то еще погожие…
– Имшш… мшш…
– Да не шипите вы. Я понимаю: вися в воздухе, отвечать не очень-то удобно. Но что поделаешь. Сами виноваты.
– Эмм… ффсс…
– Да вы и не говорите ничего. Вы, Ной Янович, только головкой вашей рахитической в ответ на вопросы мои кивайте: да или нет. Вопросы-то давно назрели. Итак, вопрос первый: вы в последние дни много общались с этим отвратительным изготовителем ядов, с Воротынцевым. В палату инсулиновую зачем-то заскакивали. Он что, собирался через вас еще какие-то писульки на волю передать? Да или нет?
Ной Янович, только что готовившийся дурашливо, может, даже на коленях, выпрашивать витамины, молчал, голову держал ровно и прямо.
– Так. Ясно. Перехватим покруче.
Хосяк, одной рукой свободно удерживавший Ноя за шкирку, поднял его к самому своему лицу:
– Я тебя сейчас кверху ногами у себя в кабинете подвешу. И лекарства вводить буду. Знаешь куда? У тебя что в трусах, гнида? А в карманах? Ну, говори: передавал с тобой Воротынцев что-нибудь за стены больницы? Кивком: да или нет?
Ной Янович продолжал вылупленными глазами бессмысленно и тускло глядеть мимо Хосяка, глядеть в одному ему видимую вечность.
– Ну тогда все. Зажился ты на этом свете. Помрешь, а с нас никто и не спросит. Возраст! Тебе лет сколько? Девяносто с хвостиком. Воротынцеву пятьдесят было. А помер, бедняга, без звука. Он ведь тоже, дурачок, не все понимал…
Академ в руках у Хосяка дернулся, попытался что-то крикнуть.
– Да не хрипи ты, Ной Янович, сделай милость! Все равно ведь никто не услышит. А услышит… Защитников у тебя тут нет. Кроме меня, конечно. А то ведь, не дай бог, Полкаш с Цыганом про художества твои узнают. Что тогда? Они ведь очень неинтеллигентные люди. Очень!
Хосяк еще на сантиметр приблизил к себе Академову мордашку. И тот, не выдержав направленного взгляда, прикрыл наконец веками слезящиеся, в желтых пятнышках глаза, как бы давая понять: он ответит.
– Так-то лучше. Ну-с, стало быть, еще один вопрос. Последний. Но по существу. Вы жить хотите? Отвечайте – и кончим разговор.
Ной Янович привык жить. Привычка эта была крепкой, неизбывной. Вопрос Хосяка был дурацкий. И сам Хосяк, по мнению Ноя Яновича, был круглый дурак, имбецил. Кто же спрашивает о жизни? Но на всякий случай, чтобы больше этого кретина не сердить, Ной Янович бешено закивал вверх-вниз головой: да-да-да!
– Ну, тогда шагом марш ко мне в кабинет! Остальное там договорим.
Хосяк легонько опустил безвесное тельце на пол, при этом тельце в воздухе изящно развернул, задав ему нужные направление и скорость.
Ной Янович упал на четвереньки и сначала так, на четвереньках, на второй этаж и побежал. При этом он даже тихо порскнул от смеха: так это новое положение ему понравилось. Но потом, вспомнив о зловредном шутнике, оставшемся у него за спиной, быстро встал на ноги и степенно и, как казалось ему, соблюдая достоинство, присущее всем докторам наук, засеменил наверх.
А наверху приняла его в объятья Калерия:
– Раздевайтесь, Ной Янович.
– Чего, чего это! Я здоров, здоров… Мочусь хорошо! Сахар в порядке!
– Так Афанасий Нилыч велел. Да вот он и сам идет.
– Что ты с этой гнидой разговариваешь! Ишь моду взяла! Готовь серу!
– Нет! – не закричал даже, – завизжал Академ, которому лет пятнадцать назад серу в наказание уже вводили. – Нет! – он кинулся к Калерии, как обезьянка, прижался к ее ногам, лизнул языком пахучий подол белого халатика.
– Ну, Ной Янович! Ну, не надо, успокойтесь! Афанасий Нилыч пошутил.
– Нет-нет-нет-нет!
– Тогда снова вопрос, – Хосяк взъерошил пальцами непослушную свою шевелюру, – черт с ним, со всем тем хламом, что у вас в карманах болтается. И с тем, что вы в трусы зашили. Оставьте себе на память. Воротынцеву никакие листы больше не нужны. А нам не в историю же болезни бумажки эти подшивать! Вас мы сейчас отпустим. Да я и хотел всего только по попке вас за одно дельце отшлепать.
– По поп… По поп…
– Да, да, по попке! Подглядывать нехорошо, Ной Янович!
Ной Янович, который действительно не далее как вчера вечером подглядывал за Калерией и Хосяком, устроившимися в кабинете последней, заполыхал густым коричневым румянцем.
– Очень, очень нехорошо.
– Я не бу… не бу… боль… – Ной Янович потупился.
– Ну, прощаю вам. Я ведь добрый. Всех прощаю, потому как что с вас возьмешь? Да вот и Серов этот, тоже хорош гусь! Убежал и пакет наш увез. Он-то, может, случайно увез, а мы теперь мучайся! А вы ведь в палату к нему заходили. Сидели даже у него на кровати не раз. Знаем, знаем. Мы, конечно, не думаем, что это вы ему пакетик взять подсказали, да заодно и бежать помогли…
– Ни-ни-ни…
– Но ведь когда он, симулянт, лежал с закрытыми глазами, делал вид, что от шока отходит, вы-то, конечно, его вещички слегка перерыли? Да и под матрац наверняка слазили… Так ведь?
– Под матрац – ни-ни! Я только подушечку! Подушечку шевельнул! Простынку приподнял толь…
– Ну а там конвертик лежал или пакетик. Так? А на нем значилось: в Прокуратуру Российской Федерации…
– Ни-ни-ни! Какая прокуратура! Какая! Я прокуратуру в руки бы не взял!
– Ну так, значит, частному лицу…
– Цастному, цастному!
– Ну, а раз частному, – стало быть, вам и бояться нечего. Стало быть, и сдавать вас в прокуратуру никто не станет.
– Не ста… не ста…
– Ну а адресок-то у этого частного лица в Новороссийске или в Харькове?
– Какой Хайков! Москва! Москва!
– Ну так вы мне на бумажке адресок этот и нарисуйте. Память-то у вас о-го-го! Марра помните? То-то. Я вас с Калерией Львовной оставлю, вы ей и нарисуйте. И никакой серы! Да, кстати. Серов этот к вам неплохо относился, вы с ним вроде как друзья были.
– Друззя-друззя-друззя…
– Ага. Ну и сказал он, наверное, где в Москве живет да где дачка у него?
– Сказай, сказай. Не мне, Воротынцеву сказай… А я подслушал. Нехорошо, нехо…
– Ну, один раз оно, может, и ничего – подслушать. Да и подсмотреть тоже. А? Только вот чего я не пойму. Вы ведь уже старик дряхлый. Зачем вы за мной и Калерией Львовной подсматриваете? Неужели все еще удовольствие получаете?
– Получа… получа…
– Хорошо. Учтем. Доставим вам такое удовольствие еще разок. Завтра в машине с нами проехаться не хотите ли? Мы ведь с вами тоже теперь друзья?
– Хоти-хоти-хоти…
* * *
Серов сидел на каменном заборе близ лавры, ждал Колпака. Тот запаздывал. Утро сияло томное. Серов после вчерашнего скандала в дискотеке чувствовал себя на удивление собранно и уверенно, манера поведения Колпака ему неожиданно понравилась, и, хотя поначалу было тяжко и стыдно смотреть на вывернутое наружу чужое нутро, он решил при случае действовать сходным образом.
«При юродствовании христианская святость прикидывается не только безумной, но даже безнравственной… Попирая тщеславие… Да, именно, попирая тщеславие, действует Колпак. А цель? Цель ближайшая – поношение от людей… А при поношении что происходит? То и происходит! Выявление противоречия между глубинной православной правдой и гадким, да к тому ж и поверхностным смыслом происходит! Потому-то жизнь юрода есть непрерывный перескок да качанье: от спасенья нравственного к безнравственному глумленью над ним!» – размышлял про себя Серов.
«Посмеяние миру несем! И уж в дальнейшем не мир над нами ругается – мы над ним! Да, так! Вся та неправда, которая царит и в мире, и в России, требует исправления, требует корректировки христианской совестью… Потому-то юродивые так на Руси и ценились. Но то давно было. А теперь… Теперь надо… Надо на дачу… На дачу надо… При чем здесь дача?» – поперхнулся он про себя непонятно откуда просочившимся в мозг словечком.
«На дачу… На дачу… Вернись на дачу… И в Москву не надо ехать! Рядышком ведь… На дачу съезди…» – опять забуйствовали, забурлили, запетушились в голове внезапно проломившие какой-то заслон голоса.
Серову казалось, что теперь он мог бы юродскими мыслями и действиями (встать, дернуть лоток, опрокинуть шкатулки и брошки, растрощить ногами двух-трех Горбачевых деревянных) голоса пресечь, исторгнуть. Но ничего этого делать он не стал. «Может, и правда съездить? Лену попроведать. Ушел ведь как? Ушел тяжело. Поговорить, объяснить. Про Колпака рассказать. Жаль, Колпак разорвал брошюрку. Там интересно было. Но и так Лена поймет…»
«Съезди… Съезди на дачу…»
* * *
… – Часа три назад и уехали. Ну, может, два с половиной.
Серов тяжело переминался с ноги на ногу. На дачу он примчался все в тех же музейных тапочках, но потом, не найдя жены и идя с расспросами к соседке, переоделся в легкие летние кроссовки.
– Сначала вошли, поговорили с Леночкой и уехали. А опосля вернулись да ее с собой и забрали. Она, конечно, не очень хотела ехать. Но уговорили, видно. Потом женщина-врач увидела, что я из окошка выглядываю, подошла. Милая такая, обходительная. Сама из себя стройная, высокая, даже халатик ей коротковат. «Невроз, – говорит, – у бедной Елены Игоревны. Оно и понятно: за мужа испереживалась. Да и время такое… неспокойное. Ее друзья нас и вызвали…» Жаль, фельдшер, тоже высокий, но костистый такой, растрепанный, – мне он не очень понравился, покрикивает, а сам еле рот раззевает, – жаль, фельдшер не дал договорить. Высунулся из «Скорой», стал звать докторшу.
– Как он ее называл?
– А никак. Просто крикнул: «Пора, едем!» А она про себя мягко так, интеллигентно, голоском воркующим: «Иду, Афанасий Нилыч, иду!»
«Хосяк!»
Руки Серова задергались, сжались в кулаки. Чтобы судорожными движениями рук не взвинчивать себя еще больше, он намертво сцепил их перед собой.
– А и нечего вовсе вам беспокоиться. Они сказали: только на две недельки ее положим. Сначала, сказали, в Абрамцево отвезем, а потом через день-другой, может, в Москву, в клинику на Донскую улицу переправим. Так что там ее и разыщете.
«Хосяк! Сволочь! Лену! Она-то при чем!»
Серов тут же решил ехать в Абрамцевскую больницу, хотя и чувствовал: напрасно ехать, напрасно в больнице этой искать!
Как он и ожидал, больную Серову никто в Абрамцевской больнице и в глаза не видел. «Зачем, зачем она им! Им ведь я, я нужен! Куда они ее увезли? Неужели на юг, в 3-е поганое отделение? Банда! Банда!»
Пометавшись по пристанционному Абрамцеву, дважды позвонив из здания местной администрации в Москву, на Донскую улицу, в специализированную клинику неврозов им. Соловьева и там жены тоже не обнаружив, Серов решил немедленно ехать в Сергиев, поговорить обо всем с Колпаком. Тот хоть и юродствовал, но ум, сметку и знание многих сторон жизни иногда выказывал поразительные. Если ж и Колпак ничем не поможет, тогда будь что будет (даже если он «засветится», если заберут его, начнут раскручивать, если отдадут на растерзание прокурорам!), тогда будь что будет – Серов решил идти в милицию. Пусть там над «голосами» и над петушиными криками издеваются! Пускай! Так даже лучше, слаще!
* * *
Новенькая, со свежими ранками крестов «Скорая», покружив около лавры, спустилась окольным путем к Красногорской часовне, медленно попетляла по Заречью, опять выскочила наверх, к лавре.
Серов, так и не сумевший разыскать Колпака, сидел на земле, близ валютного магазина, закрытый и от блюстителей закона, и от туристов, вообще от всей праздной толпы столиками с какой-то лаковой дребеденью. Матрешки с яйцами, Горбачевы-Ельцины деревянненькие томили, мучили его. Он собирался ехать в Москву, но почему-то не мог подняться. Чтобы не видеть всех этих лезущих в душу отлакированных деятелей, Серов опустил голову, закрыл глаза.
Вдруг шерстистая, словно бы обезьянья, лапка мягко мазнула его по щеке.
– Но… Ной Янович? Ты? Е-мое… Жидила ты мой прекрасный! Лена у вас?
– Уас, уас… Конечно, уас… В машине, в машине она… Пойдемте! Они вам ничего, ну ничегошеньки-таки не сделают! Вы скажите им только, где листочки… Доктора Воротынцева нашего листочки…
– Воротынцев жив?
– Жив! Жив и здоров… Чего ему, пердунчику молочному, сделается? Листочки назад просит! Ошибся! Ошибся он! Уж вы листочки отдайте. Вы ведь их никуда не отправили?
– Не отправил.
– Ну так и отдайте…
– Не могу. Мне Воротынцев строго-настрого наказал. Просто я в Москву не выезжал, а по почте не хотел отправлять…
– Ну тогда скажите только, где они спрятаны… А жену заберите… Или обманите их! Скажите: листы там-то! А их там и нету! Они поверят, поверят!
Ной Янович от радости и возбуждения дважды подпрыгнул на месте.
– Скажите им, что листочки у вас в Москве припрятаны! Они шасть туда! А вы – тикать, тикать! Подъем, пошли!
Ной Янович опять засмеялся, крепко ухватил коричневой лапкой Серова и сквозь толпу зевачего люда медленно поволок его к стоявшей у аптеки, близ выезда с лавринской площади «Скорой».
Из-за машины ловко вывернулся наблюдавший за приближавшимися Серовым и Академом Хосяк.
– Ну, наконец-то. Здравствуйте, пропажа! – Хосяк попытался улыбнуться, но улыбки у него не вышло. Лицо заведующего отделением выражало нетерпение и злость.
– Лена здесь?
– Здесь, здесь. Можете забирать свою драгоценную! Мы ведь ей только помочь хотели, извелась она с вами вконец! Так что берите! – Хосяк кивнул небрежно на задернутые занавесочки «Скорой». С переднего сиденья сквозь открытое ветровое стекло сладко и загадочно улыбалась и кивала утвердительно головой, словно подтверждая: «Здесь Лена, здесь», Калерия. Серов подошел к двери, ведущей в салон, подумал о том, что и в самом деле извел жену, рванул дверь на себя и, получив сзади короткий, хорошо рассчитанный удар костяшками пальцев в затылок, провалился в небытие.






