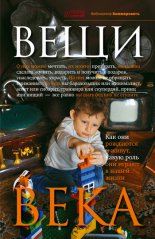Проводник электричества Самсонов Сергей

— А вы бы в зоопарк сходили — там каждая вторая морда такое же желание внушает.
— Не вариант, — насилу он осклабился, — зверьками тут не обойдешься, все зверьки — уже ты. Вон у Олега сколько их, и Альма, и Васса. Смотрю, а это ты напрыгиваешь лохматым псом-придурком и лезешь мокрым носом прямо в морду.
Шли по лесу, она остановилась, такая беззащитная, беспомощная перед тем, что свершалось — судьба, которую не выбирают… судьба, которую ты можешь выбрать, — уже не судьба… он больше не мог, шагнул подхватить под лопатки, пристать как к кислому железу лыжной палки при минус тридцати по Цельсию — она смирила, удержала, выставив ладонь, и он узнал: и так бывает — сердце бьется вне тела, еще не в ней, но рядом, об нее, как нетопырь сморчковой мордочкой в стекло… вот лишь бы вырваться из тесноты на волю… так оно ринулось, знакомо, но в то же время с небывалой силой, как в детстве при мгновенном подозрении, прозрении о смертности родителей, при снизошедшем знании, что от них отделен, не можешь им помочь, захочешь — не поделишься своей молодой огромной силой, чтобы продлить их век, чтобы оставить их с собой… что всемогущий исполин-отец — не навсегда, что мама — будет не в кого уткнуться, в горячий мягкий бок, в пружинящий живот… Но тут, сейчас страх умер в нем, сгорел, и сердце упало ей в горсть и забилось, и он мог жить его биением в Нининой ладони, и это было выше и нужнее, чем бессмертие.
Тайм-аут
1
Водка была ледяная, на матовых боках бутылки четко отпечатывались папиллярные линии; прозрачны были водочные линзы в рюмках, поросших снежным мхом, яичница дымилась, пучила глаза, скворчала на чугунной сковородке, под помидорной кожицей ходила целиком, насквозь просоленная мякоть с навязчивой отдушкой смородиновых листьев, кетовая икра в стеклянной толстостенной банке казалась вымазанной клеем; большая керамическая пепельница полнилась раздавленными, смятыми окурками, белесым пеплом отгоревшей злобы, чадящего молчания, гаснущего слова, лениво тлеющего разговора, в котором мысль в любой момент готова снова раскалиться оранжевым острым зрачком, царапнуть огненными искрами стеклянный черный лоб глубокой ночи.
Нагульнов: Как она ножками своими там — как струнка, будто вся поет. Не гнется, не ломается… ну, чудо! Ну я ж смотрел, сначала думал, что просто ладненькие девки, все вот такие в талии. Потом вот понял. Это сожрать нельзя, ты понимаешь? Все можно — вещи, деньги, все это тухлое харчо из телевизора… А это не жуется, это сама и есть моя Машутка в натуральном виде — сейчас вот разбежится и прыгнет на меня, как в детстве, с ногами, обовьет, прикажет: «Папка, на верблюде!» Она так кружится, как будто она уже не человек, не из костей и мяса, а из какой-то чистой радости… как будто лист, как будто паутинка на ветру… да разве это скажешь? — не мог остановиться, выпускал, выпихивал заветно-нутряное, закадычное, все то, о чем долго молчалось, все то, что не металось перед свиньями, — смысл службы, значение жизни. И вот приходит кто-то, и это чудо — раз, ломает… вот просто схавать, как котлету… он, понимая это так, с корнями рвет ее из жизни… из мира, да, который, может, потому лишь и стоит еще, что Машка в нем есть… есть оправданием всему творящемуся блядству. Мое он оправдание ломает, мой смысл выбивает из-под ног… и что ты мне с таким прикажешь делать? Эх, сбил ты меня с панталыку, сюита! А впрочем, и не ты, ты много о себе не думай… не ты меня сбил — еще раньше во мне прежней воли не стало. Ведь что со мной было-то, как Машка потерялась и нашлась? Ну вот когда уже в больнице мы, когда я к ней туда прорвался. Вот это чувство… знаешь…
благодарность… за то, что живая, за то, что сберег ее кто-то как будто. Вот чудо, вот, и больше ничего не надо. Да, да, кто-то там наверху будто смотрит на нас… ну, не на нас… мы разве стоим этого?.. но на нее, на Машку точно! Вот тут-то все во мне и сдвинулось… я сам еще не понял, что, но это вот оно и было. Я этих выродков забыл… не то чтобы простил, но их не стало, без разницы они мне стали, ничто, зола в сравнении с возобновленной Машкиной жизнью. Не так все сразу, да, конечно, вот раз — и простил, но вышел я от Машки уже другим каким-то, и все, что делал дальше, было как-то… уверенности прежней больше не было… была бы — стал бы я с тобой цацкаться, сюита. Да выбросил тогда бы просто на ходу.
Камлаев: Уверовал, значит?
Нагульнов: Смеешься, да? Нет, в церковь, знаешь ли, не побегу — неловко буду чувствовать себя, со свечечкой. Я в Машку верю, в девочку свою. А тут выходит, сама жизнь вместе со мной в Машеньку поверила, такими же глазами смотрит на нее, моими, и так, как я, про Машку думает, вот совершенно солидарен вдруг я оказался с жизнью — что не должно ей быть ни унижения, ни беды, вот не имеет права с нею быть такого.
Камлаев: А если бы было? Иначе бы было? Жизнь поступает с человеком сплошь и рядом так, как не имеет права поступать… и может мать спросить, отец, и может муж — у жизни — за что ты так с моим ребенком обошлась? Ну, хорошо, допустим, грех, допустим, мерзость, преступление, допустим, кара — это справедливо, но честных и чистых за что, младенцев за что, которые и глаз не разлепили, а боль и смерть у них уже в крови? Что же Господь себя являет человеку в таких ничтожных малостях — замироточит там, слегка повеет здесь… покажет легковерным олухам незамерзающую прорубь, а самолет с детсадом на борту срывается в штопор и поезд летит под откос? Ну вот и получается: когда все хорошо, ты веришь, ты благодаришь, ну а когда беда, ты проклинаешь, ты рвать на части всех готов.
Нагульнов: Ух ты какой! Ты прям как этот… ты как искуситель.
Камлаев: Твое сознание просто начинает приводить реальность в соответствие с твоими нуждами. Ты будто говоришь вот этой вышней воле: следи за мной каждую минуту, храни меня, люби меня. Такой Бог нужен человеку. Вот так человек понимает спасение. А пригвозди его параличом к постели, смети за парапет «КамАЗ» его ребенка, его жену, его отца, он начинает ненавидеть, он сразу проклянет и Промысел, и всех смеющихся цветущих невредимых девушек, и вышнюю волю начнет считать обманкой, лишь порождением собственного слабого ума — все ненадежно, все обман, практических свидетельств нету, зато есть рак прямой кишки и смерти во младенчестве. Вот и выходит, друг, что Промысел и Бога ты только потребляешь: чуть припекло, чуть объявили повышение цен на жизнь и на здоровье, как тут же все стремглав в церковный супермаркет, к иконе чудотворной. Они кривого выправят, больного исцелят, бесплодному дадут зачать. «Подай» да «пожалей» — припахивает страхованием жизни и имущества. Раньше хоть люди были готовы пострадать и потрудиться, но быстро маятник качнулся к мольбе о пересмотре приговора, к выклянчиванию лучшей, предпочитаемой судьбы. Хочу такой, а эта не подходит, работы слишком много, напряжения, а проку мало, сытости нисколько, и смерть близка, и койка холодна — а ну подай-ка мне другую участь. А не поможешь — вотум недоверия объявим. Чем извлекать из Бога прок и пользу, не лучше ли себя спросить — что должен ты? Ты будешь что-то делать, тварь? Прекрасно зная, что никто и никогда тебя не защитит, что ты один — ты будешь что-то делать? Кто кому должен: ты — Творцу или напротив? Само твое рождение уже есть чудо неоплатное, одной смертью тут и можно выйти с Богом в ноль… так нет, мы все Иовы, у нас вопросы, пожелания, претензии… вот как бы извернуться так, чтоб слабость наша незамеченной осталась, непослушание, лажа, дурное исполнение, неточное, а вот беду, вот горе наше под микроскопом чтоб рассматривали и чтобы сразу взяли под крыло.
Камлаевский Бог таил Себя в неодолимой дали от людей — так что ты становился как былинка в заснеженном морозном поле под черным ледяным беззвездным небом, — и в то же время был повсюдным веществом первоистока, универсальной передающей средой, которая не знает ни милосердия, ни злобы, ни справедливости, ни людоедской страсти и не имеет свойств, помимо абсолютной проводимости: все было готово к приходу человека в этот мир, заведено, запущено, как некие вселенские непогрешимые, великой, совершенной точности, часы; законы — основоположены, и дальше они действовали сами, без воли и участия двуногой твари, и дальше человек порой лишь приводил их в действие своей мелкой деловитой суетой (так, тронув мелкий камешек в горах, нечаянно в движение приводишь грохочущую лаву, но даже это только маленькая осыпь, так, звон и цоканье ничтожных камешков, в сравнении с каждым из которых ты — муравей в сравнении с валуном). Эта вышняя сила никого не щадила, не то чтобы никого не различала, но различала по-другому, не так, как ты хотел — вот кто поручится за то, что Вседержитель не потратил гораздо больше сил и времени на зубы крокодила, нежели на пригляд за человеческой участью? Так говорил Камлаев.
— Так ты совсем отказываешь в милости? — не выдержал Иван.
— Это тебе отказывают в милости. Зачем ты так упрямо навязываешь вышней силе свои соображения о справедливости и почитаешь справедливость Господним целеполаганием? Я назову тебе десятки, сотни мразей, которые сдохли опрятно и чисто, дожив до девяноста и во сне, я назову тебе десятки, сотни крепких, самоотверженных солдат, которые у Бога умирали трудно, похабно, унизительно, во сраме, как будто издевательским ответом на мольбу о непостыдной, красной смерти. Твой дед не был праведником, но он был хороший солдат, трудолюбивый, честный муравей, — он трудно умирал, паскудно… я много задавал тогда себе вопросов, ну а потом я понял… ну, то есть ничего не понял, разумеется, ибо нам вечно суждено иметь перед глазами лишь клочок вот этой тени… Но то, что понял: благодарность — вот в человеке чувство самое нестойкое. Когда приходит вера к человеку? Какая-то вспышка, какая-то искра, хоть тень, хоть подобие? Когда ему страшно, когда ему горько и больно? Я думаю, что нет. Наоборот — в момент прямого чувства совершенства мира: вот что-то поднимается такое при виде глаз ребенка, улыбки женщины, танцующих полотнищ снегопада, аляповатой точности в нелепо-хаотичной пестрой толкотне каких-то бабочек над лугом… становится так пусто и так чисто… дань восхищения немого опустошенностью Творца, который, сделав землю, тварей, весь передал Творению Себя… вот эту дань отдать немая силится душа, такая еще слабая, такая еще куколка, младенец, а может быть, уже и немощный старик, настигнутый на жизненном краю вот этим озарением… вдруг появляется какой-то смутный стыд, какая-то еще неведомая нежность, вдруг ясная решимость распрямляется в тебе не извратить вот этот дар, не испохабить, но это лишь мгновение, дуновение легчайшее. Служить ведь трудно, бездействовать и гадить легче. Поэтому вот эту благодарность в человеке надо испытывать всерьез, на собственной шкуре почуять человеку дать, что все это всерьез… что не бывает полу-полу… полупризнательности, полубезразличия, полутруда и полулени… нельзя быть теплым, да, нельзя быть полу-неизвестно-чем… и всех суют вот в эту печь и кочергой шуруют в ней вслепую, так что неизвестно, кто через мгновение окажется там… сегодня ты, а завтра я… а дальше в этом жаре кто-то рассыпается, а кто-то твердеет, нещадно прокаленный так, что ничего в нем, кроме этой благодарности, уже не остается.
— Это каким же ты таким страданием очистился? — Нагульнов толкнул.
— Да ну, каким страданием? Где там очистился? Я ровно прожил… вот этот временной отрезок. Без бед, без резких сотрясений, вот сладко, по большому счету. Жизнь вообще была как приложение к музыке, ну вроде есть внизу какая-то утроба, которую необходимо чем-то набивать и можно чем попало. А главное — не сам ты, а произведение. Не сразу это понял, что жизнь необходимо тоже пестовать, как звук… что вообще она становится такой, какой ты ее сделаешь. Вот я и сделал: смотрю теперь, и мне становится страшно. Своих я оставлял в беде и немощи — вот грех. Грех пренебрежения своими, и никая печка не нужна, в такую пустоту ты сам себя вгоняешь. Оглянешься — и никого…
— Да брось ты — «оставил». Кого ты оставил? Твоя жена, она не делась никуда, дурилка, здесь. В отличие от…
— От Машиной матери.
— Догадлив, сюита. Машку на свет произвела — сама через это жизни лишилась. Ее кесарили, неправильно сшили, швы разошлись, инфекция — и все. Вот тебе факт, а у тебя что, дура? Я вот бы все отдал за то, чтобы возвратиться в ту минуту, чтобы поправить, чтоб было все не так, как вышло, но жизнь такого фортеля не может предложить. Смотрю на вас и мне смешно. Ведь вот же, вот она живая. Ты только руку протяни. И что бы там меж вами ни было, это не важно в свете того факта, что вы с ней оба еще здесь, по эту, сука, сторону. Ты плюнул ей в душу — она зашипела… и что из этого? Конец? Какая б ни была обида, в пределах жизни все поправить можно.
Камлаев вскочил: и в самом деле что же это он?.. езжай, разговаривай с ней, необходимо, чтобы кто-то упрямо продолжал гнуть эту линию… на общее бессмертие, об этом кто-то должен говорить, напоминать, и Нина говорила с ним все это время — как об стенку горох, как камень в пустоту, — просила, чтобы вспомнил. Теперь настал его черед, быстрей, сейчас, пока она еще не целиком оторвалась, пока не объявила внутренне себе: хочу одна, хочу еще одну, другую жизнь.
— Пошел я… прощайте, бродяги. На вот, — Ордынскому швырнул ключи, — ночуй в Кривоколенном. Про телефон не забывай. И матери соври там что-нибудь попроще, а то она весь мозг мне уже выела. Давай, мент, и смотри, особо не лютуй. Бо-бо им сделай и отбрось… зачем тебе питаться уже падалью?
2
Легко сказать — соври. Себе бы что-нибудь соврать. Назвать по имени все то, что с ним произошло и что сейчас творилось. Теперь Ивану не поправиться, прежним не стать. Нет, не сказать, конечно, что эти восемнадцать лет он прожил в мире, сплошь населенном добрыми мужчинами, прекрасными девчонками, безгрешными детьми.
Нет, то, к чему себя Иван готовил — необходимость с малолетства обучиться врачебной хладнокровной твердости и небрезгливости, — конечно, предусматривало соприкосновение с неумолимой данностью: анатомичка, морг, мертвецкие тела на мраморном столе, с раскрытой грудиной, с отпиленной чуть выше надбровных дуг коробкой (тут больше топографии, ориентации на местности и даже восхищения мелочно-продуманным устройством человеческого тела, нежели насилия, боли) и, главное, люди, которые высохли до предпоследнего предела, с руками-ветками, с глазами такими, что не передать… которых надо было переодевать и помогать доковылять по коридору до залитого солнцем пернатого, щебечущего сада, до лежака, до кресла; дед объяснил: «Знать, что с больным, врачу постыдно недостаточно, врач должен знать не что, а каково ему и быть не наблюдателем — участником боли, иначе в высшем смысле как врач ты жить еще не начинал». Но — гневаясь на человеческие унижения, живя далеко не в бредовом раю сектантских брошюрок о жизни праведников после конца света, не в этом насквозь пропитанном солнцем саду, где громоздятся ящики с отборными бананами и дети всех цветов, в сметане и в смоле, посапывают сладко на траве в обнимку с ласковыми львятами — Иван был все равно спокойным жителем пространства нормы; жизнь подчинялась правилам, закону, такому же безгрешно-безотказному, как расписание немецких железных дорог.
Все лютые, бессмысленные зверства имели уже будто оттенок легендарности, казались отмененными, изжитыми, такими же далекими, как дыба и испанский сапожок; то, что творилось в «наше время», имело сущность виртуальную: отчетливая, выпуклая правда в естественных цветах — «как жаль, что телевизор не может передать вам запахов» — не ранила, не задевала; «Литой свинец», «Буря в пустыне», самоподрывы воинов джихада, оборванные люди, женщины и дети, которые стенают и размазывают слезы по щекам, сгоревшие спички обугленных трупов, мазутное пятно, мокрое место от того, что дление кратчайшее назад было живым, смеющимся, прожорливым, лукавым, культяшки африканских мальчиков, на костылях скакавших за мячом, — две трети суши, «третий мир» были затоплены стеклянной толщей отчуждения: увидеть можно, но нельзя соприкоснуться.
Мелькавшие на голубом экране серии документальных кадров, снятых как художественные, художественных — как документальные, воздействовали на рассудок соединением чувства абсолютной защищенности и крепкой веры в то, что с этим мраком, кровью, дикостью однажды, очень скоро, будет кончено: с яичным порошком, сухими завтраками, вакцинами от гриппа, малярии, столбняка, антибиотиками, спутниковой связью, компьютерами, лучшими умами и руками хирургов, инженеров, педагогов, «мы» к «ним» туда проникнем и «их» обогатим наукой, искусством, технологией, посеем семена терпимости, участия, благорасположенности, научим уважать различия и непохожесть, и морок розни, расовой, национальной, кастовой, религиозной, спадет, развеется — как инквизиция, ГУЛАГ и Бухенвальд… придет понимание, что назначать себе так много чужих среди своих уже нельзя… естественных страданий и смертей и так, и без насилия, без противопехотных мин, достанет всем надолго, навсегда.
Иван был сыном собственного времени, цивилизации, культуры, университета и в это верил крепко; дед в это верил крепко, хотя был сыном времени другого и видел, как немцы жрут русских и русские — друг друга… что жизнь должна стать лучше после нас, для этого мы, собственно, и удобряем собой почву будущего, без этого дороги нет, в таком лишь взгляде на предназначение человека есть величие.
Иван никогда не был один, к его услугам были школа, любой из университетов, ученый мир, в котором чтили деда и привечали мать, полиция, адвокатура, суды, закон — система институтов, которые кормили, опекали и от которых он, Иван, зависел, как от подачи газа, электричества, от промышленной выпечки хлеба, ни дления кратчайшего не помышляя, что газ может кончиться и полки в магазине опустеть.
Да, в жизни было все, чем дальше на восток, домой, в Россию, тем страшнее… перед глазами у него, в конце концов, стояло побитое стеклянной крупой, беспамятно-пустое и глупо-изумленное лицо отца, который все никак не мог поверить, что он не превратился в вещество… разорванный отцовский «Мерседес» в десятке шагов от Кремля, но все равно Иван был отделен от этой жути непробиваемым стеклом.
Иван не сомневался, что сможет жить все время со своим характером — то есть замкнутым и самоуглубленным мономаном, трудолюбивым, поглощенным, юродивым в известном смысле, то есть человеком совершенно безобидным, безответным, терпимым, незлобивым, наверное, испуганно-слабым. И вроде мир Ивану позволял таким остаться — нестойким, шатким, мягким, неуверенным, и все сломалось, опрокинулось вверх дном за истекшие сутки: жестокий ужас твари, мгновенный паралич, слепая пустота под сердцем… визжащая, ярящаяся Маша… не мускульная слабость, нет, но то, что называется «кишка тонка», при столкновении с деятельным злом, с безумными спокойными глазами капитана, живущего в несокрушимой власти над слабыми нутром, — такими, как Иван. И стало ясно: нет, нужна сопротивляемость и сила, такая чистая, нерассуждающая злоба, которая была в первоистоке жизни, у пещерных… нельзя быть выше зверя, когда перед тобой только зверь; есть положения, минуты, когда быть слабым, «добрым» — грех, равновеликий полному уничтожению души, порой от человека требуется правда немедленного действия, чтобы остаться человеком. Удар, кусаться, грызть, а побежишь, сожмешься в ком, изображая жертву, — стыд будет жечь тебя до окончания дней.
Перед лицом трех милицейских выродков Иван стоял один — лишь силой собственного существа был должен отвечать, и столь ничтожной оказалась эта собственная сила. Реальность, что Ордынский привык считать единственной возможной, распалась и сползла, мгновенно оголился неизменный скелет людского бытия, раскрылось человечье нутро, которое не переделать… Иван совсем не думал о страшной русской власти, о местном беззаконии, о вековом пренебрежении отдельно взятой человеческой жизнью, не думал о системе повиновения и потворства злу — все это были частности, абстракция; реальность — это то, что творится с тобой здесь и сейчас, в конкретном месте, как на кончике иглы, и только этот кончик жизни, раскаленный добела, имеет значение, и здесь ты должен сделать выбор между жестокостью и слабостью.
Внешний закон и внутренний запрет, страх наказания и здравый смысл — все это только радужная пленка на воде, там, в глубине, все неизменно и вытекает из фундаментальных свойств природы человека: недаром ведь ветхозаветный Вседержитель «передумал», признал такого человека Своею страшной ошибкой, раскаялся, что создал, и истребить постановил людей с лица земли.
Ивану представлялось, у человека много тормозов, врожденных или только что изобретенных: естественная робость, пиетет перед детьми и женщинами, страх перед загробным воздаянием и прижизненной расправой, чувство достоинства, мужская честь, физиологическая, да, в конце концов, брезгливость, и интеллект, и здравый смысл (не для того ли в высшем смысле придуманы все банки, биржи и кредиты, чтобы сместить ядро борьбы за выживание с кровавого поля войны в бесплотную область идей о достатке, богатстве, могуществе?). Но амплитуда колебаний между человеком и приматом не сделалась ^же: для вырождения, утраты тормозов достаточно минуты, и нечего и думать, что возможно согнать всех выродков в специализированное гетто, навечно отделить всех чистых от нечистых.
Он думал, что едва ли он сам, Иван, способен на обратное движение; он думал, что его-то самого уж точно обтесали, сузили, что сам он точно уж в ограничительных тисках, что злоба, что больное желание мучить людей, унижать — все это за пределами его, Ивановой, натуры. Что даже если б захотел, то все равно не смог бы переделать своей природы, сущности и так бы и продолжил жить с вот этим страхом сделать больно другому человеку. И вроде бы уже побитый, поднявшийся, снедаемый позором и виной, он все равно собой оставался прежним, не могущим среде предъявить ничего, кроме «стойте, пожалуйста, прошу вас, будьте человеком».
Таким, собой неизменным и приходившим в содрогание от этой неизменности, метался он по Каланчевской и Новорязанской улицам и умолял помочь… и только выпуклые от спокойной ярости и будто смеющиеся глаза капитана-ублюдка сказали ему о другом. Вот тут-то в нем, наутро, при Нагульнове, и щелкнуло; кровь загудела, зазвенела, и в этой раскаленной пустоте, в накате ярости, убившем начисто страх делать больно и себе, и гаду, Ордынский и схватился за железку — прошитый, прокаленный чужим, как будто снизошедшим на него богопротивно-праведным инстинктом. Со страшной глубины, из древнего пласта, который отстоял от тверди, от мозговой коры на миллионы лет, пришла вот эта поглощающая ярость, каким-то мощным акустическим ударом, сверхплотной тембровой массой, спрессованной из хруста костей на челюстях… и наводнила, переполнила, вошла в химической состав Ивановой крови… И не сказать, чтоб это состояние ему противно было — как гибель человеческого, как вхождение во грех. Наоборот, так оказалось сладко почувствовать себя другим, безмозглым и железным, берущим власть над слабым человеческим устройством подмятого тобой, почуявшего страх.
3
Из этой власти, из способности давить, как чистое железо, состоял всецело вот этот человек, который оказался Машиным отцом и чьи повадки, облик, нрав воздействовали на Ивана соединением восхищения и неприятия. Никаких тормозов у Нагульнова не было — вот внешних, установленных чужим умом и волей, — но были внутренние правила, то, что осталось в донных отложениях души после выпаривания энного объема сырого вещества, пропитанного внешними запретами.
Нагульнов явно рос, формировался в поле такого напряжения, такой кромешной злобы, которые Ивану и даже Эдисону и не снились. Он был убийцей — если можно считать солдата на войне убийцей; он был, скорее всего, вором, вымогателем, но гадом, конченой мразью не был… наоборот, был нужен — такой, какой есть, — чтоб те, Шкуратов с присными, из «Форда», не взяли в этом мире окончательную силу. Дальше предела, самому себе поставленного, Нагульнов не двинется; в нем все, в его душе, сформировалось, схватилось ледяными связями и отвердело, как в самую мертвую стынь.
В Иване же, напротив, все теперь кипело и выворачивалось будто наизнанку: познавший унижение бессилием, он вдруг поймал себя на том, что хочет сам в отместку унижать. Там, на Лосином острове, в лесу, куда они все вместе привезли Шкуратова и выгрузили связанного, жалкого у ямы, Ордынский видел, что творилось с капитаном: упрямый, крепкий, еще мгновение назад смеявшийся Ордынскому в лицо, тот моментально скис, стал дурачком, захныкал, вмиг повалился в ноги — целовать, и он, Иван, почуял вдруг, что наслаждается чужой немощью, соплями, вот не мольбой уже, а визгом, хрюканьем, измученным шипением о пощаде.
Вот это-то его в себе и напугало, обратной тягой вожделения вынуло из ямы, и он так и остался между жестокостью и слабостью — опять беспомощный, раздерганный, потерянный перед реальной сложностью своей натуры, такой, казалось бы, простой и цельной.
Поразил Эдисон: встал на третью сторону, на сторону живого, теплокровного, того же самого, который утыкался некогда курносой морденкой в теплый мамкин бок, который обещался некогда беречь и защищать природу… И это было странно: Камлаев же не верил совершенно, что в «этом» что-то шевельнется, что «этот» еще может, грубо говоря, исправиться, на что-то, кроме страха животного, способен… да нет, с культей совести, достоинства, закона ты ничего уже не сделаешь… не верил, но сказал: «Мразь — это сокращенный, но все же тоже человек».
Вода перестала шуметь, с шипением резать воздух; Нагульнов в ванной чем-то погремел, вернулся — литой, толстошеий, способный двигаться, казалось, только по прямой и напролом. Со взглядом, в упор вынимающим душу, он был так не похож на антилопьи нервную, устремленную ввысь, исчезающе тонкую Машу, свободную, как листик, как пушинка, — дочь чаще бывает похожей на мать, сыновья на отца, — хотя не так ли корни, толстые, могучие, уродливо-кривые, не схожи с тянущейся к солнцу изящной ажурной кроной, но составляют с нею целое, безостановочно и неустанно ее питают земляными соками и получают от нее… ну, что там идет от ветвей, молоденьких клейких листочков, от солнца? Иван был совершенный материалист, естественник, но все-таки порой ему казалось, что женщина есть плотское, физическое предъявление в мире мужской души, до плотности света сгущенная мысль мужчины о своей любви, как говорил Камлаев; вот точно так же Маша была нагульновской мыслью о правде, чистоте, о самом близком и родном. Нагульнов не мог быть законченным гадом — Маша была его великим оправданием.
Мы, черт возьми, не так уж много знаем о собственном геноме, читаем отдельные буквы, но далеко еще не в силах составить эти буквы в сущие слова, в послание, в предложение, в завет: рост, вес, цвет глаз, курносость, волосатость, облысение… — вот это нам доступно, но кто же знает, кто расскажет, какую весть несет в себе, собой семя, какая музыка звучит при этом в сокровенной женской тьме, в готовой к оплодотворению клетке, что там творится в этот миг — непримиримая вражда или, напротив, совершенный консонанс? Что составляет вещество и сущность будущего человека, как получается, выходит, вырастает из двух слепившихся, лишенных защитной оболочки клеток подонок, душегуб, силач, красавец, умник, очередной неподражаемый Пеле, вот всякий раз, божественно, неотвратимо — кто-то новый, единственный и небывалый, не подлежащий повторению, обыкновенно-земнородный, смертный и чудесный?
— Иди-ка ты, парень, поспи. Найдешь там у дивана одеяло и подушку.
— Хочу спросить. Вы когда… ну, вот когда вы человека бьете, вам это нравится?
— Насилие — не карамелька с ромом, парень. Кто начинает с карамелькой за щекой, кончает в проруби или в болоте, как Шкуратов. За ним приходят рано или поздно. Насилие — это зачастую единственный способ решить все в свою пользу, когда тебя по-настоящему припрет, тебя и малых сих, которые зависят от тебя, от твоей силы, от твоих кормящих рук. Ты можешь полжизни прожить в тиши и благодати, но ты должен знать: в любой момент придется выбирать. Как между «жив» и «помер». Будь готов.
Иван поплелся спать и знал, что долго еще не уснет, несмотря на разбитость, на слабость: все было зыбко, все отчаянно непримиримо. Бог видит развращение человеков на земле и истребляет их за это с лица земли, готов всех до единого, Бог судит на уровне целого и не прощает никого — почему человек на уровне частного должен прощать? Любить друг друга? Один лишь Христос, но явленный Христом пример, императив настолько не от этой жизни, настолько этого задания человеку не исполнить — благословлять нас ненавидящих и бьющих… нигде нет «прости», непосильно нам это «прости». Так немо стало сердце у Ивана, так он ослеп — не отыскать дороги. И все-таки брезжил какой-то рассеянный свет, достигал, вдруг становился ясным и простым, как материнское тепло, таким же прочным, неослабным: живая, невредимая, лежала Маша в институте имени покойного деда Варлама, и становилось хорошо от этого до замирания, как перед любовью, которая все-таки сбудется, и, засыпая, он, Ордынский, угодил будто бы в летнюю пуховую метель и, сам пушинка, Иван-чай, несущий семя, освобожденно полетел, подхваченный неодолимой тягой и совершенно зная, где и с кем спасется.
Не срастить
1
Все, все выходят замуж «после», но только не она, она-то знает, что надо ждать мертвого так, как живого… — он говорил себе ублюдочно-себялюбиво, набедокуривший ребенок, сказавший обидное слово и знающий, что мама только на мгновение стала для него чужой и что бы он, Камлаев, ей ни сделал, она простит, спасет, притянет, возьмет в свое великое тепло, ей любящей вот этой силы хватит навсегда… Какая же он все-таки редкостная тварь, как он привык все взваливать на Нину, всю работу по поддержанию того, начального тепла — пусть ползает, пусть собирает хворост, пусть мечется по клиникам, врачам, как вдоль решетки по вольеру, пусть что-нибудь сделает со своей закупоренной маткой, так, чтобы он, Камлаев, мог продолжиться, возобладать над окончательной чернотой.
При полном безветрии он замерзал; стынь навсегдашняя, отсутствие Нины, земельный холод, медленно вливавшийся в него, Камлаева сковали, давая почувствовать смерть… как это будет… сидел на скамейке у детской площадки, заставленной раскрашенными в теплые и добрые цвета железными снарядами, глядел на жестяные мухомор, ракету, горку, карусель, на валик, укрепленный между двух столбов, чтобы залезть и побежать, как белка в колесе, — «мам, я не падаю… смотри, смотри, не падаю»… и повалиться, разбежавшись, удариться затылком оземь или клюнуть носом, чтоб мать метнулась с надломившимся лицом… перепуганной курицей, самкой… скорее схватить, ощупать с ног до головы счастливейшего дурака.
Чужие дети, визг и гам, их совершенная серьезность и сосредоточенность на играх в «дочки-матери», в «больницу» — приехал «муж», работает водителем грузовика, привез зарплату, «жена», слюнявя пальцы, пересчитывает листочки подорожника, единственные деньги, какие есть у Бога для детей, и каждой весной делает их заново, вливая в природу зеленую кровь, — смотреть на это все она спокойно не могла, вид детской площадки был Нине мучителен: их легкая тяжесть, расчесанные боевые ссадины, вот черствая корочка на содранной коленке, так хочется отколопнуть, увидеть розовое, свежее под омертвелой частицей плоти… как на собаке заживает, как ящерка отращивает хвост…
А он, Камлаев, думал о том же самом по-другому: вот эта мысль, что никогда… возможно, никогда… не будет он — его, камлаевская, капля — тянуть короткие и пухлые ручонки к ленивой старой толстой кошке Мурке, огромной, как тигр, едва ли не больше тебя самого, что никогда не будет строить он железную дорогу, водить летучих конников Буденного в победоносный сабельный поход, расквашивать о наледь нос, хватать во весь объем груди морозный острый воздух, став на мгновение царем горы, облитой скользким блеском, чесать Манту, сдирать коленки, бить всей силой по бесподобно звонкому мячу, не будет спрашивать «есть мозг костей, а кости мозга есть?» и про него уже не скажут никогда: «а колотушка-то у паренька что надо — отсушит ручонки любому ловиле»… — вот эта мысль то хоронила заживо, то повергала в безысходную удушливую ярость: не мог простить он жизни, миру, Нине бесплодия физического тупика.
Взлетел по лестнице и долго не мог найти ключи — неужто обронил? Нашел, как отмычку, проник. Как будто их опять, его обворовали, уже и он, как мародер, пришел взять что осталось, то, чем побрезговали те. Жемчужно-серым светом неопределенного времени суток был наводнен весь дом, времени не было. Внизу проснулась, зашумела поливальная машина и поползла под окнами, с шипением вылизывая струями проезжую и тротуары, сбивая пыль, выкрашивая в черное, блестящее, натертое до блеска круговращением щеток на предельных оборотах — вот это ощущение обновления, когда казенный чистильщик шумит и радуга перед тобой опадает капельным ковром, бьет колкой моросью в лицо, и кажется, еще возможно новое рождение, другая жизнь, так в это верится.
С грабительской осторожностью прокрался в свой, хозяйский, кабинет, стряхнул пиджак, стянул фуфайку, туфли… немного постоять под душем… пол в ванной, душевая, кафель — все осветилось, будто операционный блок в больнице, — «осмотр и вскрытие производятся…»
2
Она сидела на кровати, привалившись спиной к стене, обняв колени, и подалась к нему лицом, вот с этой знакомой до морщинки материнской гримасой раздражения, со скрытой за маской раздражения тревогой — ребенок не в том возрасте, когда в него, не унижая, вцепиться можно и вести через дорогу за руку, но все равно метнуться хочется, предостеречь, окликнуть «Стой! Не смей! Подальше отойди от края!»… порой она становилась похожей на мать — камлаевскую мать, варламовскую Нюшу, при всех различиях в рисунке, лепке лиц… и в эту самую минуту, после всего, после «не мать», «не женщина» похожей была — неужто все еще могла простить его, простила?
— Что там с Иваном? Что сейчас? Ты почему не отвечал? «Все хорошо» не в счет… — она спросила быстро, с честным нетерпением: жить дальше будем врозь, но есть еще дела, остались еще общие страховки, машины, судебные приставы, арендная плата, невзысканный долг, перевод на твой счет моих двух с половиной тысяч евро.
— Ивана не похитили за выкуп, спецслужбы ни при чем. — Он начал, скот, в своем репертуаре… неужто веришь, тварь, что Нина сейчас фыркнет, не в силах подавить смешка? — Ордынский-старший в Лондоне может спокойно играть в бридж с потомственными лордами, не опасаясь экстрадиции на родину.
— Во что ты втравил его? — поторопила Нина раздраженно: есть покупатели на дачу? Ты рассчитался за ремонт? Был у нотариуса, нет, а почему? не хочешь продавать? А кто там будет жить? Я не хочу, а ты один — не будешь.
— Мартышка попросила помочь устроить Ваньке личное существование, и я ему его устроил.
— Да-да, я, кажется, уже об этом что-то слышала, — она ковырнула с ненатуральным, не своим смешком. — Кривоколенный, девочки-подружки. Заодно и свою подлатал-подновил… личную жизнь. А я-то думаю, а почему мне так не нравится с недавних пор там у тебя, в Кривоколенном? А вот поэтому — там все пропитано чужим… или чужими? — Ее передернуло, лицо искривилось, как будто подвели к чему-то, что остается после очистки города от кошек, от собак, к тому, из чего делают сельскохозяйственные удобрения.
Замкнулась наглухо, глядела уже сквозь, не застревая, сухой водой, в пустое место, и он, Камлаев, заспешил, почуяв, что сползает под откос, вцепляясь в рассыпавшуюся глину, в корневища:
— Так вот, насчет Ивана — шел с этой девочкой, Машей, — три выродка в погонах наехали и не спустили. Вседневневная пожива рядовых сотрудников, насилие, низведенное на уровень быта, — пожрать, покакать, изнасиловать. Короче, искупался наш Ванька, в чем не следует. Девчонке голову разбили, прекрасной огненной такой девчонке, а этот, тот, который сегодня наскочил на нас с тобой в джипе, — ее отец, сам тоже милицейский. — Камлаев налетел на «нас с тобой», как лбом на косяк, и загнулся от фальши. — Все живы, хорошо, что так все кончилось, поскольку если бы не так, тогда бы этот милицейский папа насильников бы точно в землю вбил. Он таких шуток вообще не понимает. Да, я надеюсь, Лелька ничего об этом не узнает, а не то, чего доброго, кое-кого придется экстрадировать в обратном направлении. А Иван — он на пороге большого и светлого чувства. Я, конечно, сказал ему, что будет целый короб у него больших и светлых, но он, по-моему, заложился на то, что эта будет первой и последней… — цеплялся скрюченными пальцами, и корневища узловато, безжизненно-белесо, мохнато выдирались из земли, ничто не держало, сползал по глинистому склону на топкое, водой сочащееся дно.
Совместно нажитое имущество было поделено — квартиры, машины и дача.
— Я ухожу, Камлаев, — сказала она будто не своей силой.
— Что? Это как? Куда?
— Как — это правильный вопрос. Я ухожу насовсем.
— Что? — Он все вложил вот в этот выдох, скот, что помогло бы ей, заставило непогрешимо вспомнить, кто они есть, что они с Ниной из другого вещества, чем все другие земнородные: как не разрубишь пополам магнит, они не выживут поврозь… а если выживут, тогда TEFAL — единственный, кто в самом деле постоянно думает о нас. — Это как насовсем? Это, что ли, навеки? Ты можешь сейчас что угодно, но ты же знаешь: мы не можем.
— А что мы можем вообще? Я не мать. Нет у меня такого органа, я не баба вообще. А ты не отец, ты больше не ты, не Камлаев. Я больше тебя не люблю. Нет, подожди, — тут вскинула ладонь, будто накрыв ему затрясшиеся губы, не зло, не жестко, нет, — с какою-то покорностью тому, что же совершилось: если бы плюнула в лицо ему сейчас — менее страшным это было бы, чем этот жест ее прощальный и прощающий. — В тот день, когда мы вышли с тобой от Коновалова… сперва была еще какая-то надежда, я думала, мы сможем, победим… тем более Коновалов, Коновалов вернулся из Америки, великий человек, который и бревно заставит забеременеть… а тут даже он разводит руками… все, все во мне убил. Не он… он что?.. он… как сказать?.. посредник, Коновалов, вот только и всего. Твое лицо в ту самую минуту, когда ты все узнал, в очередной раз, двадцать пятый, окончательно. Мне надо было все понять уже тогда, по твоему лицу. А потому что как? Я помнишь, загадала, да?.. тогда, у заветного дерева? Ты понял, что… нетрудно было угадать, что просят все бабы, одно и то же, испокон веков, фантазии ведь нет у идиоток совершенно. И ты уже увидел тогда растущий у меня в воображении живот, а я понимала, я больше, чем знала, что ты почувствуешь, когда я дам тебе его — твоего, от тебя. Какая это будет твоя гордость, какая это будет наша прочность. Всем это важно, а тебе… тебе особенно… ты так боишься смерти, ты не знаешь, что даст тебе жизнь вечную… теряешься в догадках… вот если бы ты был уверен, что хватит только звука, да, но ты же не уверен… Нет, возвратиться в звуке — это слишком мало для тебя. Тебя вообще тут нет, ведь в музыканте человек немеет. А вот в пределах рода ты бессмертен точно. Ну, хорошо я тебя знаю? Правда, хорошо? Когда появляется вылитый ты, то это уж наверняка и никакой вечной мерзлотой не пожрется. Я, дура, заранее гордилась собой, представляла, как я покажу тебе, да, и как ты будешь прислоняться, слушать… мне это представлялось таким простым, обыкновенным делом, как будто уже сбывшимся, как будто наступившим, ведь миллионы баб спокойно, со вторника на среду, раз — и все, готово пузо. Я так хотела быть как все, мы же на самом деле лишь для этого, ну, в высшем смысле, в самом примитивном. Мы для того, вот я — чтоб дать тебе вот это примитивное бессмертие, родить тебя еще один раз, заново, Камлаев… это и любят в бабах, то, что мы как будто тоже ваши матери, от вас рожаем — вас же самих, без этого дороги нет, внутриутробная вот эта наша пустота, она, Камлаев, страшная. Мне что-то раньше говорили про недостаточность просветов, но успокаивали тут же: не страшно, только вы особо не тяните, лучше сейчас, чем после тридцати. Спешите. А я не спешила. Я с Темой не спешила, как будто не хотела даже в самом деле, как будто потому что знала, что буду рожать от тебя. И дождалась вот, да. И принесла тебе не пузо — справку: простите, сожалеем, нереально. И знаешь, что я стала делать? Сопротивляться, да, с тобой, совместным боем… ты хорошо старался, делал свою вот часть работы, но с каждым разом все механистичнее… и знаешь, что я стала делать? Я стала ей завидовать… ну, это слабое, конечно, определение для чувства, которое испытываешь, да, к той новой, будущей, которая заступит мне на смену и сможет дать тебе, что не могу дать я. И я бы это поняла, смирилась… — уже с каким-то говорила она покойницким спокойствием, с душевнобольной, овощной покладистостью, — я просто бы свернулась, осталась засыхать, как муха между рамами зимой. Но только это вообще тебя не волновало, это отсутствовало напрочь у тебя в башке. Не я, со мной все ясно, я пустая, со мной только оставалось потерпеть немного из приличия, из чувства вины и так далее… но ты вообще не думал ни о ком, как выясняется, ни обо мне, ни вот об этой будущей, которая тебе родит… ты был один, самодостаточный, довлеющий, сам для себя, и тебе это нравилось, ты по-другому не хотел. Я приняла бы совершенно твое желание начать все заново с другой, это желание было бы нормальным, и неприятие твое чужого, не твоего, не нашего ребенка я тоже бы могла принять, с сопротивлением, но принять. Но только тебе вообще не нужна, выясняется, обыкновенная живая жизнь с любой нормальной бабой, не нужна крепость дома, взаимная зависимость всерьез, вот это знание, что кто-то не предаст, как не предашь ты сам, и даже детский крик тебе уже не нужен… возможно, ты хотел когда-то этого, но только не сейчас — сейчас ты предпочел забросить это, не держать в себе лишнего. И я увидела пустого человека, который ничего во мне не вызывает. Вот только сожаление, жалость, сознание совершенной никудышности моей. Ведь это ты приписывал мне, да, такую силу, которой я, конечно, никогда не обладала… ты наделял меня сознанием моей огромной важности, вот этим пониманием, насколько я нужна. Я думала, что оскорбила тебя своей неспособностью, что я не оправдала, да, оказанного мне тобой высокого доверия… не стала матерью тебе, не разродилась твоей точной копией, я думала, что это тебя мучает, я верила, что это твоя жизнь, что ты живешь со мной этой бездетностью, но ты так далеко на самом деле был уже от этих мест, и с этим удаленным Эдисоном я больше не имею общего… не то чтоб даже не хочу иметь, а не имею — медицинский факт… — Губы ее шевелились и больше ничего не выпускали.
Схватил ее ладонь — как птичьи высохшие кости… глядела на него из мертвого далека, не отзывалась ни единой жилкой, и он — как безголовое, глухое, бессмысленное нечто, названия и подобия не имевшее, — последнее сделал, что мог: приник, прилип к ней, как ребенок ко всепрощающей, всесильной матери, как зверь к детенышу — накрыть собой, и отогреть, и отогреться самому… взял в жалкие ладони омертвелое лицо — зацеловать, всю исходить шажочками… пусть только отзовется, оживет. И будто знал, что этим не спасется, объятием, движениями тесными, и безнадежно пил с ее остывших, занемевших губ, как из последнего холодного и горького ключа, не в силах ни насытиться, ни оторваться.
Освобождал, выпрастывал ее оцепенелое, глухое, тише травы, безропотное тело, шептал, хрипел ей в ухо наугад, что это не она бесплодная, а он, что это вот его лечить и проверять… ей дастся, ей поверят, ее не могут не услышать, не утолить ее простого праведного голода, и все поправится, все сбудется и через не могу, и будет расти мальчик или девочка… выталкивал бесправно, самозванцем:
— Ты тоже забеременеешь, тоже!
И Нина начинала биться в его помоечных ладонях, рвалась, металась, вскидывалась, била, изворачивалась — освободиться от него, спихнуть; загубленно шипела: «Ты все во мне убил… все наше… убирайся…», но он держался крепко, не отпускал, все гнул, судьбу ломая, жизнь поворачивая вспять, и черный ветер продувал насквозь, распахивая стены, а не окна, и чем теснее прижимался к ней, чем яростнее и жестче вжимал ее в себя, тем все страшнее становился ветер, неутолимей — одиночество.
Вся жизнь, что миновала, хлынула внатяг, потоком музыкальных нечистот, которые он произвел за тридцать с лишним лет, с урчанием урывая лакомый кусок из воздуха, едва звенящего каким-то смутным обещанием, войти надеясь в строгий рай и выпуская едкую, кожесдирающую слизь… струей кипятка из прорванной гармони отопления, подкрашенной кровью бурой отцовской мочи, текущей в мочеприемник на ноте «ы-ы-ы-ы»… и, обжигаясь, пропадая, приклеиваясь кожей сиротливо, он только в Нине находил себе последнюю убогую защиту.
Он будто вталкивался в тесный черный лаз, и это было как рождение навыворот, обратно; мир сокращался, обступал, давил, своим уничтожающим нажимом породив как будто предсмертную белую вспышку сознания, в которой уместилось все — от вольного холода церкви, в которой крестили трехлетним его, до раскаленной смрадной пустоты последующей взрослой пожизненной свободы… и Нина вдруг, будто Камлаева прощая, ему раскрылась, до конца его услышала, вся сделавшись отлитой будто из камлаевского сердца и выбив слезы, слезы от того, что никогда никто еще не был ему так близок, как Нина в эту самую минуту, и ничего не сделать с тем, что это кончилось.
И вечная частица жизни в этот миг — с зубовным скрежетом так трудно умиравшего отца и с первым детским криком самого Камлаева — прошла сквозь него, чтобы продолжить бытие его в горячей сокровенной тьме жены его.
Долг платежом…
1
Нагульнов вспоминал ту пустоту, которая разверзлась с исчезновением Маши, как не осталось ничего — один сквозняк смерти, свистящий в его ребрах; Нагульнов вспоминал вот этот ледяной безвидный совершенный мрак и думал о тех людях, которых сам он бил и истязал, вымучивая показания и выжимая миллионы денег. Сажал на ласточку, подвешивал ногами кверху, бил по башке, по почкам, яйцам и делал это все давно уже без удовольствия, без наслаждения чужим страданием — свободно повинуясь вошедшей в кровь привычке и зная, что насилие — единственный и самый верный инструмент приобретения достатка и установления справедливости.
Еще два дня назад ему бы, Железяке, показалось смешным раздумывать о том, что было для него естественным телодвижением. Он — власть, хозяин, царь. Но в свете истины, последней, в чистом виде, истины — как ни крути, а от него воняло смертью. То, как все было устроено в системе, вот при его, нагульновском, участии, как раз чуть не убило его девочку, могло сломать, перековеркать, обесчестить — короткими рывками продвигаясь в растянувшейся автомобильной пробке, он вдруг с нещадной резкостью увидел соединившееся «все» этой системы, этой практики, весь смысл которой в производстве унижения и боли, и он, Нагульнов, тоже всем составом, всем существом лишь гонит по цепи вот эти унижение и боль, в обмен получая обманное чувство господства над стадом, контроля над жизнью.
Да, до поры ты — воплощение абсолютной силы, наделенной неотторжимым, нераздельным правом на убийство, но это для того, чтобы в один обыкновенный день ты вдруг почуял, что жизнь тебе уже не повинуется, что больше ты, как раньше, не имеешь этот мир, поставленный раком, неуязвимость твоя кончилась и безнаказанность упала тебе обухом на темя.
Теперь, когда немного отошел, избавился от морока беды, увидел в полной мере все: как близко был его ребенок от погибели. Уж он-то знал, теперь узнал, с какой болью врезается в кадык вот эта практика, уж он-то знал, как все устроено в ночном пространстве между пультом и решеткой обезьянника: переборщил с битьем и пыткой — остановилось сердце человека, загнулся виноватый или невиновный от внутреннего кровоизлияния после удара сапогом по голове или в брюшину, после «нечаянного» падения с лестницы или вот только начал загибаться на глазах, минуты все решают, но только кто же будет при таком раскладе «Скорую» в отдел-то вызывать, себя топя и нежильца спасая?
Все можно — бить, убить, лишь одного нельзя — чтоб это было запротоколировано, чтоб это вышло за пределы ОВД, чтобы сработала с мгновенной неумолимостью вышестоящая машина и завертелись нехотя и ржаво шестеренки страшного расследования, что там у вас в отделе происходит вообще. Ты вроде и не зверь, но понимаешь, что эти шестеренки могут превратиться в жернова, и зажует и перемелет самого тебя, если сейчас поднимешь трубку: примите вызов, приезжайте к умирающему, которому у нас тут голову разбили. Поэтому — завесить тряпкой камеру слежения над входом, впихнуть в мешок еще живое, дышащее тело, взвалить в багажник и отвезти в лесочек закопать. И как тут Маше кто-то вызвал «Скорую»? Бог, да, — хорошая гипотеза, но все-таки был должен и человек найтись, обыкновенный, земляной, зашуганный, в маренговом мундире с маленькими звездами, покорный, целиком подвластный системе человечишко. В ту ночь, в той смене, среди патрульных, оперов дежурных — некто, поперший против коллектива и возвысивший свой одинокой голос в пользу жизни его, нагульновской, дочурки. Он пискнул «так нельзя», уперся рогом — зная, что после этого ни дня в своем отделе он не проживет… затравят, выдавят, сожрут. И все-таки уперся, рука не налилась бессильной тяжестью, не рухнула на стол — до телефонной трубки доползла, его, нагульновскую, жизнь подняв над уровнем воды. Вот было тоже чудо — животный, подконтрольный, слабый человек, который иногда преображается в чуть более высокое, ответственное существо, и значит, вправду в слабое устройство твари что-то такое вдунуто, до самого конца неистребимое. И если надо «тем» воздать по их делам, то вот и этому неведомому парню — Нагульнов тоже должен, в неоплатном.
2
Милицейский «Лендровер», заныв прерывисто, зауйкав повелительно, настиг Нагульнова, подрезал. Черная туша генеральского седана с трехлучевой звездой над капотом и номерами высшей расы под решеткой радиатора, мурлыча дорогим мотором, подползла; охрана брызнула бегом, открыла дверь хозяину. Казюк — дородный, рослый, медвежьего сложения, похожий на бульдога упрямо-жесткой брыластой мордой — поднялся с заднего господского сиденья, пошел к Нагульнову с окаменелым, надломленным отцовской мукой лицом; медвежья его лапа на длинном шаге ожила, качнулась по привычке сцепить рукопожатие с товарищем, но опустилась, рухнула по шву, налитая неправомочностью приветственного братского движения.
— Это что ж ты меня — арестовывать? — Нагульнов без улыбки вытолкнул.
— А надо, Толя, надо? Все знаю, все. Прости, — хрустело битое стекло, ворочались усильно в генерале рычаги, собирая слова, подавая их вязко, с натугой наружу. — Подонок, выблядок, зверюга… вот дожил… надо было жить, чтобы узнать: твой сын… чтоб собственного сына выродком назвать и не найти ему другого слова. — Казюк терпел, скреплялся, глаза воспаленно моргали, не хотели смотреть. — Все извратил, сучонок… честь, — с бессильным стариковским хныканием, как над могилой. — Ты ж знаешь, мы вместе, мы оба легавые псы… мы двадцать же с тобой лет… я жизнь положил на то, чтоб оказаться там, где оказался, прошел весь путь от рядового опера до главка, замминистра… и тут мне это — в морду, в брюхо… само мое семя… кем я продолжаюсь? — надорванно выкрикнул. — Нормальный же парень ведь был. Служил исправно. Я, я его воспитывал. Ты веришь — нет: он вот такой еще, два вершка от горшка, и уже — «кем хочешь быть?» — «Милиционером». Сгною, заставлю землю носом рыть… своей бы собственной рукой, веришь — нет? Ну ты прости меня за то, что все так! У меня никогда, ты же знаешь, не было отца. И сына — этого вот сына — долго не было, он нам такой кровью с Татьяной достался… Ну что ты молчишь, Анатолий? Ведь я же тебя знаю. Ты меня, Толя, дважды спас. На трассе, помнишь?.. когда из обреза дуплетом. И вот он я сейчас стою перед тобой, — тобой спасенный дважды, отец подонка, да, который во всем виноват, — и я прошу тебя, не делай ничего, не надо. Конечно, это было бы с моей-то стороны… но Машка-то жива. Не надо, не крути ты это ни по закону, ни по справедливости: не должно это всплыть… ну, не переживу я этого. Ты ж знаешь, не за место я держусь… ну, не могу я так уйти, уж лучше пулю в лоб… поверь, мне хуже, чем сейчас, уже не будет. Ну, хочешь, удалю его из органов? Ну, хочешь год его в подвале — на хлебе и воде, пока не осознает, выродок… я сделаю! Ну что ты молчишь?
— Слушаю. — Нагульнов смотрел прямо на старого товарища, но будто отворачивался, глаза отводил — как от больного, как от умоляющего стука по стеклу: за Казюка было давяще, тупо больно, но только и силы простить в Нагульнове не было… застрял Нагульнов в щели, в тисках между прощением и отмщением, стоял, не в силах двинуться ни в ту, ни в обратную сторону.
— Слушаешь, но не слышишь! Услышь, прошу тебя как старого товарища… да, мразь, но я его переломаю, я сам его заставлю осознать, он сам к тебе однажды на карачках приползет. Какой бы он ни был, я не могу его тебе отдать. И мне сейчас придется тебе это сказать: если хоть что-то ты, если одно только движение в направлении… я буду знать, что это ты, и я не прощу. Ну, ты меня услышал? — В глазах Казюка колыхнулось горячее звериное нутро, готовность рвать любого за свое отродье.
— Я думаю, что и ты меня тоже. — Нагульнов не чуял ни злобы, ни жалости — одну лишь неопределенность, скованность каким-то снизошедшим слабоумием, так, будто не вполне и помнишь, кто ты есть, кем был все эти годы от рождения… ни звания, ни назначения, ни имени.
3
Трехсотая квартира, триста первая, за общей железной дверью — общий коридор; он позвонил — долго никто не шел, не лязгал, не хрустел замками.
— Кто? — с интонацией «что воля, что неволя…»
— Туманцев Олег Николаевич здесь проживает?
Молчание, шорох, легкое и женское как будто бессильно стекло по стене. Нагульнов уперся ладонью в звонок:
— Откройте, женщина, хорош дурить. Я из милиции, подполковник Нагульнов, угрозыск.
— Уходите, — с ненавидящим шипением.
Нагульнов жал, не отпускал:
— Открой, дуреха. Хуже не будет — будет лучше. Помочь, помочь ему хочу.
Замок захрустел, жена Туманцева с распухшим, омертвелым, отнявшимся лицом замерла на пороге — тряпично-набитая, сейчас повалится, как из раскрывшегося шкафа.
— Что вам надо? — прошипела она распухающим горлом. — Он ничего не будет говорить, он понял, ничего не скажет. Я, я не дам сказать! Своя жизнь дороже. У нас ребенок, — выпалила как последнее, что должно перевесить, как кипятком плеснула, чтоб он, Нагульнов, отшатнулся, хоть что-то почуял неприкосновенное.
— Что говорить, о чем молчать он должен? Где муж твой, где? Кто ему угрожает, по поводу?
— Избили его, избили вчера! В… больнице, — шатнувшись, измученно выдохнула.
— Зайду. — Нагульнов двинулся, впихнул запуганную бабу в общий коридор и дальше, в прихожую, в комнаты. — Ну, кто избил, когда, за что? Я следствие веду по этому вот делу.
— Не надо никакого следствия. У дома, трое, на моих глазах. Влепили железякой по затылку, сломали руку, почки… среди бела дня.
— За что? Что говорили?
— За то, что влез, куда не следует. Полез в отделе на свое начальство. Я ему говорила.
— Когда полез? Позавчерашней ночью это было, когда он в ночь дежурил, да? Там была девушка у них в отделе — из-за этого?
— Я ничего вам не скажу.
— Он вызвал ей «Скорую», да?
— Да! Я больше ничего не знаю! Он ничего не скажет, слышите, ни на суде, нигде! При чем тут он? У нас ребенок, — повторила как заклинание, как то, что «их» должно остановить.
— Что говорили те? Ты слышала, что от него хотели?
— Чтоб ничего и никому, ни слова. Сказали, что жизни ему не дадут… что будут приходить и бить, чтоб мы вообще уехали… пусть продает квартиру.
— Чего? А это-то за что?
— А за все то же, вот за это же! За то, что встрял, за то, что «Скорую», за то, что сделал не по-ихнему. Мы ничего не можем, мы одни.
Вот это номер — девчонку чуть не сделали вдовой. Кто совершает резкие движения? Кто не залег на дно, кто не трясется, не врубает заднюю?
— Возьми. — Нагульнов бросил на комод увесистый, не закрывавшийся конверт; наружу выглянули краешки банкнот one hundred dollars.
— Что это? — Будто увидев гада, содрогнулась.
— Это на лечение. Я принесу еще. Достаточно, чтоб переехать вам куда-нибудь отсюда. И жить спокойно. Никто вас не тронет. — И повернул на выход, вышел вон, не дав ей выдавить хоть что-то.
Ну что, всепрощенец, дозрел, просветлел? Да только кое-кто иначе, чем дулом в глотку, не воспринимает. Ублюдок генеральский, откормленный на папиных возможностях, тридцатилетний страж закона с безупречной репутацией и умопомрачительной карьерной перспективой, шизо, клинический упырь, налитый до краев больной потребностью насиловать детей, теперь расправляется вот с этим парнем из дежурной части, который виноват лишь в том, что, с четверенек встав, дорос до просто человека. Вот, генерал, кого ты вырастил и хочешь отстоять.
Нагульнов вывалился из подъезда, почти до машины дошел, как окрик вдруг ударил ему в спину:
— Эй, чел, постой-ка.
Двое быков под центнер чистой мышцы, бритые бошки, выражение готовности работать по нему, Нагульнову. Один махнул рукой, антенной растягивая хлыст с грузилом на конце, второй спустил дубинку на петле; Нагульнов уже вынул ствол — их сразу охладить; почуял — третий сзади, и не успел — тупой, ломающий удар пришелся в кисть с «макаровым», второй по темени, как обухом…
Нагульнов себя пересилил, остался стоять, перехватил удар и вмазал рукоятью в темя, прибил к земле, поставил на карачки, еще успел закрыться правой с пистолетом, вбил кулачище в хрящеватое и костяное — ублюдок замотал башкой, разбрызгивая яркие, червонные, и в это самое мгновение удар пришелся сзади под колено; подрубленный, он опустился на одно, и тотчас же удары посыпались цепами, молотьбой, так что Нагульнов будто слеп от белых фотовспышек, раздававшихся то там, то сям под черепом… лег на бок, закрывая голову руками, подставив под удары ребра, почки, пах, все, что ни попадется под ногу, и в шесть копыт, в шесть свай его гвоздили и долбали, ярясь и сатанея, чуя чугунную болванку, толстое литье…
Рванув его за волосы, склонились, приблизили свое огромное, безликое, все заслонившее лицо; на лбу как будто раскололи толстую чернильницу, и липкие чернила заливали ослепший левый глаз.
— Запомни, мент, ты дрочишь на гору. Про то, что с девкой твоей было, забудь. И под кого копать решил, забудь. Тихо себя веди. Иначе сдохнешь. Ты меня понял, ветеран, или тебе добавить? Смотри — у-у, зыркает, бычара. Что, жить совсем перехотел? Еще поскалишься, а, подпол?.. Готов! — приговорил и трахнул головой нагульновской оземь, совсем не знал еще он Железяку, не знал, что в инвалидность обойдется ему вот это легковерное «готов», что — повернувшись к битому, но недобитому спиной, сам начинаешь смерти ты подмахивать.
Разбитый, сделанный огромным, почти не чуявший себя, с резиновыми будто костями во всем теле, невесть какой силой… вот просто знал, что должен встать, иначе он — не он, а труп, съестное, то, что пережуют и отрыгнут… не встал он, нет, но превратил хотя бы часть себя в скрут мышц и воли, перевалился на бок, приподнялся ломающим, превозмогающим рывком, завел за спину толстую резиновую руку, нащупал ствол за поясом, второй, который у него не вынули, не обшмонали.
Из положения лежа на боку, безногий, половинный, одноглазый, — почуяв ствол, крючок как продолжение ожившей, подчинившейся руки — взял в рамку спину среднего из удаляющейся тройки и, удержав дыхание, руку, надавил. Мир сухо треснул, бойца пихнуло в спину меж лопаток, и тот, качнувшись, повалился на лицо; другие двое дрогнули, угнулись, как коровы, от выстрела пастушьего кнута, вмиг стали тяжко и нелепо резвыми… Нагульнов хлобыстнул еще раз и еще по направлению, им не давая разогнуться; один, сгруппировавшись, кувыркнулся над капотом, второй с надломленным отчаянием и будто плачущим лицом тянул подстреленного друга, то отпускал, то вновь хватал за ворот голосившего… налитую свинцом башку и руку тянуло книзу, но Железяка все держал себя, высаживал обойму в ослепшее, покрывшееся инеем стекло; с последним выстрелом, весь изъязвленный отколупинами, лунками, джип Железяки скособочился, припал на продырявленную шину, и Железяка, оголив дымящееся дуло, опустошенно повалился навзничь, уже не в силах управлять дальнейшей жизнью.
Могли все сосчитать, вернуться и прикончить, и в отдалении ревела, вращательно распиливая череп, растущая сирена патруля, то набирала ноющую силу, то, напротив, как будто отлетала, и мир Нагульнов слышал как из-под воды.
Древо желания
1
С дачи Ордынских в Жуковке он ехал вслед за ней в Москву, шел как по горячему следу — еще воровски, противозаконно, бесправный и никак не связанный, не обрученный с Ниной перед миром, перед тремя десятками их общих с Ниной знакомых, не то слишком учтивых, не то чрезмерно занятых собой, чтоб что-то замечать вовне… одна тут Лелька знала все.
В Гранатном переулке, где Угланов купил ей пол-особняка под галерею, он ждал ее явления, подкрадывался сзади, окликал сипящим, сорванным, наждачным голосом просившего на опохмелку колдыря и представал перед глазами Нины жутким карликом с большой, полноразмерной головой нормального мужчины, вприсядку, в задом наперед надетом пиджаке, с упрятанными под полой ногами: ног как бы не было, башка его торчала будто из мешка, в который запихнули Соловья-разбойника; от неожиданности, вида вот этого обрубка с камлаевским лицом она на дление кратчайшее, конечно, обмирала — сердце лягушкой прыгало, дельфином восходило в горло; «чуть до кондрашки не довел, скотина!» — шипела и замахивалась, била ладонью по башке всерьез, как бьет всерьез ребенок, не могущий, конечно, повредить, хотя был и не прочь носить оставленные Ниной отметины… такие, чтобы долго не стирались, как след собачьего клыка, белесый тонкий шрам на Нинином запястье — лохматый пес-придурок прыгнул за батоном нарезного.
Он был внимателен к таким вещам: с них, как с картинок в букваре, все начинается, тебе рассказывают, как называла в детстве мама, какого вкуса газировку предпочитала в магазине «Соки-воды» и как боялась пауков, передают себя вот с этим током незаживающего детства и с равной жадностью торопятся узнать, откуда, из какой страны ты сам, пусть в телефонной книге того города и умирают на глазах все номера, не вырастают новые и неуют знакомых с детства улиц становится пронзительным… давай, расскажи про Фиделя на красных полотнищах, про зеркальце под партой, про спеленатые рождественские елки рядами у метро, матерчатые кеды «два мяча», про то, как огромно плескался, гудел внатяг закрывший небо алый шелк расшитых золотом знамен, тянулись триумфальной вереницей утыканные алыми флажками передвижные пьедесталы на моторной тяге, грузовики, обитые фанерными щитами с названиями фабрик и заводов на фоне доменных печей и шестеренок, плыла над серо-черными рядами гегемонов гигантская двузначная обклеенная золотой фольгой цифра годовщины великой революции и как ходил встречать Гагарина на Ленинский проспект… дождись от нее «это ты такой старый?» и продолжай рассказывать про то, чего боялся ты и где пряталась смерть по ночам в твоей комнате — за батареей, за чугунной гармонью отопления, текла водой, неудержимой водой, напитывала мертвой порабощающей силой. Скажи, что все теперь не страшно, что не один теперь, а с ней, которая и вправду не боится ничего, такое совершенное в ней, Нине, доверие к Творению, такая благодарность, в ней, родившейся со знанием, что несоизмеримо, неоплатно дается человеку больше, чем в результате отнимается, и что сама нам смерть назначена не для того, чтоб обессмыслить прожитое, но чтобы каждой проживаемой минуте дать немеркнущую стоимость… и все пройдет, но этого лица, что каждой черточкой своей тянется к тебе, не уничтожить.
Она тянула, замерла перед обрывом, никак не могла развязаться с Углановым, решить одним ударом, хотя и понимала — решено, в лице ее непобедимо проступала жестокость будто жрицы, живущей не своей волей, привыкшей приносить мужские жертвы единственному богу, избравшему для воплощения образ Эдисона. Твердила все: «Я не могу с ним так, с его уверенностью в том, что я навсегда, что его не предам. Мне этого ему не объяснить, не оправдаться. И знаю, что иначе не бывать, что мне придется с ним вот так, но не могу так сразу, не могу».
Он был жесток, нетерпелив: ведь все равно же предала, если ты хочешь называть «предательством» подобное, и нету в том твоей вины, и надо рвать сразу, как ноющий зуб, а не пошатывать с нажимом языком. Он не оправится? Да он, скорее, не заметит твоего так называемого этого предательства, всецело занятый сейчас захватом ничейных недр, ханты-мансийская красавица с сочащейся горючей кровью скважиной сейчас его воображением завладела, девочка-Нефть, — уже не до тебя.
Она оскорбилась — не за себя, а за него: «Ты ничего не понимаешь, ты его не знаешь. Он — сирота казанская, детдомовский, он в одиночество был вбит, как гвоздь в доску, он в жизни никому не верил, все были посторонние, казенные, чужие, нам этого с тобой не понять, мы можем лишь кивать с убогим подражанием сочувствию… а мне он поверил, со мною захотел семью и дом, я была первая, единственной, кому он целиком поверил, ты это понимаешь? Он мне такую силу в своем сознании приписал… вот все, чего он был лишен, чего с рождения не имел, вот дом, тепло, вот все свое желание зажить, как человек, со мной связал, он в этом так спокойно положился на меня, что я теперь не знаю, как мне…» — «Ты что, его за муки полюбила, а он тебя — за сострадание к ним?» — Он не выдерживал, переводя привычно разговор на иронические рельсы, хотя, конечно, соглашался, что у них на полном все серьезе было — у Нины не всерьез не может.
Но только как он мог, сам только что родившийся еще раз, надолго в этом застревать, в чужом: как-то не думалось, что Нининому бывшему придется отделиться, остаться одному в огромном доме — обросшим пылью яблочным огрызком за диваном, фисташковой скорлупкой в благоустроенной пустыне, где больше нет ее волос, прилипших к твоим подушкам, раковине, нёбу, где больше нет жгутов ее белья, крутящихся в монокле стиральной машины… сидеть прикованным, как в инвалидном кресле, перед мерцающим экраном с недосемейной кинохроникой, хотеть достать ее из телевизора и быть не в состоянии достать.
Угланов уже знал — донесли соглядатаи или все понял сам по Нининым глазам, по напряженному молчанию, по занемелости не отзывающихся рук: вот каково это ему, ему — хозяину судьбы, Истории и недр, — себя почувствовать однажды обворованным, непоправимо обедневшим не на какой-нибудь рудник — на Нину?
Вот в этом и была его, Угланова, беда: жизнь перед ним лежала инженерным планом — вот здесь активы, тут семья, и Нину он как будто тоже мыслил живым активом, формой собственности, которая приносит дивиденды в честной ласке, в молочных зубах и агуканьи первенца.
Артем урвал из собственного времени свободный час — приехать посмотреть на вора, на своего счастливого соперника; молчал с потемневшим лицом — «как не ко времени», «прошу тебя, скотина, только не сейчас», «ну почему ты вот сейчас возник, когда на горизонте — аукцион и суд?», вот злость на выходящую из берегов, повиновения, безмозглую живую жизнь, в которой ничего не просчитаешь по ходам до точки, читалась в лице Нининого бывшего. Включившись в долгую грызню за черные кровя ханты-мансийской исполинши, он больше ничего уже не мог держать в уме, и даже Нина… вот Нина как раз и лишала его необходимой цельности, балансировки, отцентрованности, мешала двигаться, лететь, как нарезная пуля, в цель.
Камлаева не то чтобы не принимал всерьез (нет, он, Камлаев, кое-что да весил в любой системе мер, включая и ту, в которой денежная масса взята за эталон), скорее, уважал, но все-таки не принимал как вид: они, старатели, ремесленники, вайшьи, таких, как Камлаев, не любят — бездельников, обслугу артистическую, не любят и за то, что бабы инстинктивно тянутся к красивому и бесполезному, к иконостасу из Делонов, ди Каприо, Тарковских, Бродских, Шнитке (кого что больше возбуждает, притягивает складностью, гармонией — мужское тело, музыка, стихи), бросают их, Углановых, старателей, соль мира, производителей реальности, прибавочной стоимости, добротных вещей, в угоду моментальной прихоти, бегут на отзвук дальней райской песни за чем-то эфемерным и телесным одновременно, чего ты им, добротный, не в состоянии предложить, порой живут с тобой до скончания дней, но помышляют не о хлебе.
Камлаев будто подставлял в свою пустую голову углановские мощные мозги, проникнуть силился в уединенное сознание Нининого мужа, понять, как тот думает… Хватит! Кусочек кости, «кандидат на удаление», упал в посудину, врачиха отложила в сторону кусачки.
2
Он дал ей бросить в сумку пару летних тряпок, зубную щетку с тюбиком Rembrandt для злостных курильщиков чая и кофе, солнцезащитные очки, интимные тампоны и потащил к отверстию, сквозящему проточной жизнью, в измерение железнодорожного бита и скорости, тотально подчиненных умным числам, — помчаться мимо брошенных цехов машиностроительных заводов, водонапорных башен, каланчей, пакгаузов… и дальше, мимо нищих изб, соломенного горя, мимо могил, которые распашут, и каменных церквей, в которых занемела благодать… перенестись на древнюю, седую, обжигающую землю, на миллионы лет в немую глубину, нисколько не знакомую с царем и выродком природы — человеком; коснуться босыми ступнями чужого, глухого к ним камня, и каждой точкой тела, каждой каплей ощутить всю неслучайность, всю непрошенность неразделимого их общего рождения в этот мир, в горячее сияние синевы над каменной стынью.
Неистребимость, неизменность вокзального мира, железнодорожного царства их захватила, захлестнула — толпой усталых, согбенных под ношами, навьюченных задачей выживания, поживы, повязанных узами супружеского долга и кровного родства, исполненных надежды и задавленных унынием, испуганных, бегущих от судьбы, растерянных и беззащитных перед великим железнодорожным расписанием-приговором… пронзительной, нежданной чистотой женских лиц, вдруг озарявшихся улыбкой припоминания будущего счастья… восторгом или зачарованностью в глазах ненасытных детей, впервые услыхавших хрипы, лязги таинственных железных механизмов… сипением, шипом, жадными прерывистыми вздохами, фырчанием тепловозов, прощальным вскриком потащившего состав локомотива, колесным визгом, щелканьем, тысяченогим шарканьем, скрипением обшивки, плаксивым пением тормозов, разящим креозотным духом черных шпал, аммиачной вонью уборных, позвякиванием ложечек в стаканах и дребезжанием стаканов в подстаканниках, которые можно разглядывать, как Ахиллесов щит: локомотивы, МГУ на Ленинских… И время будто останавливается, ты чувствуешь прошлое, чувствуешь всё, и он, Камлаев, видел Нину в этом измерении: все дни, все мгновения жизни — и те, в которые прошли без Нины, и те, которые грядут, — были охвачены, заключены в одном пространстве, в одной душе, вмещающей в себя все души… не порознь, не хаосом, но вместе, единым кристаллом секунд и столетий впервые предстали они.
«Хоть что-то неизменное», — она сказала, устроившись в двухместном спального вагона, вскрыв упаковку принесенного постельного комплекта и дав ему ощупать, убедиться, что наволочка, простынь по-прежнему чуть влажны после стирки, «прогресс не коснулся».
Оставив на перроне полупровожающих, обрубленных окном, поплыли прочь из города, пошли раскраивать пространство, отстукивая ритм тяжелозвонкими подметками; локомотив вдруг взвизгивал, как будто кто-то укусил, и в бешенстве стирал с лица земли фонарные столбы, дощатые заборы, решетчатые мачты ЛЭП и города-герои социалистического рабства с аллеями рабочей славы, линялым кумачом фанерных поминальных досок и со своей центральной площадью размером с гривенник, где звал к победе коммунизма бронзовый или гранитный крутолобый прыщ, не то из суеверия, не то по безалаберности до сих пор не сковырнутый с пьедестала.
С безмолвной яростью летел в стекле пейзаж, сжигал себя, с первой космической сдавал небытию, и отлетала от окна лоснящаяся туком линза пашни и возвращалась вспять; круговорот пейзажа был дарован им — как возвращение в детство, в рай «первого раза», и нечто столь же чудное, нежданное, как Китеж, было им даровано — больные, чахлые березы, стоявшие в низине, залитой водой… не только переломленные призрачной границей воды и атмосферы, но и еще удвоенные, дивно опрокинутые своими отражениями на воду; не только поднимались ввысь, росли еще и вниз, как раскладная половинчатая карточная знать, и в этом белом погибавшем царстве им было с Ниной уже не отличить продленный ясный призрак бытия и бледный, во древесной плоти, подлинник.
Она сказала то, чего могла не говорить, — Камлаев бы и так услышал — что слишком многое, больше, чем всё, в пейзаже устроено заради только умных человечьих глаз, лишь для того, чтоб ты вобрал в сознание вот это ни на что не годное природе, кроме немого восхищения нашего, дарованное чудо и ощутил с убийственной полнотой невидимую осиянность мира.
И сиротливые деревни проплывали, заросшие бурьяном и крапивой седые щелястые избы, неукротимая трава поперла Мамаевым нашествием, и в этом тоже виделось явление нечеловеческого умысла: и запустение было тоже предусмотрено в Творении, а не порождено бессильным человеком, который только мнит, что создает и разрушает, на самом деле только открывая брешь для действия законов, не им, человеком, написанных. И кладбище — город железных крестов и оград — открылось им, невиданное, жуткое, смешное: орда лепившихся друг к другу холмиков, надгробий ползла, карабкалась по косогору, как будто не хватило мертвецам на гладкой, как доска, равнине места, как будто продолжали состязаться, кто заберется выше всех, поставив крест, как знамя, на вершине. И новые крепкие села — беленые кирпичные дома под шиферными крышами; мелькали желтые круги, размером с «мельничное колесо», подсолнухов, «девятки», «Нивы» у ворот, вон водохлебная колонка, посмотри — нажать всем телом на рычаг и, промочив сандалии, припасть к колодезной струе, чтоб сразу крепко заломило зубы… коровье стадо с картами материков на впалых, вытертых, в пролысинах, боках, — разбросанные рыжие и палевые пятна воспроизводят очертания Америки, Австралии, места столиц отмечены приставшими репьями; белоголовые мальчишки-пастухи с горделиво закинутыми на острые плечи кнутами; другие — велосипедисты, сверкая «катафотами» и спицами, пустились с поездом вперегонки, поверив, обманувшись, что не отстают… вон мелюзга совсем и кто-то сделал ладошку козырьком, как богатырь в дозоре.
Она сказала: дети теперь не машут поезду вослед, и, будто услыхав ее, чумазые и загорелые им замахали со стыдливой улыбкой.
Закатное рыжее солнце неслось в неподвижном вагонном стекле, беззвучной шаровой молнией по-над синеватой кромкой леса, неуследимо уходя за горизонт и неотступно, в ритм колесам, вспыхивая расплавленной медью между еловыми стволами. И золото вспышками билось в ее порыжевших глазах, и будто это Нинин взгляд навылет гнал огненный шар сквозь чащобу.
Багровый чай дымится, стаканы стучат, подстаканник — навырост; предельно раскатившийся состав вдруг убавляет силу дробного напора, меняет неотступно-регулярный симметричный бит на ноющий, тягучий скрип колес и тормозов, медлительно, с раздумчивым кряхтением вплывает на неведомую станцию, меняет желтые квадраты собственного света, ползущие по насыпи, на млечные таинственные полосы от сильных станционных фонарей; локомотивы сипло прочищают внутренности, слышна скрипучая инерция отката соседнего товарняка; на привокзальной площади, залитой ровным белым светом, красуется незолотая молодежь десятитысячного Иварска или трехтысячных каких-то Старых Чебырей — названия станции не видно нигде, и непременно нужно вызнать и обкатать на языке, как будто этим называнием местности по имени ты, всемогущий, даруешь вокзалу, и городку, и людям плоть, дыхание, бытие, если не ты — никто не обессмертит.
Девахи лет шестнадцати глядят на них сквозь неподвижное вагонное стекло с каким-то суеверным ужасом, с каким-то ненавидящим восторгом, как на забывчивых божеств, которые царапнут и не возьмут с собой в блеск большого города.
«Да это же у них тут их местный Бродвей». — Она со смехом говорит и чуть не плачет, глядя на этих ярких тонких девочек, которые к прибытию скорого московского оделись во все лучшее, так безнадежно, трогательно жалко силясь угнаться за большой, столичной модой, которая пройдет быстрее, чем этот поезд. Никто не глянет, не оценит лиловые, в обтяг, вот эти брючки, и джинсовые юбки, каких не носят даже на Ямайке, и темные очки, как на страницах прошлогодних, пришедших с опозданием журналов.
В проходе больше не штормило; они сошли — дать праздник мышцам, легким, ртам, глазам, хватать, вбирать вечерний пьяный воздух станции, почуять каждой порой стояночное это пробуждение от жизни.
Их тепловоз стоял отцепленным, уткнувшись рылом в пустоту, и все сосал, не в силах отдышаться, воду; зрачки особенных, необычайно вкусных на перроне сигарет царапали синюю тьму; освобожденное от давки, тесноты пассажирское братство вразброд шаталось по платформе, спесиво сжимая в руках портмоне, вытаскивая деньги из карманов треников и шортов — старушки с просветленными, растроганными лицами проникновенно выкликали: «Пирожки с картошечкой. С капустой и грибами. Пирожки». «Холодненькое пиво, чебуреки горячие, ва-а-реные раки», — певуче ходили усталые женщины с тележками и пухлыми картонными коробками. Щетинистые, крепко проспиртованные малые навязывали все душещипательно ненужное: резных деревянных павлинов, залакированные ложки из музея народных промыслов, коробки нард и шахмат, наборы блесен и мормышек, электродрели и столярный инструмент.
На Нину напал покупательский жор, будто решила, что им всем должна, по крайней мере, уж застенчивым старушкам точно — дать оправдание, радость, ничтожную каплю в прожиточный минимум, нельзя было, чтоб кто-то опять поставил тут рекорд ненужности и неприкаянности: ну, ведь не зря они сюда шагали с нагруженными доверху колясками, пластмассовыми ведрами, корзинами в кровоподтеках клубничного, смородинного сока — и все брала: пропитанный венозной синевой кулек со смуглыми раздавленными вишнями, оранжевых раков, сушеных лещей, которыми можно зарезаться.
Камлаев жрал в купе всю набранную снедь и думал: это все они возьмут с собой — как никому, кроме двоих, не нужный драгоценный мусор: и эту вот убитую мазутом землю, и пепел мелких бабочек, толкущихся под фонарем, и этих сумрачных туземок лет шестнадцати, которых скоро возьмут замуж и никогда — в Москву, и этих вот холодных раков, и то, как вскрикнул вдруг локомотив, томительно, печально, как будто ему тоже жалко расставаться со стертыми навечно скоростью трехтысячными Чебырями, и то, как поезд побежал вольнее, теряя всякую вещественность и оставляя только гипнотический глухой неумолимо-мерный перестук колес, и то, как мир блаженно сократился, стал кенгуриной сумкой, медвежьей берлогой, и как уснули, вставившись, вложившись и заключенные друг в друга, на этой узкой полке на боку, в такой предельной тесноте, в такой проникновенности, что были подобны складному ножу и каждый был и рукояткой, и лезвием одновременно.
3
Наутро уже были в Симферополе, тащились, подползали, и в коридоре пахло хлоркой, одеколоном, мылом, и танцевала пыль в широких полосах пронзавшего вагон горячего света, взлохмаченные бабы в шортах и трико образовали очередь в уборные: баб по большому счету не было, и он, Камлаев, пребывал отныне в мире, населенном одной только Ниной.
С перрона взял такси — поехали в Судак, и Крым был седо-обожженно-выбеленно строг и в то же время первородно, гречески, пелопоннесски щедр на простиравшиеся без конца и края виноградники, миндальные деревья, абрикосы, кипарисы.
Камлаев будто стал строителем, который грубо, мощно и отважно для Нины вырубил, возвел, возвысил, укрепил — едва хватило ночи, перегона — угрюмый Карадаг, клобук Монаха, горб Верблюда… раздвинул горы там, где их стесненность мешала вольному прорыву взгляда к морю, и выгнул спину Симеизской кошке, чтоб неорганика хоть в чем-то и хоть как-то посоперничала с Ниной.
Поставив наспех вдоль дороги пыльные колонны пирамидальных тополей и приготовив Алемдаровскую дачку, диван, матрацы, простыни и прочее, чем кормят, пестуют, укутывают тело, он искупался в море и, дождавшись ночи, спокойно, терпеливо приступил к своим прямым обязанностям: перетащил продавленный диван из комнатенки в сад и мягко опрокинул навзничь Нину — пойти на дно разверстой высоты, принять, вобрать налегшее на грудь, рванувшееся в уши глубокое незыблемое небо, в котором звезд, что зерен в гречневой крупе. Лежать и вслушиваться, медленно, порабощенно погружаясь в простертую в глубь купола мерцающую прорву, нечаянно, до задыхания близкую к лицу… вдруг начинавшую дышать, пульсировать неуловимо, ниже ветвей, травы, вровень с криком цикад — как маленький трезвучный колокольчик в несущей бережно и свято далекий голос высоте.
Сначала тихо зазвенел один, потом — второй, близнец, чуть отставая, прозрачно-переливчато и бесконечно терпеливо, не приходя в отчаяние, искавший себе пару, двойника, и скоро весь огромный воздух неба стал неумолчно напоен мерцанием, смиренной, трепетной, таящейся от самой себя медлительной пульсацией: серебряное зернышко за зернышком, пылинка за пылинкой, точка против точки, как бесконечные ступени к настоящей высоте; как не разрубишь магнит пополам — контрапунктическая пара маленького колокола и восходящей гаммы, бесконечно умноженная, подхваченная всей зернистой звездной массой.
«Звезды, что ли, звенят, — сказала она, — и друг на друга будто резонируют. Так близко, будто насекомые. Где звезды, где цикады — один Бог весть». Как хлеб изголодавшемуся, как клык беззубому — Камлаева прожгло, насытило, наполнило: их было двое с Ниной в этом мире, и пресвятая троица была в ее лице, в руках — ненастоятельно-неумолимый колокольный голос и отзывавшийся ему свободный ток вверх по ступеням гаммы пошли в различных кратных темпах и пролациях, с делением исходной единицы то на два, то на три, прозрачной лавой за лавой накатывая, волной за волной концентрических симметрий, обвально-невесомых вычленений, насквозь прошивающих лютой стужей суммирований… с неодолимой мягкой, какой-то материнской силой заключая их с Ниной в кристалл осиянного целого.
Камлаева проткнуло, прорубило, как не бывало прежде никогда, сколь ни морил себя — неподотчетно — голодом и сколь ни взвинчивал — сознательно — молчанием и одиночеством: пустая чистая доска, пределами со степь, огромная, с купол, прозрачная книга сама собой стала заполняться письменами.
В заросшем ежевикой саду она потягивалась, будто упираясь ладонями в небесный свод, вставала первой под лейку, подвешенную им на каменном суку, — и вся она как будто одевалась в текучую, тягучую, слоистую броню, и голова под душем становилась гладкой, какой-то тюленьей; он, то и дело взглядывая на нее, переносил в блокнот награбленное ночью в вышних недрах.
Соседка-татарка, закутанная в траур, им приносила каждый день овечье молоко, пилав с бараниной, брынзу, пурпурный виноград, огромные, размером с кулак мастерового помидоры… Шли к морю, острый запах водорослей издалека бил в нос, в башке проскакивало вдруг — вода, крещение, жизнь в Нине, — и он не чувствовал себя повинным в богохульстве.
На каменистом пляже она вдруг подбиралась, серьезнела — «ты что?» — и пятилась, все ближе подступая к мокрой кромке, к своей погибели, потешно-глупо-жалко изуродовав лицо матросовской решимостью не даться, взахлеб глотая погубителя молящими «ну нет же, нет» глазами. «Что я? Я ничего». — Он, захлебнувшись пустотой восторга, «проходил» ей по-борцовски в ноги и, сцапав Нину поперек спины, нес без натуги в чуждую стихию, коленями расталкивая воду. Она лягалась, билась, почти что вырывалась, ускользала изворотами сильного хлесткого тела… чем глубже, тем отчаяннее… сейчас ее отпустишь — и уцепится, вклещившись так, что не разжать: держи, выноси, не бросай.
— Родил тебя, родил. — Камлаев становился вездесущ, огромен, распространял свое господство от края и до края, помыкая вздувавшимися мышцами воды как продолжением собственных.
— Это местом каким? Бывает такое?
— Родил теперешней, той, которую встретил.
— Откуда это, как?
— Из головы, как бог, как Зевс. С утра болела так, разламывалась просто, вот я не выдержал, пошел и расколол… и в полном ты вооружении. В броне из кожи, с грудью вот — эгидой. Ну все? Сама?..
Нащупал илистое дно, взял на руки, понес. Трава расступалась, ложилась под ноги, хрустела, трещала, звенела, пощелкивала всей крылышкующей, стрекочущей несметью насекомых, невидимых, неуловимых, вездесущих, поющих осанну Творению — так, будто вся масса живого возникла лишь сейчас, одновременно с Ниной, и в первый раз распялила, раскрыла свои ячеисто-витражные летательные плоскости, попробовала голос, ультразвук, простор и сладость жаркой выси: месили воздух лопастями синие стрекозы, ходили вверх и вниз, как поплавки, и выпадами в бок, по-вертолетному; друг друга заводили, как ключом, кузнечики, сжимая до предела пружинку грандиозного, в иное измерение, прыжка; с неправомочной, рваной, аляповатой точностью порхали бледные, как только что прибывшие курортницы, арктические бабочки, и Нина, чертыхаясь, отщипывала красную приставшую второй кожей промоченную майку… вошла в кусты акации по плечи и, глядя с вызовом, с каким-то жертвенным бесстыдством, с «Ну, этого хотел? Дождался?», стянула яростно и перебросила через сквозящую ее горячей мокрой наготой живую густолиственную стену.
4
На утро десятого дня он взял извозчика, повез ребенка в Старый Крым. Пешком, звенящим, цвиркающим полем пошли в Армянский монастырь на гору Святого Креста.
«Смотри! — сказала. — Это что?»
Там впереди, вверху вспороло, разорвало небесный монолит незаживающей красочной раной черешневое дерево, сухое, как верблюжья колючка, и это было страшно, как сифилитическая язва, распоротое брюхо, треснувший закат, взлохмаченный, иссохший дервиш, воздевший в высоту заломленные руки, застывший в отклонении предельном от оси, в жестоком скруте ярости и боли… как беглый сумасшедший, разорвавший смирительную красную рубашку на длинные трепещущие полосы. Ублюдок, отщепенец, задушенный, засушенный, изгрызенный природой, отторгнутый землей, отринутый глухим стеклянным небом… сожженная бедой и почерневшая от горя женщина, которая изодрала себе лицо и ситцевый цветастый сарафан, всех потеряла и всё верила, что сыновья и муж, убитые войной тысячелетней давности, еще вернутся, припадут седыми головам к ее откормившей груди.
«Это оно? Желания?»
Да, подошли чуть ближе, и вдова обыкновенным стала ярмарочным монстром, аттракционом для неистребимого базарно-туристического быдла: недосягаемый верх кроны был совершенно гол, а ветви нижних ярусов, когтистые и узловатые, изглоданные будто — обвязаны цветными лоскутами, шелковыми лентами, которые вытягивались, бились при самом слабом ветре: пустое, мертвое, до звона высохшее дерево дышало как живое — от навязанных, затянутых узлом желаний на нем живого места не было.
Нащипанная наспех из бабьих сарафанов корпия. Рдяной шелк пионерских галстуков, что полиняли до бесцветной глухоты. Смешные тряпицы в горошек — как будто выдрал кто в припадке вожделения клок из ситцевых трусов. Парящий в воздушном потоке, обменянный на титул королевы красоты и съемки в голливудском фильме, запыленный газовый шарфик, которым как будто утер закопченное рыло поднявшийся из забоя шахтер. Одним желаниям, чаяниям, мольбам здесь была без году неделя, другим, полинявшим и выжженным, — и годы, и десятки лет. Сексуальные сны созревающих дур, подзамочные фильмы на запретных кассетах, дрожь раскрытых и тянущихся за бокалом шампанского губок — заглотить золотое колечко, трепет глянцевых вырезок из журналов по кройке и шитью ослепительных судеб, чертежи крепостей, инженерные планы и сметы добротных, обеспеченных будущих, недостающие детали из конструктора «Карьера и Успех», лотерейная алчность, запихать в себя столько, что за жизнь не сожрешь, «лишь бы только сыночек здоров был» и засохшие ветви неплодных яичников, рак в крови новорожденных, ДЦП, паралич, позвоночник, который лишь чудом срастется, пожираемый астроцитомой мозг, отказали в последней надежде… были, были тут вдовьи платки, сотни рук обреченно, умоляюще всплыв, мертвой хваткой цапали ветви: отпустите пожить, не сдавайте туда мою плоть, мою кровь… и выворачивалось, гнулось, скручивалось дерево от горя, и воздух сух от плача был, дрожавшего в ветвях.
Она не понимала, Нина, хотела быть, как все, хотела попросить — простое и великое, как чрево, извечно женское, обыкновенное, святое. Камлаев с ней впервые разошелся, сковал запястье ей, остановил, сказал: ты что? ведь это для рабья, для нищих. И постучал костяшками по лбу — вот для таких убогих, отштампованных. Это они бросают мелкие монетки и гладят пятку Будды, у них рефлекс, эрекция, чесотка.
— Пойдем отсюда, — он сказал, — здесь все уже загажено. Послушай, милая, известия о Богоявлении давно уже печатают в газете «Неустановленный визит». Останки гуманоидов сжимают в своих щупальцах мироточащие иконы. На Землю прилетели марсиане и все мы — от них. Уроды, ненавижу эту мразь.
Она обозлилась, поджала оскорбленно губы: две тысячи лет же вот так. У священных деревьев. Как караимы. Как шаманы якутов и манси. Как сотни народов, чье имя никогда уже не будет произнесено. Давай оставим на минуту это все — то, что есть сейчас, и то, что было раньше, оставь в покое на минуту твою музыку, которая теперь не ключ, которым ритуально заводится пружина, струна твоего монохорда, распорка вертикальная меж небом и землей, и если выдернуть, все опадет, обвалится и сдуется. Ну, видишь я не дура. Но только есть еще и просто жизнь, обыкновенная, тупая, самочья, любовная, вот совершенно неизменная — неужто твоя музыка должна с ней враждовать? Как раз наоборот. Ее поддерживать. Чтоб вымолить дождь у диких богов. Чтоб детская душа, живущая в дупле, увидела маму и, излетев из дерева, скользнула в горячую складку. Чтоб не было бескровного, бесплодного. Чтобы сквозь жесткое и черное неудержимо пробивалось вновь и вновь зеленое, свежее, чистое, мягкое. Да, мы земляные, мы низкие, мы лезем со своей любовью к идолам, к деревьям, к силе, которую мы очень смутно, бедно чувствуем, но только с чем нам лезть еще, когда вот это только за душой?
— Все так, не надо только путать божий дар с помойкой, — сказал он примирительно. — Ты хочешь древо? Пойдем я покажу тебе другое, настоящее.
Тропа их вывела, втянула в дремучий и просторный лес: деревья-государства, деревья-изваяния, храмы захватывали взгляд, многосотлетний тихо-рост за тихоростом, гиганты, будто вставшие века назад несокрушимым воинством и каменеющие с той поры, медлительно качая соки из земли, приобретая прочность неорганики, железа, которое не прорубить, не своротить, не вырвать любыми инструментами людского первопроходчества, насилия, взлома, грабежа. Камлаев с Ниной очутились будто на стыке двух природных царств, которые спаялись, друг в друга перешли, перетекли, невероятно обменялись свойствами, так что и самого ничтожного разрыва, щели, трещины между растением и минералом не было. Незыблемость и прочность каменной породы, скульптурность, монолитность соединялись с изобильно-мощной, неукротимой, звонкой, напористой силой произрастания. Чудовищные ветви гигантских организмов, переплетясь ажурно, над головой, на высоте, кружащей голову, образовали купольные своды, стрельчатые арки, насквозь, до лиц, до кожи, до земли просвеченные солнцем.
Это уже был храм, но и — преддверие храма. Тропа все круче забирала вверх, продолжилась ступенями из бутового камня; чтобы пройти сквозь прорубь в обомшелой каменной стене, ему пришлось пригнуться, поклониться. И Нина — хоть и был проем по росту ей — уперлась подбородком в грудь и не отважилась тотчас поднять на церковь Святого Знамения голодные пытливые глаза.
Могучий, кряжистый, приземистый, массив Креста был весь как коренастый, неохватный дуб, столетиями боровшийся развить в неласковой земле могучие корни. Был монастырь изглодан длящимся усилием природы рассыпать, разобрать святилище по камню — вода вот так шлифует микроорганизмы на дне морском и ветер сдувает утесы; не то что человечий лом не может взять такую хватку, но самое время стирает клыки и резцы; у человека, впрочем, есть оружие посильнее — пренебрежение предназначением, мерзость запустения. Незыблемы стены, но не монахов — сокращенных христиан глотает, пропускает прорубь — поцокать языком с позорным подражанием трепету и благодарности: «умели же строить». Дух испаряется, и ни к чему перетирать в песок вот эти камни, любой из которых не сдвинут и десять бульдозеров, просто никто уже не прочитает письмена, идущие по барабану купола: Сей божественный храм славы на земле — рай древа жизни, подобие горнего неба, обиталище Троицы.
В крепко настоянной на запустении тишине — «отныне занемела благодать в церквях, была огнем и духом — стала каменьями драгими в золотом окладе» — вдруг глухо, деревянно что-то стукнуло, так грубо, так нежданно, что Нина замерла с открытым ртом, почуяв этот холод, мгновенно влившийся в нее, вот это не глумливое, а просто идеально ровное, пустое неподъемное молчание. Нечеловечьи мерные удары пошли повторами одной и той же формулы — Тах! Тах! Тах! Ту-ууууу-уух-туух-тух! Как будто в них, застывших в сиянии одеревенения, вбивали понимание: не ждите, смысла нет, не отворят, изыдите.
Он мог бы повести ее на звук, увидеть смуглых, горбоносых длинноволосых трудников в испачканных подрясниках, распиленные бревна, желтые, как сливочное масло, леса, раствор в носилках, козлы, инструмент, и к этому убийственному стуку, вгоняющему в землю, парализующему слух, присоединился бы обыденный понятный визг пилы, вгрызавшейся в спелое дерево, все стало бы понятным, приобрело бы ясный, ободряющий их смысл восстановления, об-живания в стенах, которые отдали некогда, в тридцатых, под пионерский лагерь, а затем — под санаторий для туберкулезников… но их сейчас сковали вдруг такое слабоумие, такая безнадежность.
Тах! Тах! Тах! Ту-ууууу-уух-туух-тух! — будто мгновенно стали оба малой частью, затерянным ингредиентом монолита этой немоты, ракушкой, аммонитом, вмурованным в породу третичного периода. Удар, которым забивали в темя последний деревянный гвоздь, дробился на четыре единицы, обертоны разламывали череп. Не шевельнуться, поздно и бессмысленно распяливать крылья. Но тишина, которую до вечной мерзлоты, до звона вытвердил рефрен, вдруг сделалась такой отчаянной, непереносимой, что должен был, не мог не зазвучать над ними, Камлаевым и Ниной, еще один, смиренный, слабый голос… худого, может быть, последнего певца.
И пение, которое позвало за собой, было как черствая краюха для голодного. Сквозь деревянный стук, перебивающий и заглушающий, по-над пустой водой бесплодия и смерти, так что мгновенной мерзостью, неверием, бессилием сдавливало грудь. Но голос протодьякона, почти не возвышаясь, был мягко терпелив, настойчив без ожесточения, и голоса потоньше, слабые, худые, вдруг подхватили эту стойкую осанну прозрачным, трепетным, словно дрожащим между пламенем и дымом «а-а-а!», и величаво-ровный пульс благодарения забился в высоте не населенной вещами и людьми свободы.
Восторг и священная оторопь стояли в близоруких Нининых глазах живой водой, напитывая корни; нашла его ладонь и потянула за собой под свод — как будто солью проступали на камнях почти исчезнувшие лики, мерцали огоньки на кончиках грошовых свечек, трепещущее пламя прерывисто подсвечивало лица и отражалось в масличных глазах армянских женщин и мужчин, которые, почуяв радость подчинения вышней воле, всей силой существа передавали, разгоняли, берегли ничем не замутненный ток хвалы и благодарности — ни крошки, ни соринки, ни чешуйки человеческой внутренней ржавчины не билось, не плясало, не осаждалось и не взвешивалось в этом свободном тихо-радостном ключе, который не должен был ослабеть, иначе стены храма Святого Знамения падут и небо выдохнется, схлопнется.
Чернявый, мягко-складчатый младенец один захлебывался безутешным плачем на руках колюче-золотого исполина, отчаянно, нетерпимо требовал, чтобы вернули на живот, на грудь к всесильной, теплой маме; кусочек пластыря заклеивал пупок; зло сморщив личико, сжимаясь, ребенок будто упирался всей своей ничтожной силой, противясь погружению в купель — колючая вода, ожог открытым космосом, погибель, «отпустите»; не понимал: какая и откуда эта сила, жестокая, не мамина, сурово-безответная, которая не откликается немедленно на негодующий твой царский рев.