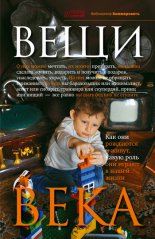Проводник электричества Самсонов Сергей

Но проступило, разгорелось вдруг на сморщенном, сердитом личике такое изумление, такая славная, потешная отвага, такая полнота как будто даже послушания… как будто сам себе он изумился, тому, что может, хочет окунуться целиком вот в эту ледяную обжигающую воду, которая научит не роптать и преисполнит силы на неохватно-неизведанную жизнь вперед… и не ревел, замолк, во все разглаженное личико сияя огромно-черными глазами, сам стал лицом как вечная крещенская вода: неизъяснимо важное, важнее, чем бессмертие, не наше, не людское, творилось с ним, как будто только-только и озарилась смыслом жизнь, которая калачиком, комочком эмбриона до сей поры беспамятно и сладко-глухо спала в горячей тесной материнской тьме… откуда-то Камлаев это помнил, по собственному будто опыту крещения, вхождения в поток… без разницы меж принуждением и волей впервые ясно чувствуешь себя Господней частицей, атомом великого живого, которому от века предназначено плодиться в Боге… растению, всякой твари, человеку, по роду своему. И все так стало им, Камлаеву и Нине, полнокровно ясно, что до чернильного разлива сумерек, до неба, пестрого, как курица, от звезд, они не проронили более ни слова.
5
Поймать машину на шоссе и вспарывать ночь косыми лезвиями фар, но заплутали в буковом лесу, который камнем утонул в густой глубокой синеве — так вдруг, врасплох, все затопляя, хлынули потемки.
Спускаясь каменистой тропой, она вдруг ойкнула и, захромав, присела на нагретый за день солнцем камень. Он опустился перед ней на колени — расшнуровать пропыленную кеду; щиколотка распухла, на ощупь сделалась как грелка с теплой водой. «Это где же тебя угораздило?» — приставил ступней к груди. «Все ты, следопыт!» — лягнула его мстительно, толкнула будто изнутри — стал будто в самом деле первым в мире брюхатым мужиком, который носит Нину под благодарно погрузневшим сердцем и производит каждый день на свет, и это продолжается и продолжается.
Встав на здоровую, его схватила сзади цепко, как сассапариль, повисла, оплела ногами: «Ну, слушай, я ведь легкая?» — «Легкая, легкая, бараний вес в тебе». — «Да ну — бараний. Я очень жирная тогда овца, наверное. Это куда же мы теперь, Камлаев?» И полусонно налегла своей легкой тяжестью, расплющивая о камлаевскую спину грудь, безвольно отдавая свою живую неподвижность, свой покой и забирая тягловую силу.
Затопленное теплой тьмой ущелье сходило к абрикосовым садам и виноградникам; Камлаев знал и ждал, что меж высокими стволами смутно забелеют в потемках глинобитные домишки, деревня в десяток дворов; снес Нину вниз, к жилищу, очагу, понес вдоль ежевичных зарослей, звеневших насекомыми; стало светло на выходе, как днем, от звездных зерен, звездной сыпи; ни огонька в окне, сплошь темень, все уснули, неловко стучаться, будить, тревожить, изводить овчарок, ярящихся с утробным рыком на цепи и мускулистой грудью бьющихся в забор… ну да, конечно, впустят, здесь вам не там — впускают, наливают, укладывают спать на свежее, душистое…
Справа по курсу белелся длинный крепкий дом, стоящий на отшибе; навьюченный родной сонно бормочущей жизнью, Камлаев взял по направлению к усадьбе и, обогнув селение по дуге, дополз до сада, царем которого был грецкий, кажется, орех, могучий, высоченный, хранивший под ажурным сводом кроны терраску, часть шиферной крыши.
Освободивши руку, он с трудом просунул кисть меж рейками калитки и крутанул тугую шероховатую вертушку. Калитка подалась, никто не забрехал; спустив в саду с плеч Нину, он усадил ее на лавку и прислонил спиной к неохватному стволу орехового дерева, убрал ладонь из-под затылка, вгляделся в мирное и ставшее глупее лицо и двинулся к дверям терраски постучать.
Никто не отзывался. Нащупал клавишу звонка, дал режущую трель, добившую до одеяльной одури, в подушечную глушь, — не разбудить не мог: уехали хозяева, заночевали у детей, остались наглядеться на то, как внук в кроватке бодро бьет фланелевой ножкой по карусельке-погремушке.
Он посчитал, что нет греха большого — пошарить ладонью по толевой крыше терраски, залезть под отошедший край, будто за пыльную, горячую полдневным солнцем пазуху, нашарить в ней бесхитростный, как от серванта, ключ, найти такой же ощупью холодный ком висячего замка, поерзать в скважине, разъять и вынуть дужку из петель на шатких застекленных створках. Не вор же он. Просто однажды летней крымской ночью путник, нагруженной своей уснувшей любовью…
Хозяева и не боялись вора. Штакетник, вертушка, висячий замок, а не колючка под высоковольтным током. Людей, которые живут землей, кормятся с нее, нельзя обворовать. Пожечь, потоптать, разорить, подметкой шаркнув по душе, — все это да. А сытную ласку земли не унесешь с собой в кармане, и каменную крепость, неподатливость ее не одолеешь без любви: необходимо сдобрить ее потом, чтоб та отозвалась, отдалась питающими соками. Отец про это что-то знал, про тех, кого привыкли считать навозом, перегноем, дремучей, безгласной, твердолобой породой. Что, более не нужно тех, кто занимался бы с землей любовью? Не нужно — «соли»? Что ж, современный человек — еще и сокращенный земледелец. Сокращенный христианин, сокращенный солдат, сокращенный созидатель, сокращенный монах. Слава богу, что отец, любовник, муж он еще пока не сокращенный, самому себе равный. Собаки нет, что странно. Сейчас бы перхала, хрипела, билась мускулисто, захлебываясь лаем и будто говоря: не смей, не трогай, не твое.
Вошел, пригнувшись, как в монастыре, чтоб лоб не расшибить; в кромешной тьме терраски нашарил выключатель, вторая дверь впустила его в кухню: гирлянды скрюченных и сморщенных стручков и связки лука под беленым потолком, по стенам — полки со столярным, плотницким, садовым инструментом, с кухонной утварью, с шеренгами литровых банок (варенья, салаты из перцев, помидоров, баклажан, кусочки пластыря с нашкрябанными шариковой ручкой годами-датами закрутки). Нашел фонарик рядом с электрической плитой, толкнул дверь в комнаты, вернулся в сад, взял под лопатки, под коленки Нину; луч света шарил по беленым стенам, геометрическим узорам, березовым стволам фотографических обоев, высвечивал сквозь стекла набитые фарфором, хрусталем, обложенные ликами святых и фотографиями внуков внутренности «стенки» и напоследок выхватил из темноты тахту под бархатным, с оленями, оранжево-зеленым покрывалом.
Он уложил ребенка, от склеившихся век, раскрытых губ которого шло, истекало ровное неистребимое тепло, и двинулся назад, на кухню своровать немного еды у хозяев. Отдернул марлевую занавеску: тушенка, рыбные консервы, перловая крупа и вермишель в прозрачных пластиковых банках; он взял лапши совсем немного, самодельной. В ведре под деревянной крышкой, темной от влаги, воды на четверть было, он зачерпнул ковшом, поставил на электрическую плитку. Наверное, не заметят. Хотелось расплатиться, только чем? Деньги не стоили приюта, крыши, хлеба — под каждой травинкой пинькал зензивер, весь воздух неба до самых звезд трещал, звенел цикадами — за это не расплатишься, за это платят смертью.
В эмалированную кружку из пластмассовой канистры нашлепал терпкого, густого, венозно темного хозяйского вина… все вымыть, все прибрать. Вода в ковше почти вся выкипела вмиг, лапша разбухла, с ковшом и кружкой, запоминая расположение черных отколупин на эмали, будто парад планет, дополз до Нины, поставил все на стол, задернул шторы, дернул за веревочку настольной лампы в розовом, закатном абажуре. И осторожно опустился на пол перед Ниной и так сидел, не шевелясь, боясь ее будить, смотрел текучую тектонику ее лица как музыку, которую он слышал не ушами, но всем составом, каждой каплей — как жалко, некрасиво, глупо раскрылся рот у нежности последыша, нелепости приемыша, как замерли глаза под вдумчивыми веками, и как спокойно ей, и как она слышит его и сейчас, Эдисона, так, будто он не рядом — в ней, так, будто кто-то навсегда привил камлаевский дичок к ее бесстрашному священному лицу и слил их жизненные токи воедино.
Так это было страшно, невместимо хорошо — свершившаяся жизнь достигла верхней точки, невозврата, острия, — что пробивающий дыру размером с тебя самого, необъяснимый детский ужас вдруг налетел, как зверь, как поезд, на Камлаева, невесть откуда взявшаяся беспощадная власть знания, что даже это у него, у них не навсегда, что дальше некуда, что лучше, чем сейчас, уже не будет, что невозможно не свалиться, не сойти вот с этой высоты.
Будто вот это начало уже кончаться — их с Ниной общее бессмертие, будто открылась брешь для действия закона, универсального, неумолимого, и он не знал, что это будет, что им грозит, что выстудит им кровь, что напитает теплую единую их плоть и превратит в окаменелость, что разобьет, растащит, разлучит… неужто время, просто время их напитает известковой водой и разрыхлит апатией, вялым безразличием привычки? Или виной всему лишь малость, бедность, узость его, камлаевской, размером с рисовое зернышко души, негодной, неспособной обеспечить Нине такую, как сегодня, благодарную усталость?
Вдруг захотелось страшно одного — чтоб Нина, спящая так крепко, не просыпалась больше никогда и навсегда осталась в ясном хрустале вот этого безукоризненного дня, прожитого так, как нельзя было чище, так именно, как надо, как должны они были прожить его перед лицом Творения… чтобы их жизнь закончилась сейчас, чтоб не было ни завтра, ни послезавтра, ничего. И это было как Иудин поцелуй, который он запечатлел на Нинином лице, заглядывая в будущее, опережая жизнь непогрешимо-точным представлением о том, что предстоит им завтра.
Нет, нет — словно взлетел Камлаев в погоне за душой Нины, вдруг проникаясь к ней таким отчаянным, звериным, рвущим чувством, что и любовью-то назвать уже было нельзя. И он сказал себе, что все умрет, а это — не пройдет, что каждый день их с Ниной будет соединять, скреплять, запаивать в себя такая, как сегодня на горе Креста, упрямо-несгораемая музыка, что он найдет, Камлаев, он нащупает, и все, какие есть в нем силы, направятся на это… вот эта ночь, с просвеченным доверием, бесстрашным Нининым лицом, не может кончиться — потому что она не должна закончиться никогда.
Часть IV
Пепел и алмаз
Чемоданчик Урусова
1
Дым стоял коромыслом, пятиведерный самовар сиял и резал заварной струей сизый воздух, все собрались на гулю у Артемова — Сокольников, Ульфсак, Гершкович, Фара, Столяров, Боровский, Соня, Таня, Люда, Шу-Шу, то есть Шура Шостаковская… полубезумный Лева Брызгин. Сейчас сыграют каждый — как заведено, — покажут то, чем разродились за недели, годы, десятилетия круглосуточного бдения; польется белая рекой, бурля, звеня, отплясывая опорожненными бутылками признаний «старик, ты совершенно сбил меня с нарезки» или, напротив, закипая и шипя вареной пеной взаимных обвинений, пересмешек…
О Брызгине: Лева служил инженером в «почтовом ящике» под Дубной и разрабатывал сверхзасекреченную самонаводящуюся танковую пушку, потом уволился, устроился работать звукотехником при скрябинском музее, где основал со временем и обустроил электронную студию — по виду и по сути нечто среднее меж алхимическим подвалом и машинным залом электровычислительной лаборатории; Поганкины палаты, забитые столпотворением умной техники — квадратными столбами акустических колонок, похожими на пульты управления полетами клавиатурами изобретенных Левой синтезаторов, собственноручно собранных, похожих на допотопные рентгеновские аппараты, на черт-те знает что; весь этот умный хлам и хаос, оплетенный и воедино связанный косицами тяжелых проводов, помигивал цветными капельками электричества и был способен разродиться тьмой акустических существ, вздыхающих, шуршащих, протяжно звенящих и глухо гудящих, готовых образовывать друг с дружкой гибриды, кровосмесительные брачные союзы, обмениваться тембрами, высотами, блуждать замысловато, прыгать по октавам, словно котенок за клубком, переливаться, раздуваться мыльным пузырем, не знающим стабильного определения по высоте и тембру, свободно течь, пульсировать с нечеловеческой ритмичностью, неодолимо, сладостно затягивая слух в свое журчание, неразложимое на атомы линейного времени.
Как сумасшедший с тесаком в руке, ворвался Брызгин в музей мировой музыкальной истории с хранящимися под стеклом и смугло-желтыми от времени тетрадями великих и начал тыкать ножиком во все, что попадается на пути; подход у Левы к звуку был математическим, дикарским, дилетантски-узким, но иногда казалось, что это узость лазера, способного прошить любой металл.
Брызгин питался верой в то, что умное число позволит постичь любую тайну разума и мира, будь то хоть купол Брунеллески во Флоренции, мотет Депре или безумная кривая сила творящего начала в непогрешимо-чистых очертаниях горного хребта или женского тела. Не знавший ровным счетом ничего, за исключением нотной грамоты, он пребывал в непроходимой убежденности, что ни один Адорно не сможет так понять неслышно-сокровенную природу музыки, как человек, знакомый с интегральным исчислением.
Бесцеремонность обращения с любой священной коровой и, главное, неистребимое стремление расслышать «за кишками личности» одно универсальное, «лишь то, во что мы все заключены» — вот это в Леве импонировало Камлаеву необычайно.
Кощунственная до невыносимости — до невозможности принять такое композиторским нутром — теория, построенная Левой, носила староверческий, раскольничий, реакционный и, если можно так сказать, «экологический» характер: он знал, что в «воздухе», в природе существует натуральный тон, тон-основание, и этот тон, «как камень, брошенный в водичку», «как океанский вал, катящийся от горизонта», имеет целую галактику обертонов с головоломно сложной, малодоступной, превосходящей человеческое разумение структурой; он знал, что три столетия назад изобрели «насильственную» темперацию, то есть отказались от неравных интервалов, «руководствуясь идеями контроля, комфорта и манипуляции», и звукоряд стал нищенски дискретным и столь же близким к изначальной музыкальной истине, как хитроумная система ирригации по отношению к величавой прорве ничем не сдержанной, не скованной воды.
«Поверь, меня нисколько не заботит моральная оценка, так сказать, того, что совершилось триста лет назад, там хорошо свершившееся или плохо, — он говорил, бодая Эдисона своим обрывистым ужасным лбом, — меня заботит только истина, беспримесная, голая, будто щепотка пепла в крематории, и эта истина есть то, что вся без исключения музыка от Монтеверди до тебя есть результат нелепой, маленькой ошибки, совершенной по отношению к исходным выкладкам природы, по отношению к тому, что мироздание само, без нашего участия, до нашего вмешательства помыслило о звуке. Вы, люди музыки, в известным смысле обокрали самих себя… не буду спорить, что в результате этой кражи были созданы громады месс, кантат, симфоний и концертов, что гений Баха, Гайдна, Моцарта работал в рамках равномерной темперации, но не уместно ли нам будет полагать, что эти гайдновские замки возникли вследствие утраты свободно льющегося музыкального потока? И вот еще вопрос: является ли в самом деле произошедшая утрата навсегдашней и тут обратного движения быть не может?»
Надежду на восстановление изначальной непрерывности, на новое соединение с веществом первоистока он связывал маниакально с электроникой, которую самозабвенно, неустанно изобретал, выхаживал и пестовал. Назначив Эдисона своей лабораторной Белкой-и-Стрелкой, чуть не силком усаживал его «за весла» «на галеру» опытной модели синтезатора — расстреливать мишени основного тона; то дерзко, то смиренно-бережно притрагиваясь к клавишам машины, Камлаев в самом деле ставил мучительный эксперимент над собственной природой: все в нем ворочалось и обращалось против самого себя — весь собственный и унаследованный опыт слышания, привычка к жизни, проживаемой во власти над рабски повинующимся звуком, привычка строить звуки и вести их за собой, казнить и миловать, бросать на смерть и возвращать из черного небытия, привычка к праву на создание бесподобного, на утверждение своей волей нового порядка… от баб было гораздо легче отказаться, от курева, наверное, от иглы, чем поступиться этим правом, властью, даром.
Свободный, подконтрольный Эдисону мир сжимался, мерк, жестоко сдавливал от темени до пяток, как в том горячем тесном темном лазе, по которому он некогда, толкаясь, полз, был вытолкнут наружу, в слепящее и жгучее сияние хлынувшего мира… такую же неволю, такую же смертельную зависимость от внешней материнской силы он чувствовал сейчас, едва ли не впервые следуя за звуками, которые не мог расположить в пространстве и во времени своим произволением. Он как бы мог и не родиться, мать — не справиться. А доверяться внешней силе, пусть даже и надежной, любящей, так крепко не хотелось… как из брандспойта подмывало заорать: «Пусти меня! Я сам!» «Я сам» — это было его основание, стержень и суть.
Да и надежности, любви особых он не чуял — сплошь грязные, то гадостно-визгливые, то нестерпимо сладкие ублюдки основного тона тянули заживо кишки из Эдисона, то подыхающе сипели, то гуляли, как стынь могильная в органном строе, заглоченном Альцгеймером и сокрушенном Паркинсоном, и наведенный электронный ветер сдувал их переливы куда-то вбок, в глухую пустоту, невозвратимо.
Идея Брызгина, однако, его, Камлаева, и в армии не отпускала: просиживая ночью в карауле и глядя на беднеющее небо, он камнем уходил не в глубину, но словно в густо-синюю тугую высоту закрытого для слуха обертонового спектра и с неожиданной легкостью, с мучительной свободой проникал в бескрайний микромир, из магнетического поля которого не находилось выхода.
Порабощенный его слух довольствовался только первым главным тоном и переливами, кругами его ненастоятельных, свободных отголосков, и невозможной и ненужной становилась модуляция в иную тональность, вообразить, помыслить второй тон ты был уже не в состоянии, поскольку ты и так уже купался во всех сокровищах запевшего и просветлившегося мира. Но раз за разом это чувство торжества и подчинения вышней воле — когда ты, будто плод от космоса утробы, зависишь от неуправляемой природной мощи — и ставило для Эдисона точку, и дальше были только стыд и гнев на совершенную свою беспомощность, на неспособность в первородной чистоте и силе воспроизвести свободное падение слуха в обертоновую бездну. И к этому глухому бешенству, отчаянию позора примешивалась детская какая-то обида на то, что все-таки ему, Камлаеву, не отворили — будто вели, вели надежно, крепко за руку и отпустили, бросили, нарочно потеряли на вокзале.
2
Другой Левиной смешной идефикс, соединяющейся с первой, было намерение восстановить вторую, параллельную и тайную историю новейшей музыки: как стали появляться вдруг безумцы, уверявшие, что кроманьонцы миллионы лет не истребили без остатка всех неандертальцев, более слабых, менее свирепых, чем их безжалостные победители, и что на самом деле и поныне среди нас живут потомки тех, беззлобных и мягкосердечных, — поверх всех расовых, национальных и сословных барьеров образуя тайное единство, — вот так и Лева сумасшедше верил в существование параллельной ветви музыкальной истории, в существование жрецов, которым, как и прежде, внятно и доступно свободное течение музыкального истока.
Неведомые миру гении, творившие в молчании, безвестности, затворе и умиравшие беззвучно и бесследно, должны были существовать и, ничего не зная друг о дружке, разведенные в пространстве и во времени, хранить и пестовать все изначальное богатство натуральной музыки, а не одну лишь «темперированную» часть, которую мы знаем и думаем, что эта обглоданная кость и есть уже вся музыка.
«В конце концов, и Баха раскопали, поставили надгробие над могилой спустя столетия», — бодался со скептиками Брызгин и рыскал яростно-неутомимо по обочинам, по пустырям вдоль столбового тракта, как голодная собака, уверенный, что там, под насыпью, во рву, в мазутной грязи полосы отчуждения, в бумажном мусоре, в зубах второстепенных и малозначительных найдет алмаз, наследие последнего шамана.
Бах Бахом, но Камлаев слабо верил, что, например, в последних двух столетиях найдется хоть один «неандерталец» — и «кроманьонцы»-то все были наперечет известны; безвестность и непризнанность работали лишь на коротком, лет десять-двадцать, временном отрезке, после чего из братской композиторской могилы извлекались священные останки и перезахоранивались под залпы BBC, Берлинского и Колумбийского оркестров.
— Что, Лева, не нашел еще берестяную грамоту? — поэтому спросил он у напряженного, насупленного Брызгина.
— А вот нашел. — Тот был серьезен. — Вот был такой Урусов, не слыхал?
Камлаев слыхал: урусовская «Сталь» без малого полвека звенела, рокотала, протяжно лязгала и содрогалась во всем мире в отменном исполнении все тех же Берлинского и Колумбийского — двадцать четыре целиком тебя съедающие минуты, удельным весом каждой ноты со сверхновую — высокий процент, учитывая, что от большинства останется лишь выбитая в камне черточка меж датами.
Ну, «Сталь», хорошо, и чего? Вот сколько можно увидать, когда оглянешься назад, таких едва чернеющих в тумане верстовых аккордовых столбов — известная дорога, магистральная, та самая, которой все и шли: додекафония, вебернианство и так далее.
— Ну, слышал? Что дальше? — Камлаев зевнул.
— А что ты слышал у него? Ты вот такое слышал? — Тот взял казавшийся пустым потрепанный портфель и снисходительным движением руки, по-царски милостиво двинул к Эдисону три желтых, сальных, замахрившихся листка из полустертой нотной истории болезни того, кого давно сожгли или спихнули в глинистую яму, и сами эти нотные листки в последнюю минуту кто-то выхватил из пламени, из прогорающих до черноты за истечением срока давности бумажных кип… когда, уже до предпоследнего предела истончившись, кружились в стеклянистом мареве большие пепельные бабочки.
Камлаев глянул на пузатые, как будто неуклюжей крестьянской рукой, с дебильным, ученическим усердием, каракули и тотчас же отвел от жалкого, позорного, бессмысленного пения слух, будто глаза от смерти. Нет, он не станет этого смотреть. Узаконенный вечность назад на концертно-базарных подмостках литургический Stabat… нет, он не будет этого смо… — в сиянии одеревенения, в кипении лютой стужи, еще до первого прикосновения к тупому лакированному клюву он все уже услышал, как целое, как вид с горы, схватив звучащее пространство, строй сокрушительно живучих черных нот и то, что между ними и под ними. И это было то, что навсегда запрещено, запаяно в свинцовом могильнике на глубине, вот это до-мажорное трезвучие, вот эта терция урусовского Stabat… и это надо было быть не знаю кем по уровню развития, абортным материалом вообще, чтобы до полной гибели всерьез подделывать подобную монету и предлагать ее в оплату за проезд. Вот эту вянущую жопку шлюшки-терции, до папиллярных линий стертую купюру. Но только золото — как будто знал покойник алхимический секрет — легло Камлаеву на грудь и придавило, не оставляя и щели для писка, для жалкого, недоуменно-детского скорее «почему?», чем «как?». Ему, вот этому покойнику, «открыли».
Вцепившись, впившись в нотный лист, он, Эдисон, упрашивал забрать его с собой: минор по-детски смирного, доверчивого хора ложится интонационной патиной на чистое золото терции; мажорное трезвучие у оркестра умножено стократно регистровыми дублями и разрастается в пространственно огромный монолит, уничтожающе тяжелый и спасительно прозрачный… — все это было ясно, как свои пять пальцев, но он, Камлаев, ничего не понимал.
Привыкший стягивать, сводить все сущие параметры звучания в единый фокус, вертикаль аккорда, он и помыслить, вообразить себе не мог иной системы координат для звука, кроме аккордовых столбов, сменяющих друг друга, как отлично сделанные вещи на полках грандиозного универмага… ну, так, порой блажилось, мерцало смутно что-то в этом роде, и интерес к многоголосым мессам фламандских колдунов был стойким, неуклонно жадным, но лишь в порядке составления и решения контрапунктических шарад… а тут заставили его, Камлаева, услышать поточное движение самостоятельных отдельных голосов, контрапунктически сплетавшихся, — над головой, внизу, повсюду, и сам ты был повсюду и нигде, переживая свою слитность, общность с любым из голосов и с непрестанно изменяющимся целым, которое то бедно, исчезающе, оневесомленно мерцало в неодолимой дали от тебя, то настывало жгучей толщей ослепительного льда, все личные неповторимости сплавляя в катастрофически мгновенном тождестве.
Вообразить себе, что все запели, неся свой звук, свой смысл, свою потерю, свое отчаяние, свое благодарение, хвалу, каждый — на собственной природной высоте, и сквозь обычную членораздельность вдруг кто-то начал петь законченными фразами в значении, в качестве отдельных, ничего не значащих логически фонем, и ходом вышнего пласта над головами потекла божественная речь и каждый стал лишь буквой в горней книге, и каждый, все и целиком — единым Словом. И превратившись в Слово, перейдя, никто не потерял лица и собственного голоса, чья бесподобность, видимо, нужна, угодна Вседержителю; вот было чудо — «я» никто не отнимал, и «я» питалось сытным смыслом посильного уподобления единственному образу.
Никакого Урусова не было — как не было Матфея, Марка, Луки и Иоанна в Святом Писании, как совершенно нет и быть не может лица и имени там, где от человека требуется лишь сверхпроводимость.
3
— Прилипло к пальцам, а могло и мимо, — и Брызгин изложил историю раскопок: Урусов, как известно, пропал в 38-м — приговорен к восьми годам трудлага, — через три года был помилован с запретом проживать в столицах на пять лет и не вернулся, растворился в великой пустоши страны. Нам всем известна его «Сталь», все остальное, что мы можем сейчас пощупать при желании, — конгломерат прискорбно, оскорбительно банальных здравиц в честь императора, Калинина и Красной армии… но по словам старухи Соболевской, многолетней соседки «пролетарского Веберна», был еще некий чемоданчик, черный, лакированный, обшитый желтой кожей по ребрам, и — разделение всех сочинений у Урусова на «чемоданные» и «хлебные», «халтурные», «пайковые».
Соболевская «помнила все»: будто вколачивающую гвозди ночную поступь забирающих, и как Урусов вышел из дому с каким-то «жалким узелком», и как остался там же, где и был, на средней полке этажерки, чемоданчик, и как пришли на следующее утро описать и заграбастать мебель, фарфор и бронзу композитора: все дорогое, редкое, добротное свозилось в специальный магазин, в котором офицеры безопасности приобретали вещи «стертых» и расстрелянных, и щегольской, фасонистый вот этот чемоданчик, конечно, сразу приглянулся кому-то из допущенных в чекистскую «комиссионку», если, конечно, вообще дошел до «розничной сети», а не украли по дороге.
Сестра Артема Стародубцева, живущая в Калуге, показала: брат ненадолго пережил своих подследственных и поднадзорных — таким, как Стародубцев, людям Тайного приказа, был уготовлен краткий, быстролетный век и разделение участи несмети пытанных, сгноенных и убитых, вот по какой-то людоедской справедливости Империи, которая не знает разницы меж «кирпичом» и «каменщиком»; перед арестом брат оставил у нее громоздкий чемодан, набитый награбленной покойницкой утварью. В годы бескормицы и продуктовых карточек все подстаканники из драгоценных сплавов ушли в обмен на сахар, постное масло и дрова — приемка по весу, — а «бумажки» остались.
Спустившись в пыльное подполье, весь трепеща от хищной радости, нетерпеливо смахивая с потного похолодевшего лица налипшую седую паутину, разбрасывая ящики из полусгнившей, покоробленной фанеры и отсыревших, плесневелых досок, Лев, наконец, добрался до сокровища: заветы с ятями, «Происхождение видов», баховский клавир, часть партитуры авторства Урусова, «Москва-2117» — такой осколок позвонка, который партия постановила резецировать из грандиозного коллективистского проекта «Четырежды Москва» с участием студентов Шостаковича, Урусова, Кириллова и Глебова… вторую драгоценность, «вообще третичного периода», он, Лева, выложил перед Камлаевым и прочими на стол — седой квадратик мраморной бумаги, официальный бланк придворной фортепианной фабрики «Оффенбахер и К».
Санкт-Петербург, 12 декабря 1911 г.
Господину И. А. Урусову
В г. — Здесь
Милостивый Государь.
Настоящим фабрика имеет честь подтвердить, что она ответствует за прочность металлической рамы купленного Вами у нея фортепиано за № 4985 в течение десяти лет и принимает на себя обязательство заменить лопнувшую раму новою в том только случае, если… А также за прочность всех поставленных материалов.
С совершенным почтением…
— Стоп, стоп, — сказал Камлаев, — я ничего не понимаю. Все это очень интересно и волнительно, но Stabat, вот Stabat откуда? Чья это мать скорбящая? Урусов тут при чем?
— При том, что почерк совершенно идентичен, — проткнул его Брызгин. — Что здесь, что в «Москве-2117». А что он над «Четырежды Москвой» работал — исторический факт.
Покойник ожил, жуть набежала сквозняком, оледенила, пробрала Камлаева, на дление кратчайшее он замер будто перед взглядом, иконописным, круглым, в упор вынимающим душу.
— Лева, Лева, отключи свой рентген, поскользи по поверхности. Ну? Что ты видишь?
— Идентичные почерки.
— Лева, это шариковая ручка. Не карандаш, не «рондо» — шариковая ручка. Какой чемодан? Шестьдесят седьмой, шестьдесят восьмой, не раньше! Урусов — здесь! Он ходит в бакалею, в поликлинику, за водкой. Или ходил еще совсем недавно. Вы понимаете, что это значит? Вот были мы и есть, в своем самодовольстве, самолюбовании, со своими поделками в «Юном конструкторе» и рядом с нами было это. Ты хотел параллельной истории музыки? Так получи ее конкретно творящуюся в наши дни. Когда он умер, где? Он умирал ли вообще?
— Едрить твою раскудрить! Листки со Stabat я нечаянно обнаружил в довоенном издании «Музыкальной эстетики Средневековья»… ну, букинист на Герцена… который год, я этого не посмотрел… вот идиот! — забормотал прибито Брызгин. — Откуда, в самом деле? Хозяина установить не представляется возможным.
— Чего? — Камлаев взвился. — «Сталь» исполняют тридцать лет без перерыва, по двадцать в среднем исполнений каждый год, и ты хочешь сказать, никто не знает, жив он или помер? Никто не знает, где его могила, мать твою?
— Ну ты же не знаешь. Ты прожил двадцать с лишним лет, ни разу об Урусове не вспомнив. Ну, «Сталь» и «Сталь». Ну, был такой и был, едва ли не в начале века, проходит по разряду даровитых и значительных… но, в общем, никому не интересен.
— Но ты-то искал?
— Искал, но не нашел. Живых Урусовых, то есть полных тезок, я обнаружил только пятерых, и все не те — есть шахматист, есть киевский скульптор… Я щелкнуть пальцем не могу, чтобы мне сделали как в детективах «Огарева, 6», нашли искомую могилу или человека на территории СССР за два часа и с точностью до километра, и «телетайпом», молнией в Москву — анфас и впрофиль, с отпечатком пальцев. Кто что мне скажет об одном из репрессированных… ведь понимаешь: там же все подчищено. Ни детей, ни родных. Женат на Ираиде Елисеевской, кинозвезде тридцатых, блиставшей «несоветской сексуальностью», ее саму пустили по этапу за связь с «германской разведкой», Урусов — для нее мертвец — дословно. Не пожелала говорить со мной. Молчит и не пускает. Теперь друзья, знакомые, ученики, клевреты, братья по оружию. Они молчат. Они не помнят. Не делают вид, что не помнят, а именно действительно забыли. Урусов перестал для них существовать в ту самую минуту, когда его приговорили. Нет, мы их не поймем… это другие были люди, другая вот порода совершенно…
— Хреновый, Брызгин, из тебя поисковик. — Камлаев на него рукой махнул: его не сильно волновало, какими те люди были тогда; его другое захватило, подчинило — Stabat, перевернувший Эдисоново нутро и ставший будто родовой травмой.
Дело было не в технике — вот именно технику (как бритву, отделяющую новое живое от старой мертвечины, как вечное стремление каждый раз определять это «живое» заново) Урусов, собственно, и отменил — все то, чем может человек гордиться как собственным изобретением, как сделанной вещью, как грандиозной плотиной, возведенной поперек реки, которая с начала мира не знала никакой преграды, насильственного перепада, несвободы. В том-то и было дело, что Урусов как будто ничего не сочинил (спокойно взяв чужие ноты, к ним прикасаясь как к ничьим, как к неделимым, первым и последним), а лишь прислушивался долго, терпеливо к неслышимой несмети голосов, всюду несущих строгие благодарение и хвалу, — так бешено звучит, не умолкает вокруг тебя бездвижная, беззвучная, казалось, совершенно безжизненная степь — и ждал, когда будет дозволено вступить в общий порядок звуков; подобен травяной звенящей дудке был, в которой высохли все соки, которая безропотно, бездумно их отдала назад природе целиком, готовая кормить собой землю.
Вот этот способ слушания — быть всюду и нигде, в зените и сохлыми соками почвы, передающей средой, а не хозяином, и проломил Камлаева — который моментально обнищал, настолько жалким и бессмысленным торговым разнобоем мгновенно сделалась вся выставка новейших композиторских вооружений.
Все разговоры, все слова не объясняли ничего; был нужен он сам — его, урусовское, слово, учение, наставление, завет в какой угодно форме, хотя Камлаев предпочел бы из уст в уста, а не наследие из партитур и дневников, пометок на полях любимых книг и долговых расписок… и каждый день он начинал теперь с неистового убеждения себя, что бывший зэк и не подумал помирать, живет и по сей день в монастыре, в глухой деревне, в брошенном старательском поселке за Уралом.
4
От пребывания Андрея Ильича Урусова остался на земле короткий, обрывающийся след: судьба единицы, приватная правда, не веся ничего, катилась по глухой плите истории тогдашнего СССР бумажным сором, хвойными иголками; империя сплавляла в монолит общенародного завоевания разновеликие потенциалы личных дарований, и нужно было быть Вавиловым, Ландау, Мандельштамом, чтобы оттиснуть собственный хотя бы еле-еле различимый отпечаток, оставить что-то подлежащее раскопкам, воссозданию, а стало быть, и мифологизации.
Родился в 1904-м в чеканно-неприступном том, столичном Петербурге, в семье известного, «неизлечимо зараженного нормальным классицизмом» архитектора (чугунное литье, решетки, львы и проч.) и знаменитой оперной певицы Марии Александровны Усольцевой. «Потомок старинного». Всем почему-то это стало важно в поколении Камлаева — вот этот рафинад селекции, происхождения, фамильной чести: будто исчезнувшие, вымершие те что-то такое в самом деле знали, несли в составе своей крови, вот даже говорили на другом, нам непонятном русском языке (нам, заводским и деревенским, проткнутым канцелярской скрепкой, с наследственной крестьянской прищепкой на пухнущем мычанием отростке).
В 15-м году Илья Урусов («император чугунных рек», как отчеканил в посвящении второстепенный поэт-символист Доб-в) мобилизован в действующую армию и волей Божей геройски пал в славной борьбе за… вымарано наглухо и вписано «против германского империализма»… в болотах Пруссии в составе воинства несчастного Самсонова. Андрею только восемь, но след уже бледнеет, начинает путаться. После 17-го мать, «поверив в идеалы Революции», по-прежнему поет в Мариинском, в 20-м вновь выходит замуж — за художника Лебланда.
Шестнадцати годков уходит из семьи, работает учеником, потом литейщиком на бывшем Сан-Галли («Кооператоре»). Зачем туда, в багровый жар чугунной преисподней, куда спускались замыслы отца, чтобы одеться плотью, прокалиться… зачем сгибаться, шуровать тяжелой кочергой, натруживая мышцы? Во всех анкетах честно сообщает: «происхождение — из дворян». А мог бы ведь, наверное, прикрыться мещанством отчима, мог «позабыть» сословие отца. Что это — надменное львиное сердце или стремление быть честным перед партией? Если гордыня, то откуда вот эта тяга к уравнению, слиянию, отождествлению себя с рабочей массой в «производительном труде»?.. Он — в самом деле верит. Не кому-то — Блоку. В необходимость, благотворность этого кровопускания — пускай сойдет отравленная, черная, нечистая, сословной неправды, извечной потребности сильных давить, извечной готовности слабых сносить, унижаться. Только выгорев, в муках, с зубовным скрежетом родится новый, чистый и прекрасный, и он, Урусов, должен, «искупая», строить.
В 22-м он поступает в инженерный техникум, в 25—30-х — в Тамбове и Воронеже, по разнарядке электрифицирует страну, неутомимо углубляет котлован под будущий всемирный человейник из стекла и стали. Но 1926-м уже написана и послана московским АСМовцам «Двенадцать», «революционная поэма для хора и оркестра» — опасной бритвой отворяющие кровь, холодно-яростные кластеры, литой чугун в неумолимо-мерной поступи восставших в полный рост гигантов, наотмашь бьющая стеклянноколкая мятущаяся вьюга и черный ветер в ирреальных, глотающих века, империи незаживающих регистровых зияниях. «Настоящим письмом имею честь сообщить о прочном и ясном желании принять участие в музыкальном строительстве СССР». Асафьев и Ламм зовут инженера в Москву, в 30-м зачислен по классу композиции в Московскую консерваторию — зачем? его «домашнее образование» стоит всех, вместе взятых, университетов, в начатках грамоты он не нуждается.
С 30-го — член АСМ (АСМ — это «время пулям по стенкам музеев тенькать»), вот только время левизны, бунтарства, слома сыплется уже последней истончающейся струйкой, уже отстуканы на пишмашинках, оглашены с трибун постановления всех этих ВАПМов, «Пролеткультов», уже проглядывает между свинцовых рядов типографского шрифта отчетливое симпатическое «вешайтесь», «сейчас уже нельзя жить даром божьей пищи, нельзя быть ничьим, сейчас уже каждый — либо наш, либо враг». Но он, юнец, не слышит, перепонки отбиты растущей поступью сталелитейной индустрии, тяжелозвонким эхом семимильных, которыми передовой отряд вращает Землю в прекрасное и яростное будущее.
В 32-м зачат коллективистский, под стать мегаломанскому Дворцу Советов, проект «Четырежды Москва» — балет, который призван склеить позвонки столетий и перекинуть позвоночник-мост из деревянной, богомольной ивангрозновской в стальную, небоскребную грядущую; осуществить должны студенты-композиторы: Кириллов — Грозный, прогрессивная опричнина, Половников-Глебов — пожар двенадцатого года, Шостакович — Великий Октябрь, Урусов — через двести лет, 2117-й.
Почти что два года работы. Народный комиссариат культуры, искусствоведы в гимнастерках и толстовках проект не приняли: не тот пожар двенадцатого года, без должного упора на паразитарную, наверное, сущность крепостничества, раздут был молодым Половниковым-Глебовым; тотально-заорганизованный, уничтожающий любую личную неповторимость perpetuum mobile урусовской Москвы, наверное давал картину ада, в которой человек соединяется с машиной, отождествившись с ней; Урусов сочинял мечту, а получилось, прозвучало — повальное, порезанное поровну, штампованное счастье, достигнутое средствами фабрично-заводской лоботомии.
С 30-го по 35-й он — никто, безликий безымянный труженик от музыки, на скромной должности секретаря «Проколла» («Продукции коллектива студентов-композиторов»), аккомпанирует перед сеансами в кинотеатрах — стоячий воротник врезается в потеющую шею, пижоны в светло-серых и кремовых бостоновых костюмах ведут под руку крепдешиновых и ситцевых окатистых бабешек пить кофе с ликером, нарзан, лимонад… приподнимаются, игриво выгибаются нещадно сбритые и отрисованные заново карандашом тонюсенькие бровки и надуваются отчаянно-алые сердечки влекуще-наливных капризных губок, древесной трухой, струящимся песком становятся «Москва-2117», «Плотина», «Фабрика», «Безбожная (!) симфония»… всего двадцать четыре опуса.
Камлаев, сытый и обласканный с пеленок, с тринадцати годков отъевшийся на славословиях на вечность вперед, спокойно, в общем-то, переносивший локальный, так, какой-то всесоюзный запрет на свою музыку… якшавшийся с Ксенакисом и Кейджем, описанный как исчезающая тварь в трактатах Штуккеншмидта, Адорно и др., мог лишь теоретически представить ту глухоту внешнего мира, то абсолютное молчание, что выпало Урусову на долю.
Как стал Урусов тем, кем стал, как взмыл в наркомы музыкального строительства СССР — установить не представляется возможным. Остался миф, не подлежащий проверке на процентное соотношение истины и бреда: что написал письмо верховному, отчаянное, жалко-умоляющее, тот прочитал, послушал сам — заняться больше нечем?.. что мог он в этом понимать, откуда — недоучившийся семинарист, жлобяра, урка, «Сулико»?.. — и с расстановкой вдавил в навостренные уши таящей дыхание свиты: «Я думаю, в этой талантливой музыке чувствуэтся живая искрэнняя вера нашего народа, готового самоотвэрженно работать на умножение мощи нашей Родины. Я полагаю, надо дать Урусову возможность проверять такие сочинения на массе».
«На массе», да, такое сочинение действительно проверить нужно было неотложно — перемолоть, пережевать сто миллионов «я», вбить в головы сознание, веру, что существует только это, что вне повиновения, вне ритма, вне пределов металлургической, шахтерской, пахотной литании нет жизни человеку никакой: отделишься — умрешь от непричастности, приравненной к небытию.
Урусовская «Сталь» залязгала, возвысилась ликующими трубами литейных комбинатов и оружейных городов под сводами Кремлевского дворца, наращивая высь и раздвигаясь вширь до акустических пределов одной шестой и дальше — мира, и все отзвучивала, билась, возвращалась неумолкающей железной реверберацией, нещадно задавая ритм на световые пятилетки под рабские рукоплескания однообразных гимнастерочных и френчевых рядов.
Все стало ясно, когда Лева Брызгин нашел в издании «Переписки с деятелями литературы и искусства» краткое письмо:
2 ноября 1935 г.
Тов. Животов!
Обратите внимание на т. Урусова. Он, бесспорно, крупный талант (судя по его большому сочинению «Сталь»). Он, как видно из его письма, капризен и неровен (не признает «оглобли»). Но эти свойства, по-моему, присущи всем крупным талантам (м. б., за немногими исключениями). В своем письме Урусов пишет чуть ли не о травле, устроенной против него правлением нашего Союза композиторов, Главреперткомом и проч., о совершенной невозможности издания и исполнения его произведений. Считаю, что подобная «блокада» ниоткуда не вытекает. Не надо объяснять ему, какую музыку он должен сочинять в настоящее время. Урусов и так пишет музыку, прежде всего, большую, то есть такую, где и замысел, и выполнение отвечают размаху и главным задачам эпохи.
Пусть пишет, что хочет и когда хочет. Словом, дайте ему полную свободу. И поберегите его,
Привет!
И. Сталин
«Сталь» издается «Госиздатом» полуторамиллионным тиражом, оркестры первого порядка от Москвы до Бостона расхватывают пахнущие свежей типографской краской нотные листы, в составе делегации советских эренбургов Урусов приземляется в Париже («Гранд-опера», посольские приемы, белужья икра, шампанское, рукопожатия, рукоплескания), в «Советской музыке», в «Известиях», в «Правде» подобострастно сообщается, как продвигается работа композитора над грандиозной «ЭС-ЭС-ЭС-ЭР-ией», большие групповые фото — а-ля Горький — с веснушчатой лопоухой пионерской оравой, квартира в доме на Грановского, массажная кушетка, огромный черный фаэтон «паккард», скрипящий желтой кожей откидного верха.
Молчавшие о «сути дела» современники оставили тут мелочно-дотошный перечень примет внезапной государевой любви: «ему, как Горькому, привозят папиросы из Египта», «явился одетым как денди — в двубортном темно-синем спортивном пиджаке и в белоснежных брюках с щегольскими белыми туфлями», «преподнес Ираиде почти что непристойно дорогой подарок — изумрудные серьги старинной работы», «прекрасная машина, он ездит сам с самоубийственной скоростью, нарочно будто навлекая на себя упреки, что он не дорожит собой, и дожидаясь лишних уверений, как много значит он для нашей музыкальной жизни».
Фотография в одном из номеров государевой «Правды» — горбоносый «кавказский» красавец, фатоватые черные усики, белоснежная кромка зубов, глянцевитые губы с влекущим изгибом… ну прям «Свинарка и пастух» какой-то, сияют благодарностью за выпавшее счастье драгоценные бараньи глаза — «молодой композитор работает над туркменской песней о Сталине». Это что, это «жизнь удалась»? Реализация «природных данных» в халве и балыке из спецраспределителя? Это ты ли, Урусов, вообще? Это ты произвел, пропустил сквозь себя, как струна, как труба, через ЛЭП ЦНС неподдельную, чистую «Сталь»? Поголодал немного, слившись с пролетарской массой, попал «в размах и главные задачи» и, оседлав волну, раскинулся на травке в Царствии Небесном? Конечно, фото лжет, не может в полной мере считаться документом человеческим, но это, это вот откуда:
Если бы глаза мои блистали.
как в семнадцать лет,
Если бы щеки розовели, как яблоко спелое,
Я бы съездила в Москву, город большой,
Я б увидела там ясна-сокола Сталина.
Песня старой крестьянки, едрить твою мать! «Когда он очень утомится, то берет беговую машину и мчит — эта гонка приводит его мысли в порядок». И горячая Ида в подаренных брюльках под боком. И только это? Должно же было быть что-то еще, не могло не закрасться, тень облачка хотя бы, призрак подозрения, что эта должность капельмейстера при сталинском дворе — совсем не то же самое, что служба Гайдна или Моцарта?.. Не мог же он вообще не видеть, что творится, что делают с его дремучим, земляным, слепо-доверчивым, неимоверно терпеливым и выносливым народом, не мог не слышать дзеньканья расстрельных гильз, которые железным снегом устлали землю родины в три слоя. Не мог же он, в конце концов, не понимать абсурдности, убожества всех этих белой ниткой сшитых обвинений… ведь сам же он еще недавно был у них «продуктом западной цивилизации», «последним выкриком культуры декаданса», судимым за «формалистическое искажение современной жизни». И тут вдруг скотское, кормушечное, рабское довольство — «что я еще могу, мой господин?». Откуда эта наглая, глухая утрата собственного «я», достоинства, породы, страны происхождения? За что ж его тогда-то посадили вообще?.. Ну не считать же эту вот душевнобольную туркменщину «концептуальным жестом», глумлением изощренным над персоной государя.
В 38-м году Урусов, «увлекшийся фольклором республик Средней Азии», был арестован офицерами с эфесами мечей на рукавах и стерт по 58-й статье, раздет и брошен в шахту вместе с пижонской лаковой «балеткой», полной партитур, вместе с засыпанными безвестью осколками пластинок, фарфоровыми куклами любовниц и фотографиями умерших родителей, со всем неповторимым, малоценным в империи послушания личным мусором. После 38-го — могильное зияние; с кем жил, к кому писал — ни женщин, ни друзей, ни покровителей… за ним, Урусовым, подтерли основательно, до лязга заступа, уткнувшегося в камень: никто не должен был узнать, за что его недавно по-лю-би-ли, никто не должен был узнать о самом факте императорской любви.
Одна лишь «Сталь», один лишь звук, сам по себе, остался от Урусова — отменным, чистым, прокаленным, затвердевшим под неослабным боем музыкальным веществом, отжатым из исчезнувшего человека, будто из виноградной грозди, и заключенным в прозрачную твердость кристалла. Камлаев все не мог себе представить тот уровень воображения (шаманской одержимости, монашеской открытости, пора-бощенности, неволи), на котором возможно было породить вот этот опаляющий, сухой, от самых первых дней взрывного становления природы, до мозга костей пробирающий жар, гудящий в духовых, как в домнах… тот уровень сознания, на котором можно поднять вот эти несгибаемо-выносливые, прочные аккордовые сваи, вбиваемые в каменное тело сплошного пролетарского врага… непогрешимо обеспечить вот эту жуткую сверхпроводимость струнных, вот это нагнетание ритма, громкостей, высот, что резонируют пределом человеческого подвига: еще мгновение, — и уровень сопротивления пробит, грань, за которой смерть уже не ранит, пройдена.
5
Живы были, не стары, здоровы те, кто с Урусовым работал и дружил, те, кому приказали забыть про собрата и друга, и они подчинились, забыли со свойственной имперским подданным стоически-дебильной безропотностью — с какой-то жертвенной отвагой, похожей на предательство, с какой-то рабской подлостью, неотличимой от староверческого страстотерпия. И через тридцать восемь лет молчали все:
Рославец, Щусь, Алимушкин, Кириллов — все композиторы, которые в тридцатых работали с Урусовым по методу бригадного подряда… молчали виолончелисты Костин и Дашкевич, скрипач Белинский, дирижер Бурмистров, молчали маршалы и адмиралы, актеры МХАТа и спортсмены ЦДКА.
Сквозь кашу во рту, неуловимо-лицемерно силясь разглядеть лицо товарища, кумира, собутыльника, учителя и ничего не видя сквозь обильно поваливший снег забвения:
«Да, да, Урусов, как же, как же — феноменально одаренный, в консерватории он подавлял буквально всех, необычайно бурно развивался и заражал своим развитием всех нас (так что ж ты, сука, до сих пор не отыскал его могилы, не вызнал, где он, что с ним сталось?.. ведь стало уже можно, не смертельно… в глаза ему боишься посмотреть?)… вы знаете, сам Шостакович цитировал его, Урусов был единственным, кому была оказана такая неслыханная честь… связь с ним?.. оборвалась в тридцать восьмом, после его ареста, тогда, вы знаете, что это означало (знаю-знаю — а кости его размечи и погреби ослиным погребением, но почему тогда так прямо смотрит этот скот в глаза, бесстыдно, без сомнений, так, будто так и надо было — отречься, позабыть, не вспомнить?). Да, умер, кажется, в конце шестидесятых, жил в Куйбышеве долго, преподавал, по-моему, в обычной музыкальной школе… не знаю, нет, мы не были особенно близки».
«Вы знаете, друзей как таковых… он был очень надменен, все время держал расстояние, к тому же остер на язык и несдержан, обидеть мог легко и тотчас позабыть… да, мог бы стать заметной фигурой, все было, мощь, талант, величие замысла, но оказался виноват (в чем виноват-то, в чем?)… нет, этого я не могу сказать… был близок с иностранцами, тем более его жена, актриса Елисеевская… непонимание обстановки, то есть, совершенное… был факт — виновен, такое было время, велась борьба, я все вам сказал, молодой человек».
Разговорился, как ни странно, только Бабаевский — неутомимый папа Карло двух дюжин преданно скулящих «Октябрей» и «Лениных в Разливе», камлаевский консерваторский бывший педагог, гвоздивший Эдисона «двойками» по композиции:
«Да это кто же, ётить, к нам пожаловал! Ученичок! Камлаев! Вот посмотри, Маруся, — типичный представитель поколения. Ты что пришел-то, мил засранец? Валяй-валяй, я нынче добрый. Чего-чего? Урусов?.. что ж, изволь. Его песочили тогда нещадным образом на РАПМовских всех съездах за искушение буржуазной модернистской гнилью, и он вообще нигде не исполнялся, и тут вдруг «Сталь» его как раз… он сразу выдвинулся в первые ряды, пошли концерты, фильмы… Чего? Какая ревность? Чего ты понимаешь, фря? Это у вас сейчас друг к дружке ревность, кто по спинному мозгу поострее проведет и кто на Запад первым драпанет к кормушке. Его отметили, ты это понимаешь? Его избрали дудкой, трубой великой силы нашего народа… Андрей, он партией был призван, — в совиных, с прожелтью, глазах, сквозь смесь склероза с кайфом возник-пробился людоедский блеск: будто поднялся среди ночи по команде, на зов трубы… — Ты «Сталь»-то его слушал? Как ты ее слушал? Будто инструкцию по сборке, да, вот по внедрению новаторства? Он, может, не хотел того, не мыслил вообще как цель, но он, Андрей, невольно или вольно сам дух схватил — не останавливаться, сжечь себя для Родины — вот это у него звучало, только это, без примеси, как чистое железо. А я… я Ленина на сцену первым вывел, он у меня запел, наш вождь, в «Разливе». А он послушал и сказал, чтобы убрали это пугало. Сказал: «отдайте это на-ше-му Урусову». Ну, понял, нет?
Не врал: и вправду не зависть им внушал Урусов, не человеческое, слишком человеческое, обыкновенное, земное, скотское — нет, суеверный ужас, жрец, верховной императорской волей вознесенный на самый верх гранитной пирамиды ЛЕНИНа… его, Урусова, жалеть, скорее, нужно было — как исполнителя, который больше не принадлежит себе, который ни на чем не держится, кроме верховной воли, которую он должен чисто проводить в усильно-напряженно-радостно внимающие массы: чуть-чуть нарушится вот эта чистота, чуть-чуть ослабнет эта сила, и исполнитель будет уничтожен, уже не нужен Партии, чью истину, чей голос уже не может превратить в мелодию.
— …Чего? За что его? Формально из-за Ираиды. Она просто дура и блядь. Якшалась с дипломатами, служила в безопасности сексоткой. Ну да, а как? а то бы ей позволили вести себя так нагло. Ну да, сболтнула что-то там про собственного мужа, ночные разговоры, письмо еще какое-то, которое он Шехтеру писал. Но это только так, все рябь лишь на поверхности воды. Он стал вопросы задавать, Урусов. А на вопросы права не имел. Не понимал, что чуть малейшее сомнение, шаг в сторону из общего потока — и все, тебя раздавит атмосферный столб. Да, да, те самые вопросы. Он делал гимн и марш, а переделал в отпевание, ты понял? Была «ЭС-ЭС-ЭС-ЭР-ия» у него, а переделал в «Котлован». Ну да, в «Котлован». Я сам не слышал, мне передавали. Бес его знает. Он умер для меня тогда, в тридцать восьмом. Да, так. И каждый тебе скажет так же в нашем поколении. Да потому что мы всю жизнь себя не видели, а только то, что строили. А вы просрали…»
Все официальные урусовские документы, протоколы допросов, подшитые к делу, навечно были упокоены в запаянном гробу, в сибирском язвенном могильнике специального опричного архива — в военно-строевом соседстве с миллионами других допросных протоколов и приведенных в исполнение приговоров.
Он, Эдисон, не спрашивал себя, как может быть такое — ни имени, ни воздыхания, ни креста. Тогда только так и могло быть, сейчас только так и могло продолжаться: он жил в стране, не помнившей имен, не знавшей различения народа своего на лица, и это было неизменно, как наш степной простор, как климат.
Но все-таки не мертвого — живого не удавалось отыскать, ведь факт: Урусов вышел, выжил, кем-то работал, где-то жил, писал вот шариковой ручкой уже в шестидесятых, в наше время… Камлаев зрил и осязал вот эти пожелтевшие шероховатые листочки, непререкаемо в ушах стояло чудо урусовского Stabat… Урусов, потеряв, оставив им здоровье, выбитые зубы, увидел снова солнце, клейкие листочки, букашек, паутину и прочие Господние дела, ему дарованные сызнова… увидел как какой-то детский рай вещей, которые лежат поверх, вернее, глубже выбора, соблазна, предпочтения, вожделения, потребности иметь, присвоить. «Так будьте ж довольны жизнью своей — тише воды, ниже травы» — вот тут и Блок еще все объяснил: не малость, не скудость, не низость, не нищета-убожество, а выше травы и нужнее воды у Бога нет для человека ничего, «довольство» — благодать, живущая в тебе «до воли» насиловать реальность своими пожеланиями по «улучшению режима». Он это услышал и принял в себя, и только благодарность могла в нем резонировать и исходить вовне богослужебным звуком, — вот, кажется, откуда взялся этот Stabat.
«Платонов». Музыка для фильма
1
Монтажная, в которую его послали, была размерами с раскольниковский гроб: сухой, со впалой узкой грудью и острыми плечами горбоносый хмырь в обвислой допотопной кофте и потертых вельветовых штанах Камлаеву не приглянулся откровенно — филателист какой-то, Плюшкин, унылый телемастер, который поженился со своей аппаратурой и вставляет транзисторные ножки в монтажные гнезда. По-иудейски грустные глаза, большие, выпуклые, смоляные, медлительно переходили с предмета на предмет — «простите, мне сказали, тут вроде сидит Падошьян…», — остановились безучастно на Камлаеве — узко заточенный фанатик, чахнущий над никому не нужным целлулоидным мусором.
Он все равно что ничего не говорил — тыр-пыр, пык-мык, так ноют на вступительном экзамене английского провинциалы, колхозник объясняет, как его стричь, надменно-отчужденной парикмахерше, — повел Камлаева в пустой, забрызганный белилами, покрытый сплошь строительной пылью кинозальчик; погас подслеповатый свет, с когтящимся мышиным шорохом, рывками побежала пленка.
Танцующий ливень штриховки — особенный ливень забвения, стирающий все, — переливался грифельным мерцанием, то вдруг вставая на экране непроглядной пеленой, то вдруг редея в середине, сильнее припуская с краю одного, другого, так, будто спасительный ветер сносил его в сторону, давая разглядеть сквозь дождевую стену лицо, фигуру, улицу, фонарь, давая на мгновение щель просвета, то вдруг полноразмерную, во весь экран, нежданную, почти ошеломляющую ясность… и возникал будто эффект обратной киносъемки, движения в глубь экрана, времени, отчизны.
Вода смывала верхний слой, функциональный мусор современности, опознаваемый покров цивилизации — асфальт, высотки, шпили, линии электропередач, и обнажалось сгинувшее, слизанное огромным языком прогресса прошлое столетие: вставали башни старого Кремля и подымались мукомольные лопочущие мельницы с плотинами и сливами, круглились тесно сбитые булыжники широких мостовых, которые еще не разобрали восставшие в 905-м пролетарии, разъезженный тележными колесами протягивался тракт, выкатывались первые глазастые авто, пролетки, дрожки, гарцевали казачьи разъезды, вскипала деловито муравьиная орда в цилиндрах, шапокляках, сюртуках, приподнимала котелок, поигрывала тросточкой — уже не оружием защиты от черни; с комической скоростью валил сияющий окладами икон и золотым шитьем хоругвей крестный ход (парча архиерейских риз, расшитые мундиры, потом кафтаны, армяки и бороды крещеного простонародья), навстречу пер, без строя и порядка, темный вал, бунташный, стачечный, голодный. Молотобойцы, горновые, слесари, ткачи — поняв по Марксу природы вышней силы, определяющую логику их жизней, — революционная толпа сучит по-насекомому руками и ногами; так это глупо-жалко, так пронзительно смешно, что сердце обрывается: десятки тысяч «движителей времени», «вершителей истории» отчаянно бегут навстречу смерти со скоростью десять шагов, сквернословий, затяжек в секунду.
Да, этот Падошьян работал совершенно музыкально — не просто темповыми сменами, не только столкновениями предельных краткостей и протяженностей, не только склейкой разнородных и нестыкуемых фактур (сей эйзенштейновский монтаж аттракционов был Эдисону не в новинку, все уже было в «Броненосце»), но и еще сосредоточенным и неуклонным повторением одних и тех же «бедных» нот, но и еще растянутым во времени, неумолимо-скучным, по песчинке накоплением почти неуловимых микроизменений, что уже было ближе к шаманизму в отдаленных районах Крайнего Севера.
Так страшно быстро истлевали козьи ножки в негнущихся могучих пальцах морщинисто-улыбчивых мастеровых, так страшно бешено ходили поршни ткацких паровых машин; так страшно вдруг горючим вороным сверкающим фонтаном, как из аорты, ударяла нефть, всех вовлекая, затянув — хозяев и рабов — в кипящий столб разбуженного золота плясать и плакать, умываясь жирным током, как черной кровью покоренного врага… с таким остервенением вырывался косматый пар из пасти жалкого оратора и закипали пеной «долой!», «да здравствует!» у рта, что жалость и отчаяние сжимали Эдисону горло, чтоб тут же обернуться пустой водою равнодушия: летите, милые, летите, сопротивляйтесь, сильтесь, дергайтесь, не зная, что эта черная вода смывает все, ее не удержать, не удержаться на границе, за которой смерть юного красноармейца не выше, не значительней вседневной поживы муравьев, пытающих сяжками пленную гусеницу.
Рекой лилось в дымящуюся бездну закромов горячее крестьянское зерно, однообразные буханки с глянцевым закалом спинок солдатскими рядами выходили из печей, делились на осьмушки, полупрозрачными ломтями, воздушной святыней ложились в лапищи мастеровых, в корявые и заскорузлые крестьянские ладони; брели с колхозной каторги, шатаясь, изможденные отощалые женщины с беспокойными черными дырами глаз и тонкими губами, такими, будто ели уголь; подростки, дети, страшные, будто наружу вынесенный маленький скелет… исчезающе тонкие, ломкие птичьи кости… давили вшей в рубахах и, равнодушные от голода до «мухи не сморгнуть», светло и тихо гасли в узких клетках проступающих ребер. Младенец не тянулся к материнскому соску, живая ткань, перерождаясь, становилась квелой, полупрозрачной.
В Сибирь вели колонны дремучих низколобых православных, похожих на землю, которую пашут; лопоухие чоновцы с пухлыми лицами и доверчиво-испуганными взглядами детей выстраивали пленных вдоль траншеи и выстрелом в затылок выбивали из твердокаменных голов упрямое, тупое вещество не нужного для новой жизни кулацкого единоличия.
Десятки, сотни, тысячи обритых наголо, босых, худых и жилистых в неиссякающем остервенении долбили ломами и кирками сплошное каменное тело своего великого врага, рос в глубину и ширился уступами великий котлован — лопата за лопатой; сжимали зубы, надрывали жилы солдаты, трудники и каторжане Революции — всадить, вогнать в упрямо-неподатливое, темное, от века безответное, глухое к человеку существо природы свою пролетарскую волю к мировой справедливости; лишь овладение, лишь покорение этой мощи дано им было свыше единственной стоящей задачей.
Как ночь, как негры, черные шахтеры, ощерившись и корчась под складчатым, граненым гнетом недр, крошили каменную толщу, потом сидели под навесами и выскребали ложками пустые исцарапанные миски, творили гимн-проклятие жратве, которая нужна лишь для того, чтобы и завтра вгрызаться в крепкую породу и через световые пятилетки пробиться наконец к всечеловеческому счастью, ясному и прочному.
Орудовали доменщики длинными своими кочергами в огнедышащих жерлах печей, будто бы сами закаляясь, становясь прочней, надежнее, выносливей металла в сизо-багровом адном жаре встающей на ноги имперской индустрии; текли, лились и становились самоварами, лубочными копытами шипящих топоров, штыками бессчетных лопат и винтовок железные малиновые реки; плескался, хлопал на ветру багряный шелк знамен и величаво, мерно плыли в незыблемой безоблачной лазури самолеты со СТАЛИНым и ГОРЬКИм на размахе исполинских крыльев. Под транспарантами, под клятвами исполнить планы пятилеток за четыре года маршировали безымянные, отлитые по новой мерке повиновения и жертвенности люди — безукоризненно однообразные и строгие ряды великой пролетарской силы.
Но если б только это. Тогда бы Падошьян был только сильным мастером с отменной хищной пристальностью взгляда, тогда Камлаеву тут было б нечего ловить, помимо конвульсивных содроганий жертв и лязга железных мандибул империи. Но — будто вдруг в ночной воде лучом — вставали, всплывали немые рабоче-крестьянские лица… на пару лишь мгновений, но в упор, глаза в глаза… лучащийся морщинистый прищур, так, будто смотрят против солнца, будто счастливы, мечтают и любуются, так, будто смотрят на детей своих, пока что не родившихся, и узнают себя… чем больше этих радостных лучей, тем меньше жизни впереди… одно лицо, другое, еще, еще, несметь, худые, впалощекие, какие-то японские, китайские, с косыми трещинами глаз, какие-то мосластые, кремнистые, пещерные… таких уже и нет сейчас, исчезли, так не похожи на теперешние, наши — совсем другая лепка черт, другие лбы и скулы… мы как-то похоленее, поизящнее. Полвека не прошло — ив них уже не веришь… что они были, тоже были. Вот что такое умереть. Вот это-то и было в глазах исчезнувших людей, глядевших на Камлаева с экрана. С какой-то пытливой обреченностью они смотрели на него, с каким-то затаенным, темным и самому вот человеку непонятным мучительным усилием зацепиться, удержаться, с железным знанием, что не уцелеть. Испуганно и напряженно цепенели перед стеклянным черным глазом допотопной кинокамеры, иные лезли поглазеть на невидаль — дрожащим светом суеверного восторга озарены и молодые были, пухлые от жизненного сока лица, и уже высохшие, жесткие; другие, большинство, были естественны, свободны, не замечали камеры, не выделяли черной линзы из прорвы остальных, обыденных вещей, но как-то получалось так, что вот и эти — знали; все до единого, кто очутился в кадре, смотрели не куда-нибудь, а прямиком вот в эту глотку, скважину, в которой исчезает все… на дление кратчайшее, но каждый почуял всем составом, что вот оно, что облик твой берут, фиксируют для будущих столетий, для жизни без тебя. Не оставляйте нас, возьмите нас с собой, мы тоже можем пригодиться — кричали их глаза.
Что «никто не забыт и ничто не забыто», Камлаев не верил: как можно обещать то, что не можешь выполнить? Нет, все, что может человек, — формально постоять перед Вечным огнем, помолчать над убитыми… там подвиг народа в великой войне… а кто запомнит всех, кто помолчит над остальными, которых вспоминать не принято? Как насчет по минуте на каждого?..
Камлаева ожгло, великий неподъемный шум — спрессованный из лязга кирок, заступов по неподатливой земле, из паровозных хрипов, рокота сошедших с конвейера тракторных ратей, из трудного дыхания и скрежета зубовного, биения общим пульсом живущих на разрыв сердец, из костяного стука мертвых бошек о мерзлую глину могилы, из криков ликования, мычания благодарности за выпавшее счастье послужить удобрением для светлого будущего — пришел в движение, опустился, надавил, ломая позвоночник и разламывая череп… кто их во всем объеме, во всей разноголосице тонов, во всем несовпадении тембров отпоет, кто даст растраченным, сожженным жизням оправдание, кто им оплатит все, что в этой жизни они оплакали, отплакали? Кто скажет им, прошепчет дуновением над каждой мелкой непрочной каменистой головой: ты нужен мне, ты будешь возвращен?
Что-то еще тут было, в этом мире, который Эдисон разглядывал сквозь падошьяновскую скважину, — пока что неопределимое: как будто кто-то медленно, неуследимо, прозрачный слой за слоем снимал вот с этих лиц гримасы гнева, ожесточения, напряжения, злобы, радости, отчаяния, мольбы… рябь сильных чувств разглаживал, и проступало жертвенное русское беспрекословно-полное согласие с судьбой. Будто задумался надолго человек и с каждом часом, днем все явственнее слышал нутро земли, просившей человека передаться без остатка, собой напитать ее, согреть: вливался холод, сковывал, притягивал, и надо было оттолкнуться, воспротивясь, и духа сладить с медленным соблазном уже не оставалось, и только тихая, последняя, уже почти не греющая радость повиновения природе была в бледнеющих остановившихся глазах, опустошавших Эдисона тайной этого смирения.
Что им пообещали? Кто? Бессмертную душу? Дебелый поп с лоснящейся мордой чревоугодника и лживой благостью в елейных плутоватых глазках?.. Вот это-то и было верой. Свободно, без роптания жить внутри пейзажа, сперва расти, как буйная трава, потом сходить, будто весенний рыхлый снег. Будто все время слышал человек, с начала до конца, то глуше, то острее протяжный звон невидимой натянутой от неба до земли струны — сродни платоновскому монохорду, в колебаниях которого — уже вся музыка, уже все строи, данные природой, — и каждый день невольным, неосознанным прикосновением к ней удерживалось небо, и перепаханная, крепким крестьянским потом сдобренная тучная земля дарила обратную сытную ласку.
Это был рабочий материал, минут двадцать пять полоснувшей Камлаева по брюху киноленты, и все исчезло, стрекот, целлулоид, ошеломляющая виртуозность режиссерского расчета, филигранность нарезки черно-белой киноправды — Артур убрал себя из собственного фильма, как вынимают фильтр из сигареты, чтоб вся отрава без остатка всосалась в клетки, чтобы продрало.
— Чего ты хочешь от меня? — спросил Камлаев. — Зачем тебе звук вообще? Они уже все слышат, они уже поют, вот эти лица. А как-то еще чувственно все это оформлять… ну это будет, что ли, уже совсем для дураков. Ты же не хочешь, чтоб я сделал реквием по жертвам.
— Послушай, Эдисон, меня лечить не надо: вся музыка, она про время и про то, что время делает с вещами и людьми. Но только знаешь, в химии, по-моему, такое есть понятие, как связующее вещество. Универсальная передающая среда, дыхание, эфир… как хочешь это назови. А это может только звук. Я занимаюсь чем… я занимаюсь производством правды в чистом виде, я просто предлагаю людям пристально вглядеться, как говорится, протерев глаза, а что там дальше… чем защититься, если стало страшно… я тут уже бессилен, это не мое. Ты знаешь, мне сначала казалось, что он только любуется смертью, что он хочет с ней близости, как с самой последней, самой сладкой женщиной… окунуться в ее ложесна, погрузиться в ее земляные потемки.
— Кто он?
Артур достал откуда-то из-под полы и бросил Эдисону на колени маленькую книжку в засаленном, наверное, самопальном переплете, с обтерханными рваными углами и пожелтевшими страницами. «В стране электричества». Дерущий ноздри запах тлена.
— Ты знаешь, я как-то… по отношению к художественной прозе. Это ведь проза, да? Трудна для понимания. Читаю — слова вроде русские, а смысл как-то ускользает.
— Тут ты не ускользнешь — придавит, — даже как-то страдальчески улыбнулся Артур. — Там у него такая фраза, знаешь… попробую дословно… «и в темном существе природы не возникнет родственного отзыва на волнение человеческого сердца». И если кто-то что-то там и в состоянии расслышать…
— Я понял, спасибо, — лишних слов им не требовалось. — Ну ты и впряг меня, Артур…
Он был теперь по отношению к звуку как импотент, всю жизнь писавший трактаты об искусстве любви, такая немощь подступила, проникла в Эдисона звенящим слабоумием.
В башке с усилием, скрипуче ворочалось и застревало рассуждение: перерожденный, переплавленный и заложившийся на будущее счастье человек, который умирает моментально вне общего строительства СССР, как рыба вне естественный стихии… короче, пролетарий, а против него — скальной породой — непобедимость, неизменность, неизбывность самой земли, которая жила без человека гораздо дольше, чем при нем.
Пролетарского человека, владыку электричества и покорителя песчаных бурь, обессмертил исчезнувший в неясном направлении Урусов: урусовская «Сталь» стояла Эдисону поперек дороги, как полноводная река, тянулась прорвой воды вдоль горизонта — не обогнуть, не переплыть, и это сразу превратилось в манию — во что бы то ни стало не свернуть к Урусову, не уподобиться, не повторить его ни в чем, изгнать любое сходство, избавиться от зачарованности «музыкой машин», ни в коем случае не склониться к вот этой изощренной имитации, что стала маркером урусовского стиля, того, «до посадки» и окрещенного «конструктивистским»: сейчас спустя чуть не полвека лотошники сбывают на базаре за гроши хрящи и костную муку Урусовым добытого и освежеванного зверя — индустриальные шумы, воспроизводство технородных ритмов струнными и духовыми, — и сотни олухов как небывалое, как свежее жрут эти из урусовских объедков приготовленные ненатуральные котлеты. (Не мог Камлаев одолеть так просто в себе самолюбивой потребности в первенстве: «чем из помойки жрать, лучше голодным оставаться» — другим, а не тобой открытый материк автоматически для Эдисона становился областью запретной.)
Он должен был перемахнуть, оставить позади «коммунарскую мессу» Урусова — вот это как минимум, не говоря уже о дальней, подлинной задаче — дать вольную, холодную пульсацию глубинных недр, немое пение вещества первоистока, которое не знало никогда ни человека, ни связанного с человеком представления о времени.
2
Он заперся читать подаренную Падошьяном засаленную книжку — «Река Потудань», «В прекрасном и яростном мире», «Железная старуха», «Сокровенный человек»… — голодные крестьяне, бедные рассудком, как хлебный ларь в неурожайный год, и алчущие совершенного познания невыразимой главной тайны мира инженеры, эротоманы-машинисты, вожделеющие к умным механизмам как к более разумным, чувственным, одушевленным существам, чем пребывающий в каком-то зрячем полусне, умерший впрок как будто человек.
Родную русскую певучую спасительную речь затянули в вагон, продержали двое суток без корма и, проткнув свинорезкой, ободрав, разрубив, распихали по торжищам митингов, по мясницким рядам типографий — обобществить, раздать пайковой колбасой всем поровну, навечно выдавить из памяти порабощающие, лживые слова, как то: «страх Божий», «лето плодоносное», «дом отчий», слова-колодки, скрепы, клещи, батоги — и разродиться, прогреметь освобождающими, истинными, новыми. Но не умели, безъязыкие, работать с этой глиной — животворить — и неуклюже прикрепляли, присобачивали только к обрубкам изуродованной плоти обрезки других, несовместных, существ, как в свое время — обезьяна-дьявол, убого силясь воспроизвести и пародируя создания Творца.
И будто перепутались все стержни, и будто наизнанку вывернулась шкура типографского ежа, свинцовыми иголками вовнутрь: слепые, ощупью бредущие, в буран петляющие по заснеженному полю хромые, изможденные слова страдальчески-загубленно друг дружку окликали, невидяще друг в дружку тыкались, соединялись, сопрягались, позорно и нелепо составлялись в нагромождения канцеляризмов и испугавшихся самих себя как будто просторечий, так жалко, ненадежно, кособоко, до заворота стыдно… как вавилонская громада из обломков раскатанных избенок, как деревянные аэропланы обезумевших дьячков в воздушном колодце свободного падения. Но в то же время жалкая, увечная, слепая эта речь дышала, истекала такой могучей, первородной, нерассуждающей волей к жизни, к самостоянию, самоутверждению, что будто это и не люди воспевали рожденный в муках революции, растущий, расцветающий прекрасный новый мир, грядущий райский сад, а будто сама жизнь, реальность неизменная и неизбывная темно и глухо пела людям о лучшей участи, о светлом бытии, возвышенном над нуждами пустого выживания и сытости.
Деревья, семафоры, паровозы, чернозем… все твари, все стихии, все вещи бессловесно, немо, мычанием, вздохом звали родственную душу — не то по прежнему, уже не существующему имени, не то по новому, еще не заступившему на смену; вздыхало, взбрыкивало, билось пребывавшее в безостановочном и вечном изменении первовещество, сгущалось в пробные уродливые формы и разрежалось, расходилось газовыми взвесями; безвидный атомарный мир алкал осуществления и опрокидывался тотчас в исходное молчание, в окончательную тьму — утраты всякой воли к становлению и росту.
Все человеческие отложения, цацки науки и искусства, спасительная вера царей природы в то, что сможем мы вобрать в свое развитие всю мощь природы, Прогресс, История, «мы разобьем цветущий сад и еще сами погуляем в том саду» — все стаивало вмиг, сходило с неизменного ландшафта, все было слизано платоновским тяжелым косным языком… истинный ритм дыхания земли, естественный порядок рождения и умирания проступил, две идеально ровные вечности, предродовая и загробная, сошлись в одну, вздохнули общей могилой-утробой, вдувая в революционного, бунтующего против вышних законов человека свой собственный смысл, себе уподобляя и в себя с неодолимой силой затягивая.
«Червяк был небольшой, чистый и кроткий, наверное, детеныш еще, а может быть, уже худой старик» — он больше не мог, от прозы заболел живот; так стало ему больно, душно, тесно, что будто он, Камлаев, снова сейчас сопротивлялся всею своей ничтожной изначальной силой попыткам мира задушить его в первооснове.
Как было встать ему вот с этим пением вровень, подняться на тот уровень воображения, на котором возможно совершенное соинтонирование этому усильно-напряженному, мучительно-глухому говорению — замедленному росту уродливо-корявой и несгибаемо-живучей платоновской древесной этой речи?
Часами Камлаев просиживал в зрительном зальчике под треск проектора перед залатанным экраном — опять и опять пропуская перед застывшим взглядом взбунтовавшиеся лавы, железный скок краснознаменных эскадронов, простоволосые, босые колонны раскулаченных… набравшись впечатлений, вмазавшись двухсотпроцентным концентратом правды, вставал, выходил и носился по городу, как по сплошному кладбищу, будто по полю, сплошь заваленному трупами окостеневших, пухнущих, гниющих техник композиции, как по открытому пространству лагерной неволи, которое простреливалось с вышек идеально, и лающий хохот преследовал, цапал за пятки: куда ни ткнись, везде подстерегал запрет — волшебные двери на бойню, в помойку, в бардак; вот всякая мелькнувшая возможность дразнила, будто та красавица на гоголевском Невском, которая сперва поманит за собой снежным лучом цветущей юной плоти, а заманив, в упор покажет сифилитическую язву музыкального базара, разъятый оскал чернодырого остова. Запрет на консонанс, запрет на узнаваемый повтор, запрет на запрет на узнаваемый повтор, мелодию и консонанс, гробовая плита на диссонансном скрежетании и царапании, на том, что отец называл «удалением гланд через жопу».
Аэродромы авангарда тихо дотлевали, раскуроченные могучими ударами своих же бомбовозов; пространство было вдоль и поперек исхожено, Камлаев попадал в чужие гусеничные вмятины, каблучные отметины, наезженные колеи, над головой фосфоресцирующими искрами проскакивали трассеры; в аморфном теле музыки — того существа, что сидит в ракушке негласных конвенций о том, что считать правомочным, что мертвым, — был поражен важнейший орган, ответственный за очищение крови; ирония, которой он спасался, была направлена уже на самое себя — так страсбургских гусей закармливают до смерти — пока не лопнет брюхо, пока не вырастет, переполняя, разрывая, любимая шеф-поварами и гурманами печенка.
Бродя по эстакадам и проспектам, пугаясь шепчущих, лепечущих колесами машин, он всюду видел только пустоту, она была его врагом, на сшибку со своим же железным знанием о том, что всё уже использовано, трачено, он должен был вывести чистую, ясную пролетарскую силу… Ему, Камлаеву, в невинность не вернуться, но он осознанно возьмет чужой язык — краснознаменный истовый распев, молитвы умерших первопроходцев социалистического будущего, коллективистскую литанию в чистом виде, с ее сосредоточенным, всей шкурой, всем нутром, переживанием словесно-мелодического тока — «товарищи в тюрьмах, в застенках холодных»…
Необходимо было вожжи отпустить вот с этого материала — убрать себя, Камлаева, из шкуры пролетария, — чтобы он сам, материал, куда-то развивался, отпочковывался, рос, неудержимо расползался, будто никем уже не управляемая, своей органикой, волей прорастающая магма. Добела раскалить — предоставить самим раскалиться и прожить свой естественный срок — изначальный восторг и священную оторопь перед великой силой социалистического человека, насильника сибирских рек и среднеазиатских пустошей, во весь опор, в карьер пустить то упоение всемогуществом, тот трепет перед собственным безбожным дерзновением, который органично-неизбежно перейдет в пустую экзальтацию и радость возвращения во прах.
Платонов-идиот, Платонов-инопланетянин, Платонов-созерцатель, нежно влюбленный в вещи мира и тем нежнее, чем труднее они давались объяснению, называнию по имени, стал приходить Камлаеву на выручку: там у него ведь как — гипертрофия, перенапряжение причинно-следственных всех связей, тупое, из старания поделиться и неспособности понятно передать, чрезмерное пустое педалирование, да, которое причинность целиком почти и разрушает, все время обращает, гонит вспять, так что и ветер-то в природе возникает от того, что у деревьев появляется нужда качаться и поскрипывать для своего же удовольствия и роста.
Взяв тот же способ думания — тщету старания выдохнуть заветное и несказанное, как это происходит у немого, безъязыкого, мучительную неспособность разродиться первым словом, дебильную вот эту рассудительность, необходимую для производства смысла, — и сплавив с интонацией безудержно-восторженной, с неимоверным экстатическим напором первокоммунаров, Камлаев взялся сочинять на пробу голоса, наивные, ликующие, чистые, величественно-кроткие и в то же время восходящие к пустому, теперь уже необитаемому небу струящимся биением ясной ненависти — «или мы, или нас».
Постановив отдать вот эти голоса двум девушкам-солисткам, роялю и двум скрипкам, задумав их пустить в различных кратных темпах на одних, почти не различаемых высотах, он взялся тотчас же раскладывать по нотам для духовых и струнных партии, которые воспроизводят дыхание растущей индустрии — шумы гидравлических прессов и ритмы коммунарских поездов. (Урусов Урусовым, но от «разумного железа» никуда не деться, да и к тому же точность производства музыкальной правды, которую ему поручено произвести, едва ли не впервые сделалась всерьез важнее для Эдисона, чем формотворческое первенство, чем радость обладания патентом на техническое новшество… что-то действительно сломалось в нем, какая-то перегородка себялюбия, потребности делить все сущее на собственность и не-свое… и ничего — не сократился, не издох, наоборот, почуял новую необычайную свободу. И новый смысл возник, родившийся от столкновения наивных пролетарских голосов и циклопической машины «умного» оркестра — как хлеб против закормленности избалованного слуха, невинность против интеллекта, хрустящего костями жертв на жвалах.
Раскочегарившись, разбегавшись, словив искру мыслительного приступа, корявый ствол небесного огня («я весь как гребаный громоотвод»… то, что зализанно и мертво называют «вдохновением» и понимающе кивают головами, не стыдясь), Камлаев, крадучись, вползал домой и, не включая света в комнатах, на унитазе в ванной заполнял пустую разлинованную белизну звенящими в крови цикадами дарованного текста.
Вздыхая тяжко, паровые молоты вгоняют сваи в мерзлоту — зарегулированный, мерный, неумолимый ритм, тягучая пульсация единственной порабощающей идеи; усильно, напряженно вибрирующие струнные распиливают воздух в ритме поездов; дрожащие беспримесной непримиримостью, каленой ненавистью к темным божествам природы, не горлом — всем составом рвутся, взмывают в высоту солирующие голоса и моментально ниспадают обессиленно, сорвавшись, надорвавшись, вновь набирают бешенство напора — все выше и выше, предел одолевается отлично прокаленным, неимоверно прочным человечьим веществом… вперед, вперед, мычанием разжать, раздвинуть прутья вековечных правил голода и смерти, переродиться в этой гонке самому, стать новым существом, прекрасной, яростной, выносливой, неистребимой машиной. Вперед, вперед, остервенелыми швырками, такими частыми, что пауз не хватает для набора духа, швыряют уголь в жирно плачущую топку, себя — в решимости стать топливом, горючим вкладом в воздух радостного будущего.
Тяжело-звонкие акценты и протяженности у разных голосов смещаются по отношению друг к другу — неудержимо нарастает пыточная, гвоздяще-неотступная иррегулярность; высоты, скорости срываются с ума и выдыхаются, исчерпывают силы и тотчас оставляют отметку исчерпания позади; черт различения больше не осталось, граница различных шкал времени стерта, идет невероятный, недозволенный природой обогащающий обмен между живой душой и мертвой материей, между телесной органикой и обжигающим железом: железо уже мыслит, постигает и ведает свое предназначение лучше человека, и человек приобретает бесконечную выносливость металла… и вот уже все голоса сливаются в пульсирующую лаву, прессуются в сонорный тучный шум, составленный из множества конвульсий и подыхающих сипений, в упорную маниакально тембровую массу, что и дает пределом своего развития глухой, налегший каменной породой на череп, давяще-неподъемный тон.
Кипящий гимн великому жизнестроительству исходит, выдыхается в пустой глас неживого, в гудение глухой и равнодушной земляной утробы. Полет подвижнической радости труда, движения прорвы голосов передового отряда человечества катастрофически мгновенно и вместе с тем неуследимо-плавно выстывают; грозная мощь накатывающей лавы, все уплотняясь, все твердея, становится немым безличным пением недр, сплошным молчанием глубинного гранита.
Фортепиано, будто метроном, работающий в ритме световых десятилетий, негаданными тембровыми вспышками давало эту остановку, замирание будто в последний раз, и в звуковом пространстве магматически-неукротимого «Платонова», не наступая, наступало время глухоты — когда никто не мог почуять землю и услышать небо, свободной твари человека еще не было, и некому на свете было мыслить, постигать.
«Моменты» бешенства, движения на пределе сил и вспышки замирания чередовались непрестанно; повелители бурь, покорители жизни становились песком, то опять упивались своим всемогуществом; «моменты» неподвижности пропорционально увеличивались, уже огромные и тяжкие, как тектонические плиты, как ледник, — давя неверием в возможность возобновления движения.
3
Все выходило, кроме главного — отпеть, оплакать, не то чтобы вернуть, не то чтоб воскресить, но все же вызвать к жизни убедительное знание, освободительное чувство ненапрасности существования миллионов пролетарских душ; ему, Камлаеву, вот совершенно нечем было просветить вот эту хаотическую тембровую массу, вот этот пласт сырой земли и окончательного мрака; из фортепианного нутра, которое он препарировал, пока что получалось извлекать одну лишь беспристрастную, холодно отчуждающую человека звонкость. А вот добыть из инструмента в чистом виде платоновскую нежность к зряшной жизни, какой-то еле-еле брезжащий, но все-таки негасимый свет, какую-то рассеянную ласку, вот эту «молчаливую пульсацию» природы, в которой просыпается вдруг что-то по отношению к человеку материнское, — не получалось, нет; он еще только должен был вот к этой нежности пробиться, упрямо, терпеливо нащупывая верный отголосок медлительно перебирающими ноты пальцами.
А этот — будто издевался, специально для Камлаева расставив капканы в рядах типографского шрифта: «Иди, друг, иди — опять тайно-образующая сила музыки пропала», «Люди — живые и сами за себя постоят, а машина — нежное, беззащитное и ломкое существо; чтоб на ней ездить исправно, нужно сначала жену бросить, все заботы из головы выкинуть, свой хлеб в олеонафт макать — вот тогда человека можно подпустить к машине, и то через десять лет терпения».
Тут только он и вспоминал, что женат… Его увидела и, просияв, будто самой себе кивнула: беру, а ну-ка подайте мне этого. Ей это было свойственно — хотеть то, что нельзя или почти нельзя купить за деньги, то, что обыкновенный смертный не достанет и что должно достаться только ей; привыкнув к обожанию, к рабской угодливости мира, населенного одной исполнительной дворней, она распространила то же ожидание (хотеть и получать по первому щелчку) на всякую живую тварь: Камлаев был голубоглазый славный песик, которого хотели все и не было ни у кого, и сразу стало нужно по-хозяйски запустить отточенные ногти в Эдисоновы волосья.
Родись Камлаев бабой, в женском теле — он был бы Адой и никем другим. Вот это ощущение двойничества, того, что постоянно имеешь дело будто с собственной женской ипостасью, порой приводило Эдисона в изумление и страх: будто ты спишь с самим собой, скандалишь, злишься, попрекаешь сам себя, о собственную бабью горошину стираешь занемевшие губы.
Когда они наутро как-то, опустошенные друг другом, вливали в опаленное нутро «Столичную», боржом, он вдруг сказал: «А все-таки ты сука, Адка. Ты так нашего брата потребляешь, как мы — вашу сестру. Плейгерл ты, ловеласка, ты вообще как…» — «Я как ты».
Едва все началось (вот это ощущение крыла на взлете, потребность вырваться из тесного вместилища, на волю душу отпустить, которой стало тесно и нужно еще одно тело, чтоб чуять простор), как тут же начало кончаться (становиться трясиной, глиной в ушах).
Брак — это что? Соединение двух людей? Приходят твои родичи, приходят ее предки, встают, таращат друг на дружку безумные голодные глаза — и начинается война. И ты не тот, который нужен дочери, и та — не та, которая нужна тебе.
Мать с самого начала жутко невзлюбила Аду («себялюбивую», «живущую по щучьему велению», «необозримо, с позволения сказать, свободных взглядов»), ей улыбалась, стиснув зубы, вымучивая ровную приветливость и уважение к Эдисонову выбору, и так это натужно выходило у нее, так матери не шло к лицу вот это выражение учтивой неприязни, что Эдисона просто корчило от этого притворства: не принимаешь — так скажи об этом прямо, это гораздо лучше лицемерной благорасположенности.
А что до Адиной родни, то к ним в постель будто залезло целое Политбюро, сброд старых маразматиков с иссохшими, но еще цепкими клешнями. Отец ее — тот самый Кожемякин, железнозадый царедворец, отдавший душу делу партии, за что его впустили в коммунизм правительственной дачи, высококлассной санаторной медицины и серебристого «Мустанга» для единственной дочурки… отец ее едва не слег в барвихинскую койку, когда узнал, что дочь связалась с отщепенцем, выродком, врагом; у Адиной матушки, Софьи Кирилловны, также включилась аварийная сигнализация: как так? это ее непререкаемое материнское «вот этот» должно было вытолкнуть дочь за соседа по даче — ближайшего перспективного боярского сынка с безукоризненной партийной родословной.
Смесь тунеядческой свободы с моральной растленностью и политической безнадежностью, Камлаев был голью для них перекатной, приблудным нищебродом, промотавшим довольно скромное наследство знаменитого профессора-отца.
Возможно, все и обошлось бы без последствий для камлаевского паспорта, но был уже двухклеточный малек, грядущий человек, который скоро заорет, начнет водить смычком по нервам, страдать от газов и обгаживать пеленки. И как бы ни было сильно предубеждение против Эдисона, крестьянски-домостро-евское представление о чести, что исповедовал большой партийный человек, было еще сильнее (не то чтобы добродетель — скорее, ханжество и страх, что дочери собьют в самом начале жизнь: ну, не могла, в конце концов, быть у «такого человека» дочь — мать-одиночка).
Ворвавшись к Эдисону в дом с хозяйским нарочитым грохотом, непринимающе сверля Камлаева глазами — короче, сымитировав наитие оскорбленного отеческого чувства, — державный человек с порога пригвоздил: «раз обрюхатил девушку, женись, дашь деру — раздавлю».
Внутриутробное убийство не рассматривалось — тут Ада сама захотела носить и рожать, должно быть, представляя себе доставку на дом розовощекого, с живой водой в голубых глазищах, карапуза, и было что-то в этой ее непоказной решимости — немедля ринуться в универмаг за шерстяной, пуховой, фланелевой шкуркой для малька — от совершеннейшей серьезности ребенка, играющего в дочки-матери: серьезно-то серьезно, но может надоесть.
Теперь, когда Камлаеву напоминали — друзья, родные, все, о том прослышавшие, — что скоро он станет отцом, Камлаев слышал их будто из-под воды. Ум у него немел, он чувствовал его отдельность, так, будто это знание о положении Ады вообще не имеет к нему отношения. И только слабо поражали иногда проникновенные или лукаво-оживленные, с каким-то понимающим подмигиванием, выражения лиц: как будто все они, друзья и женщины, участливыми минами все время намекали ему, Камлаеву, на посвящение в таинство великое — дескать, они-то знают, гораздо лучше самого Камлаева, что с ним происходит теперь и что еще произойдет, и как он переменится, когда то самое случится… какая оторопь его еще возьмет, какое торжество его еще охватит.
То есть получалось, что все эти люди, ну, в общем-то чужие (само собой, гораздо дальше Эдисона отстоящие от Ады и малька), куда сильнее переживают близость предстоящего события, чем сам Камлаев, поучаствовавший в деле частицей своей плоти.
Нормально это было, естественно, по-человечески? Камлаев не знал, поскольку не с чем было сравнивать. Поговорил с Раевским, у которого уже росла трехлетняя дочурка, и тот сказал, что это просто не умещается в башке, вот ты и ходишь оглушенный и придавленный, и эти отупение, оцепенение внутреннее, да, они пройдут еще не скоро, не раньше кончатся, чем трехкилограммовый новорожденный, уже орущий, ползающий, плачущий малек «не станет более или менее похож на человека».
Камлаеву такого объяснения одновременно успокоительно хватило и совершенно недостало. С самим собой он объяснялся так: что он теперь уже не нужен совершенно, вот отсечен, отброшен, поскольку изначально был необходим лишь на одну секунду. Недаром в древних царствах вроде Элевсина, с их культом плодородия и чадородия, с обожествлением матери — сырой земли, цари были нужны не для правления — для спальни, и им, мужчинам, сразу отрывали голову, как только семя брошено, все остальное было делом лишь одной царицы, она творила жизнь, от века оставаясь тут одна, наедине с растущим плодом.
Но все-таки он должен был перед собой сознаться, что Адин ропот, обвинение «тебе совсем не интересно» отчасти справедливо: как ни верти, беременная Ада, будущий ребенок и в самом деле были как еле-еле различимое, отчасти досаждающее пятнышко на самом горизонте камлаевского слуха: так, возникало вдруг какое-то пощипывание, жжение, слегка язвящая тревога.
Во всей громадной, наэлектризованной, заполненной обязанностью сделать «Платонова» «как надо», его жизни для Ады места будто и не находилось; в ней, жизни, как бы и для самого Камлаева теперь не находилось места, настолько наловчился, обучился он теперь удалять из себя человека.
Копался в брюхе своего фортепиано, крепил на молоточки гвозди, кнопки канцелярские, подкладывал под струны альбомную бумагу, фольгу из сигаретных пачек, никелированные шарики со спинки железной кровати, резные шахматные пешки… все больше становясь похожим на того платоновского идиота, который мастерил из чурок, проволоки и лоскутов железа совершенно бесполезные в хозяйстве вещи, — деревянную сковороду, на которой ничего не изжарить, и жестяной аэроплан, который никогда не взлетит. Приладить «свой секрет» к роялю, «способный вмешиваться в благозвучность и покрывать ее завыванием» — вот что для идиота было главным. Все то, что оставалось у него от суток (не оставалось ничего и он «влезал в долги», заимствуя у Ады), он тратил на дознание по делу «несправедливо осужденного» Урусова, и Ада начинала думать, убеждалась, что он, Камлаев, хочет туда, где ее нет… короче, все у них пошло не слава Богу.
4
Друг друга они стоили (хотя Камлаев и считал, что никакого дела у Ады настоящего, кроме ношения ребенка, нет). Растущий не по дням, а по часам малек и для нее, и для него, Камлаева, стал будто посторонним, чуждым телом, которое зачем-то угодило в их общую раковину, и, сохраняя инородность, мешало им теперь соприкоснуться, склеиться друг с дружкой как раньше, сойдясь и корчась в новой, не приедающейся никогда любовной схватке, обволокнуться беззаботностью, как некоей защитной секрецией. Как просто было раньше: мгновенный темный затуманившийся взгляд и против воли проступившая в ее лице бесстыже-жадно-плотоядная улыбка, которая переполняла Камлаева тотчас же звонкой кровью — на эскалаторе в метро, в машине, в неспешно-рассудительно ползущем лифте, — толкала притянуть ее к себе, вклещиться в круглую смеющуюся задницу, не соразмерив силы натиска с неважной прочностью упора, качнуться, повалиться на что ни попадя в штормящей комнате, в качающемся мире…
Нутро ее, конечно, было изнеженным и жадным бурдючком, открытым удовольствию, работавшим только «на вход»; кормить себя чужим, а не кормить кого-то своим телом — вот была ее суть. Переменять ей образ жизни не хотелось — наоборот, жить так, как прежде, так, будто ее впалый, пока ничуть не изменившийся живот по-прежнему порожний: гонять на «Мустанге», бесчинствовать в Гаграх, сжигать гортань, желудок, мозг «Столичной» водкой и ядреной анашой, лежать с предельно разведенными ногами, вцепляясь Эдисону волосы, в себя его вжимая… а беременность — пусть там все как-нибудь устроится само собой, по первому щелчку, по щучьему велению.
Вот тут-то все и начиналось: едва ли не впервые за свои двадцать четыре наткнувшись на железное «нельзя», девчонка сделалась по-настоящему несносной — рвалась на волю развернуться, разгуляться, злилась на собственное тело, которое ее больше не принадлежало и стало только скорлупой, защитной оболочкой, болезненным вместилищем для жадного, бесцеремонно эгоистичного малька… на тошноту, на головную боль, «испорченную» кожу, на то, что Эдисон от этого всего избавлен и может жить как прежде, вольно, как ни в чем не бывало.
Боялась подурнеть — какая-то тварь рассказала ей, что он, Камлаев, все они — «брезгливые»: увидит ее располневшей, отечной — и не захочет подойти, вот будет обнимать и прятать безразличные глаза, скрывать лицо, чтобы не выдать себя гримасой отчуждения и блуждающим взглядом.
Ей были нужны доказательства, что все не так, что он, Камлаев, с ней по-прежнему, и начиналось постоянное «ты где? ты не брал телефон, с кем ты был, а какая она? Тебе и вправду наплевать на нас? Нас для тебя вообще не существует?» Ну, ладно, раздражительность, капризы, абсурд невыполнимых требований — простительное дело, законная несносность, в то время когда тело бунтует против собственной хозяйки каждой клеткой. Но только чем дальше, тем все нелепее становился этот цирк: он, Эдисон, кругом оказывался перед ней виноват, она ему в воображении навешивала баб, которых и в помине не было (они бы, может быть, и были, но только не сейчас, когда он свел с охотой все бытие телесное свое к двум-трем простым движениям — за сигаретой, чашкой чая), а то, что он «грешил» на деле с одним Урусовым, с Платоновым и Падошьяном, с неумолимым чудищем divina и mundana, ей виделось не менее страшной изменой… куда-то делась, испарилась вся ее ирония, зато взамен явилась тошнотворная, вот до предела взвинченная театральность, с закусыванием губ, с заламыванием рук — любила, ревновала, умирала от никому-ненужности, с вытьем в подушку и кулачным боем, со всепрощением и неспособностью простить, с «мы тебя душим» и кровавыми слезами из ладони, сжимающей осколок разлетевшегося вдребезги стакана.
Он злился на нее, так это все у Ады беззастенчиво-надрывно выходило, всегда не вовремя… вот это ее чертово умение одним усилием воли повышать температуру тела до критической… «мне плохо», «нужен врач»… тот приезжал средь ночи и разводил руками, осмотрев, — Камлаев не выдерживал, советовал засунуть градусник туда, где еще горячее, — она заливалась слезами, по-детски безутешно, с дурной интонацией ребенка-шантажиста, который знает, что сейчас ты прибежишь и бросишься жалеть, — и приходилось к ней присаживаться с ковровой бомбежкой поцелуями в затылок и хребет, с пустой воркотней, с гугнивым обещанием исправиться, с противным знанием, что завтра будет следующая серия. Опять: подушка, отсыревшая от слез, предупреждения, «что если ты сейчас уйдешь, то все», «ненавижу тебя, бабник, сволочь, блядун», швыряться тяжелыми тупыми предметами… и ладно б только это, но Ада и свое беременное чрево, «пока еще не поздно было», превратила в средство шантажа — пошли уже угрозы: «Раз он тебе не нужен, то его не будет, хочешь?»
Черт знает что могла с собой сделать… ей изначально нравились вот эти игры — испытывать судьбу, играть с отравой, скоростью, оружием, как будто проверять, и вправду ли она любимица и баловница, и вправду ли жизнь готова каждое мгновение пойти ее желаниям навстречу, следит за ней, хранит, готовая взять под крыло… эгоистичный маленький зверек, но это было раньше, а теперь?.. это каким же мозгом надо обладать?