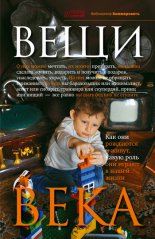Проводник электричества Самсонов Сергей

— Да, Толь, чуть не забыл, считай, о главном, — спохватился Якут виновато. — Мы тут пошустрили по местным окрестностям. И вот нашли. — Якут полез в карман и вынул, как драгоценность величайшую, разорванный надвое паспорт, в засохших грязевых потеках, с отпечатком рифленой подметки на странице с фотокарточкой и Ф.И.О.
— Вот это, парень, правосудие, которому ты показания дать собрался. — Нагульнов Машкин паспорт показал Ивану. — Якут, где ваша тачка? За нами в Рязанский проезд…
Уже ползли меж гаражами, шурша колесами по гравию; в далеком закутке, в аппендиксе мытарились горбатые фураги и кожаные куртки патруля — «калашниковы» на предохранителях. Лохматый седовласый хмырь сидел спиной к гаражной стенке, из ссадины на темени текла и заливала морду кровь, била в глаза горящим суриком.
Два опера в гражданском согласно-недовольно повернулись на шорох шин и рокот мощного мотора: один — пока или уже никто, второй — Шкуратов, морда с фотографии, прямой огненно-рыжий чубчик, широкий лоб, квадратный подбородок с ямкой, упорные глаза слегка навыкате, умевшие давить на супротивника, — стандартный милицейский человек, блюститель своей шкуры и поживы, спокойно-полновластный держатель привокзальной территории и Красносельского района, привычным махом собирающий положенную дань со всех насельников удела, который получил в кормление.
Нагульнову вдруг на мгновение стало страшно — как будто слабеньким раствором его вот самого, Нагульнова, стоял перед машиной человек, чуть не угробивший нагульновскую дочку, ее склонявший, гнувший и бесчестивший.
— Он! — вскинулся Иван и глянул на Нагульнова волчонком.
— Сейчас ты выходишь, молчишь и не лезешь, — сказал Нагульнов механически, прохваченный, прошитый вот этим откровением, вопросом: они — одно и то же, Нагульнов и вот этот выродок, вот тех же щей пожиже лей; десятки, сотни, тысячи, несметь таких заключены в огромную молекулу системы, предельно примитивную и предельно живучую, чей принцип действия один — насилие и беззаконие, и значит, это скотство, людоедство, которые сотворены над Машкой, есть именно его, нагульновская, практика в предельном, так сказать, развитии, в изводе, в извращении. — Шкуратов! — крикнул, вылезая.
Тот подошел уверенно, невозмутимо и вдруг споткнулся будто; непроницаемое жесткое лицо сломалось напряжением, больным вдруг на мгновение и стало потерянным — как будто зуд и жжение, как будто подцепил у девки нехорошую болезнь и, обнаружив, искривился: теперь лечиться, прятаться, терпеть… так очная ставка подействовала; узнал, конечно, пацана ублюдок, не то чтобы засуетился, задрожал, но взъерепенился: придется — ко врачу, придется больно, со слезой — анализы.
— В чем дело? Кто ты?
— Я? Человек. И гражданин своей страны. Могу я обратиться к моей милиции как гражданин? Вчера ты с дружками девчонку в отдел приволок. Сейчас она в больнице с разбитой головой, могла загнуться, чудом выжила… вот чуть бы посильнее только грохнулась.
— Ты кто? — ублюдок взбычился.
— Отец той самой Нагульновой Марии.
— Ах вот оно что. Да, девушка была без документов, доставлена нарядом в состоянии опьянения — вот это для начала. При ней два грамма вещества — достаточно для задержания?
— Вот, значит, как? И этот с ней был? — Нагульнов повел на Ивана, стоявшего ни жив ни мертв, стеклянного от гнева на неправду.
— Кто там с ней был, не знаю. Меня там не было. По факту говорю.
— А дальше? Травма как? Откуда?
— Да как? Она же невменько под кайфом. Задергалась, метаться начала, ну, вырвалась и оступилась у нас на лестнице в отделе. Никто и пикнуть не успел: раз-раз — и все, она уже лежит.
— Двух пэпсов расшвыряла и с лестницы сама?
— Гражданин, я вам факты.
Нагульнов все решил, сцепилась вся мозаика в башке. Если его, Нагульнова, такого, как он есть, не будет, то эти вечно будут безнаказанны. Порядок, протокол, суд по закону, непротивление насилием насилию, смирение, «щека», «простить врага»… — все это флер, туман, кисель, в котором вязнет твой кулак, еще один защитный слой для них, для этого ублюдка, которые защищены и так, системой, властью и оружием. Нет, только убирать с лица земли под землю.
— Да, брат, не подкопаешься. Со всех сторон ты чистенький.
— Ну а чего копать? Куда? Под факты? Скала там, гранит. Я очень сожалею, что все так вышло, гражданин, но только вы поймите тоже: в пределах закона мы действовали строго, исполняли свой долг, так сказать, извините, — глумливо извивалась ублюдочная морда… в спокойствии, как будто сквозь броню, как будто не пробить, мразота, дурачок.
Мальчишка бросился из-за спины Нагульнова на гада — Нагульнов мог щенка успеть остановить ударом локтя в грудь или схватить за шиворот, но он не стал.
В наплыве ярости, убившем начисто все рабье, все заячье в составе, почуяв сладкую последнюю свободу не простить, не в силах прятаться беспомощным ничтожеством за широченной литой спиной Железяки и будто возвращая себе плоть — во что бы то ни стало хоть кроху страха вбить вот в этот лоб, достать до горла, до податливого, мокрого под толстой шкурой и под прочной костью — Иван был сбит подсечкой, рухнул на колени, зашарил хищно скрюченными пальцами по гравию, нащупал что-то твердое, похожее на штырь и, мертво стиснув это в кулаке, с колен всадил ублюдку по кулак в тугое мясо ляжки.
— Стоять! Стволы на землю! Мордой вниз! Всех завалю! — привычно выплюнул Нагульнов, вскинув ствол.
Как три овцы — сейчас прижмут коленом к праху у костра, и только подрожать, подергаться в конвульсиях осталось — с трясущимися лицами, растроганно-подобострастно глядя в черные дыры вскинутых стволов, патрульные и опер опустились на колени; Якут и Игоряша подскочили, влупили по затылкам, по бокам, пинками раскидали «калаши»… пацан с перекореженным остервенением лицом рванул железку и замахнулся опустить, вгвоздить куда ни попадя… ручищи гада вскинулись, перехватили, парню вывернули руку. Железка выпала.
Еще один, которого забыли все, — светило, композитор — метнулся к парню и сковал; Шкуратов, обвалившийся на задницу от боли в раненой ноге, полез под мышку за стволом — Нагульнов сделал шаг и вырубил скота пинком колена в рыло.
— В машину этого. Подняли морды! — крикнул местным. — Смотреть на меня! Подполковник Нагульнов, — раскрыл свои корочки и бросил оперу в хайло. — Он ушел пообедать, и он не вернулся. Его уже нет. А вы пока есть. Хоть кто-то вякнет слово кому-то у себя в отделе — найду и убью. Хоть кто-то напишет об этом наверх, какому угодно начальству — найду и убью. Давайте свои корки все сюда. Я переписываю ваши имена. Молчите — живете. Откроете рты — спалю ваши хаты вместе с бабьем и пащенками, вникли? Мигните, если поняли.
Ублюдка впихнули в багажник. Нагульнов глянул на «аристократов»: мальчишка сжег все топливо, сидел, привалившись к стене, так, будто в его теле не осталось ни единой косточки; впервые сделав выбор между слабостью и честной жестокостью, он слушал сам себя, не мог себя услышать — нового. Композитор стоймя прислонился к стене и курил — однако, кремешок, без дрожи; они ж обыкновенно квелые, интеллигентская порода, изнеженные, то-о-о-нкие — соплей перешибить — не то что кровью напугать. А этот — нет, не весь он на ладони.
— Что, музыкант, давай расстанемся. И парня забирай, валите. Ну все, ушел, исчез? Вали ваяй симфонии, чудила. Жену свою к койке прижми, пока не ушла от тебя. Давай-давай — трах-Бах.
Вместо ответа взял тот за ворот племяша и потащил к нагульновскому крейсеру.
— Ты дурочку-то не валяй, сюита! — Нагульнов сел за руль. — В пути мы, всё, тебе еще не поздно соскочить. Иначе назад не получится.
— Э, нет, друг, этот спектакль я хочу досмотреть до конца.
2
Уже смеркалось, затопило улицы московским ровным золотистым светом, цветастые иллюминации мигали, неоновые вывески дорогостоящих престижных заведений общепита светились, рекламные плакаты сияли снежными улыбками, жемчужно-матовыми лицами безвозрастных красавиц; призывно и доверчиво разомкнутые губы шептали, источали: жизнь будет вечной, вечно сладкой, все хорошо, никто за вами не придет, есть только радость, нега, только мы… насилуют и убивают не вас — других, окраинных, периферийных, низшей расы.
— Послушай, подполковник, — упрямой, безнадежной синью глянул композитор, — я ведь молчать в отличие от этих вот не буду.
— Не будешь — заткну, — автоматом отозвался Нагульнов.
— Сам знаешь — нет.
— Да ну? Особенный ты, что ли? Кровь, может, не течет?
— Течет, но у меня… эт-самое… гуманистические принципы, — сказал Камлаев со свистящим смехом.
— Он не человек. Ты парня своего спроси: он еще чистый, нежный, он всех любит. Иван, скажи, он человек? Вот что с ним делать?
— Я… я не знаю… я хотел. — Ордынский поднял на Камлаева глаза с какой-то дикой перекосившейся улыбкой, с лицом, дрожащим от усилия будто остаться целым, встать целиком, уже непоправимо на ту или другую сторону.
— Вот то-то и оно — хотел! — возликовал Нагульнов. — Он, мальчик-одуванчик, и хотел. А почему хотел, скажи, за что хотел — вот это, это дядьке растолкуй.
— Он не боится — вот за что, — как будто не своей силой отвечал Иван. — Он не боится и смеется всем в лицо. Он… он не понимает… вот нету в голове, в сознании вообще… вот нету органа такого, чтобы понимать. Он ведь убил, он все решил в ту первую минуту… я видел это у него в глазах… и я не знаю, что с ним, как… раз он такой…
— Вот это ай-да одуванчик! Он понимает, слышишь сам, как он все понимает. Уж если он сказал, то это что-то означает — нет? Послушай, чел, я знаю все заранее, что ты мне скажешь. Да только я тебе скажу. Ты кто? У тебя кто-то есть? Кроме тех сменных баб, которых ты на хер свой сладкий одеваешь? Детей своих имеешь? Вот то-то и оно. Там, днем, на Патриарших, была твоя жена или там кто. Вот если бы ее — простой вопрос, единственный, последний. Вот если бы ее загнули и поимели хороводом? И ты смотрел бы этой погани в глаза, и ты бы спрашивал: ну, хорошо, зарежь ты сильного, дави того, кто может отвечать… ты спрашивал бы это, и ничего не получал в ответ, и видел только пустоту в глазах, и понимал, что в голове у этого ублюдка вообще не происходит ничего. Вот он это понял, щенок. Скажи мне просто: если бы твою, то что бы ты тогда стал делать? Пошел в милицию ко мне — примите заявление? И я бы пригласил твою жену и стал бы спрашивать, куда производились половые акты, в рот, во влагалище, в кишку… как тебе нравится? Проглотишь? Доверишь государству, мне восстановление справедливости, возмездие? Вот мне, которому, положим, класть с прибором и на твою жену, и на всех девок, вместе взятых, и надо выпихнуть вас всех из памяти, из жизни поскорее, а потому что геморрой вы мне, вы — скот, который сам все над собой позволяет делать, сгибается, молчит и утирается? Что бы ты сделал с этой мразью, если бы точно знал, что это он? Если бы ты ее похоронил, цветущую и молодую? Если бы только начинала жить?
— Цела твоя дочь, цела.
— Да-а-а? Это сегодня. Ну а завтра? Завтра? Если вот этот безнаказанно по улицам, вот облеченный силой, властью? А те, кто были до нее, до Маши? Ведь были же те, которые до… Чего ты кривишься? Спустись на землю, болеро, освободи хотя б одну извилину, чтобы понять, что это практика. И я тебе это сейчас докажу. Берут, приводят в отделение привокзальное — как думаешь, зачем? Я, зная все это устройство, ребенка своего вот до восьмого класса за ручку в школу отводил. И где бы мы ни жили, я всюду зачищал район… был Фишер такой, помнишь? висели фотороботы по булочным, а я рыл носом землю — не потому что долг, а потому что мой ребенок должен был свободно по тем улицам ходить, и к школе чтобы никакая тварь на километр не смела подойти — ни словом, ни взглядом, ни делом. Мне вот упрямо не хотелось одного — чтобы она однажды повзрослела. А потому что, выходя в самостоятельную жизнь, она выходит к ним, к вот этой швали, которым все равно кого насиловать, козу или ребенка… вот лишь бы только мясо было с дырками. Она выходит к вам, к тебе и этому молокососу, которые сюсюкают и больше не умеют ничего. Вам надо поиметь, а кто ее беречь-то будет, кто? Тебя вообще тут нет, ты вскользь, ты по касательной — твоя кровь разве пострадала? А это моя кровь, не говоря уже о чести, да… вот есть еще такое слово — «честь»… они ребенка моего запачкали… мне это заглотить, переварить, пусть зарастает все быльем, пусть этим тварям дышится вольготно?
И я вам буду это вколачивать в башку, пока не сдохну. Что моего ребенка трогать нельзя. Я раньше верил абсолютной силе государства, горел желанием карать воров, подонков, выродков… я думал, смысл в большой идее, в общей вере, да, вот в этом муравейнике, но мы — не муравейник, все жрут друг друга. Повсюду мрак… ты знаешь, что такое мрак? Это когда тебе никто не светит… не светит твоя кровь, вот плоть от плоти… это такая печка, тепла которой хватит больше, чем на жизнь… и если остывает, гаснет, если вот кто-то хочет загасить ее, тогда и наступает полный мрак и выпускает из тебя наружу зверя. Не надо из меня его наружу выпускать, а то ведь и я сам себя назавтра не узнаю.
3
Вот Пушкин, — вспышкой подумал Эдисон, — лежал на снегу со свинцом в животе и в кровавом наплыве, последним усилием целил в ублюдка. Отдавал Богу душу и целился. Какое там причастие, какое покаяние, какое там «таинство смерти», какое «пробуждение от жизни»? Одно земное лишь владело им, звериное, честное, львиное — ни страха, ни смирения, ни Бога… лишь голос чести рвался из него, как вой… порвать вот это геккереново отродье, снести вот эту сладкую ухмылочку, вместе с зубами, с горделиво выпяченной челюстью… вот только это было в последней ясной вспышке гениального сознания, а дальше — только музыка и бред. И это норма, естество — свободно, безнаказанно, законно убить за собственное «я», за Гончарову… «задавишь» на «задавишь» по строгим правилам, с врожденным правом, подкрепляемым из поколения в поколение кровью, на неподсудное, открытое убийство, во всеуслышание, пред всем честным народом — не трогай моего, ни жены, ни детей, ни кончиков сапог моих.
Он прав. Он прав? Что есть естество в человеке, что более ему свойственно? Ведь нет же, нету никакой морали в нашем заповедном «не убий», тем более вот в этом, современном, — одна овечья покорность, одно «когда употребляют, надо потерпеть». И страх. Ты отдал на потребу, на бесчестье свое великое родное, сказал «прощу», но ты на самом деле только сделал вид, сказал на самом деле «не могу», «боюсь», прикрыл вот этим Божьим страхом страх за собственную жизнь, за свой живот, прилипший к позвонкам… в каких же выродков, мутантов они нас превратили — система, институты, государство — введя свою «мораль», свой «гуманизм», синоним слабости, любимое изобретение дьявола. Сказать: «Мы все решим за вас, мы все берем себе, охрану вашей жизни, чести, близких; убийство — более не ваше дело, ты понял, тля, — не противоприродное, не зло, не против Бога, а именно не ваше дело, не твое… ты убиваешь — это преступление, мы убиваем — это государственное право»… сказать все это, и поверят, все побегут под мышку, под крыло, ибо не могут сами постоять за собственную честь, за семя, не способны стоять на правде десяти шагов.
Вот мы сейчас напишем конституцию, закон о равенстве перед законом всех бессильных и убогих, мы зафиксируем, что трогать человеческую жизнь нельзя… как будто раньше не фиксировали, как будто на столбах у Хаммурапи не высекали, да, для пользы, как будто не спускался Моисей… мы всем, скоты, дадим неотторгаемое право человека — в бесплатное кормушечное пользование, — заменим способность на право, плевать на то, что человек — уже не человек, а судорога жалкой твари, приколотой в углу. И все бы хорошо, подушка безопасности работает почти что безотказно, почти в ста случаях из ста на выручку приходят констебль, шериф и дядя Степа, но только иногда система дает непредсказуемые сбои, но только иногда один ты остаешься лицом к лицу с ублюдком-капитаном, и все ломается: «спасите», «помогите» — втыкают свинорезку в брюхо, тем более там, где есть Россия, великая страна насилия и беззакония, сам воздух. И призрак чести не встает во мгле, в «качалку» долго не ходили, утрачен, вымыт, выпарен из крови инстинкт достоинства, самостояния, ответственности личной, вот это пушкинский, дворянский, «ваше благородие», когда не смерть страшна — бесчестье, небытие при жизни, мрак позора навсегдашнего. И только гонит по шоссе за сто, распарывая ночь косыми лезвиями фар, вот этот страшный милицейский подполковник, уродливо, безумно, зверски-искаженно, так, как умеет, проводя вдоль своей жизни изначальный принцип, и он ничего никому не простит.
4
Джип, разворачиваясь, кинул на частый ельник белые снопы, и стало жутко, словно в детстве — лежал в больнице, как в Артеке, в веселом пионерском многолюдье, в палате окнами на морг, фонарь был там такой над дверью, в жестяной качающейся юбке, бесстрастный яркий свет перед мертвецкой и много разговоров по ночам о том, что происходит и что делают с покойником, и как-то выстывало все вокруг мгновенно и становилось только этим светом, белым и бессмысленным…
Джип медленно полз меж высоких сосновых стволов, похрустывали сучья под колесами, поскрипывали корни; лупили в спину, наполняя светом весь салон, круглые фары той, второй, машины, с приговоренной мразотой в багажнике…
Все вылезли. Камлаев и Иван пошли за Железякой, как собаки за свистнувшим хозяином. Чащоба, тьма и слышно, как сочится вон там, по овражку, вода — спихнуть «его» со склона, присыпать ветками и палой листвой… бойцы легко — такую легкость, силу Камлаев видел только у санитаров труповозки, несущих в одеяле высохшего старика, — приволокли мычащего Шкуратова, встряхнули; поставив на колени, отошли. Нога была в крови, запястья схвачены браслетами, фастфудовский мешок на голове шелестяще вздувался дыханием, вминался в область рта, натягивался вновь — как будто крыса расправлялась там в мешке в остервенении с объедками.
Нагульнов снял мешок с измятого забагровевшего, скривившегося в хныканьи лица — Шкуратову как будто сообщили о болезни, которая не лечится; он думал, просто гонорея, хламидии, обыкновенное, пощиплет и пройдет, а тут влепили в лоб известие, и он не верил, ничего не понимал, хотел сказать — ошибка, нужны еще анализы, повторные.
— Стой, мужики, ну, стойте, ну, не надо. — Он, лыбясь, с извивающейся мордой, безного, двигая плечами, пополз к Нагульнову. — Ну, вышло так вот все… несчастный же вот просто случай! Никто такого не хотел!
— Да-а? — Нагульнов протянул с такой интонацией, как будто делал мальчику козу. — А как вы хотели? Рассказывай.
— Так я же говорю… ну, задержали ночью…
Нагульнов пнул его в плечо, и глухо, как стекляшка под матрацем, хрустнула ключица; тот запрокинулся, завыл.
— Ты мне еще про те два грамма вещества скажи. За то, что в лес вот не отвез ребенка моего, спасибо говорить не буду — из отделения тело при десяти свидетелях не вытащить. Ну, так все было, выблядыш? — Нагульнов вбил ему носок в мясистый бок, еще раз — сокрушая ребра. — Не слышу, тварь! — Он взял скота за ухо, вздернул, откручивал всерьез. — Скажи, ему скажи, — он глянул на Камлаева, — что было. Скажи, что было, или что, тебя ломтями настругать? Забрали девочку?..
— Ды-а-а-а-а!..
— Вот этот парень с нею был?
— Ды… ды…
— Он вас просил хотя бы на минуту стать людьми, разуть глаза, прочистить мозг? Она кричала, упиралась, говорила, что у нее отец работает ментом, что подпол, что вот я?
— Ды… ды…
— Что голову тебе открутит, назад приставит, снова оторвет, если ее хотя бы пальцем?
— Ды-а-а-а-а!..
— И паспорт, паспорт был при ней, который ты порвал и там же выбросил? Зачем ее забрали? Чтобы что? Скажи ему, скажи! Попользоваться, ну!
— Ды… ды.
— Это ваша обычная практика? Не слышу ответа! Вы постоянно так вот каждую неделю, каждое дежурство? Обычно брали шлюх районных, но это скучно, да, не сладко, и вас на чистеньких тянуло, свежих, и вы провинциалочек цепляли у метро, студенток, школьниц пьяненьких, кружили по району, высматривая девочку поладнее, поглаже? Никто не заявлял — со страху или от стыда, а если кто-то заявлял, все было шито-крыто? Ушла, подмылась — и недоказуемо? Сейчас у нас с тобой все будет тоже по большой любви. — Нагульнов надавил ножищей Шкура-тову на причиндалы и ткнул стволом в трясущуюся дырку рта, вбивая, вталкивая дуло в податливо-мясное, костяное, рафинадное. — Кто был еще? Еще две мрази — кто? — Нагульнов вырвал ствол.
— Кы… ка… Ка-азюк… — тот стал вымучивать, выплевывать, с измазанной соплями, кровью челюстью, хватать кусками воздух невпроглот, глазами есть Нагульнова с мольбой, уже с какой-то радостной готовностью: все вывалю, всех сдам, но только дайте жить, пожалуйста. — Это все он… Кы-а-азюк… — как будто вспомнив, спохватившись, всплыв, хватая воздух на поверхности воды, — это все он… мы только так…
— Казюк. — Нагульнов надломился, потемнел лицом. — Какой Казюк?
— Казюк, капитан, ну, сын, сынулька генеральский… это все он, мы не хотели, мы ж только так… мы с местными блядями, ну, дали-взяли, только так, а это он, ему девчонок надо было… с улицы…
— Какой Казюк, ты, мусор привокзальный? Откуда он у вас в отделе?
— Он в главке, да, но он… мы же учились вместе, — вгляделся: важно? купите?.. и доложил с подобострастной блудливой улыбочкой: — Это все он, он озабоченный, это его идея… папашка ж по любэ его прикроет… в случае чего… — и поперхнулся, осознав, что вывалил не то, что это не спасет — наоборот, он топит сам себя.
— Ну да, ты только подъедал. Кто третий, кто?
— Ковригин, лейтенант.
— Ну а теперь скажи, что каждый сделал моему ребенку.
— Я говорил, не надо — надо отпустить.
Нагульнов врезал рукоятью пистолета по зубам.
— Что каждый сделал моему ребенку?
— Ну, я… я останавливал вот парня. Ну, корки ему показал, все такое. Она кричала, ну, сопротивлялась. Ковригин ударил. Потом вот парня — тоже он. Ну, посадили, привезли. Я говорил, не на… Да, да, не говорил!.. прости меня, прости, я все отдам, что скажешь, все, я соберу… Да, да… сейчас. Мы привезли, в подвал ее, у нас там лестница такая длинная, мы там… он там хотел ее… я говорил, не на… да, да, она уже не дергалась, не вырывалась больше, все… ну, отпустили ее как бы, ну, то есть, никто ее, по сути, не держал, один Казюк вот только, так, слегка… и тут он раз ей так рукой по щеке, Казюк все, да, это все он… потрогал просто, и тут она такая как в руку прям ему зубами, как это… как волчонок… он аж завыл… ну вот все в нем и перемкнуло… он как ей двинет… я даже среагировать на это не успел, так это быстро все… она спиной вперед вот с этой лестницы, затылком — трах, и все, в отрубе. И я ему ору, вот главное: ты что ж наделал-то, урод? Мы к ней. Там пульс, то-се. Ну, вроде дышит. Я — сразу «Скорую»… они мне говорили: нет, нельзя, они ее хотели… но я… я сразу «Скорую», — ублюдок сам себе подмигивал, кивал, хотел уверовать, что так оно и было.
— Спихните его вниз, — сказал своим Нагульнов. — Браслеты отстегните, не забудьте.
Ублюдок завизжал, заголосил, словно свинья, которую притиснули коленом и ищут сердце, все, проткнули… как расстегнули руки, вырвался из лап какой-то предпоследней силой, взвинченной отчаянием, упал, пополз к Нагульнову ужом — вцепиться в ногу, целовать, не дать пошевелиться, сделать шаг, спихнуть себя вот этой самой ножищей в овраг; его оторвали, как переростка блудного от неприступного, окаменевшего отца, поволокли к обрыву; свободной рукой, несломанной тот, вереща, скреб по земле…
Иван вдруг наконец-то схватил Камлаева за лацкан: в огромных его жалких, собачьи-преданных глазах жил тот же самый окончательный вопрос, что бился птицей в черепной коробке Эдисона: скажи, вот как с ним быть? Ведь он же тоже человек? Такой же, из двух клеток, от маминой и папиной любви, дар и тайна Господня, его Бог сотворил, из той же глины, и это было, было в нем, то, что в него вдунули, горело до перерождения, до иссыхания души, замены мозга… мы можем с ним так? мы это должны — пробить ему голову? Я не могу простить, но и давить, сломать его я не могу… я — не могу?
Камлаев чуть помедлил и двинул с ясной решимостью к оврагу: все колебания его, все разговоры о призраке дворянской чести на самом деле были ложными; решение он принял в ту самую минуту, когда впервые заглянул Нагульнову в глаза.
— Помню, помню, помню я, как меня мама любила… — негромко запел, подхлестывая будто сам себя, — да и не раз да и-и-и не два она мне говор-р-и-ила… — встал на краю рядом с железным подполковником, шагнул и съехал на спине по скользкому мокрому травянистому склону во тьму и дегтярную воду, туда, где все тряслось и хрюкало, скулило пощадить, разбитое, поломанное, рваное, отчаянно, бессмысленно живое.
Камлаев ничего не чувствовал: ни обреченности, ни страха, ни жалости к вот этой животине, к зверюге, сократившейся до подыхающей овцы… ни близости какой-то небывалой новизны, приобретения какой-то более высокой сущности. Была одна сплошная тоска подчинения долгу… и чтобы это поскорее кончилось… уснуть, но прежде соблюсти последний несгибаемый запрет, который никогда никто не свергнет и на котором он, Камлаев, будет стоять до самого конца — перед какой-то абсолютной силой, которая ему так заповедала.
Там, наверху, раздался белый свет — кто-то принес большой фонарь, поставил наземь; Иван, похоже, тоже рвался спуститься к дядьке, соскользнуть; его удерживал за плечи один из оперов; расставив ноги циркулем, железный подполковник стоял на краю с пистолетом в руках.
— Слышь, оратория. В сторонку отойди.
— Не, друг, — осклабился Камлаев. — Я же сказал, молчать не буду.
— Остаться тоже тут решил?
— Хозяин — барин… — и больше не мог, смех рвался из него, рос сквозь, как корявое дерево. — Ванюша, Ванька, брат, сестренке передай, чтоб берегла себя. В Петербурге встретимся мы снова! Запомни, Ванька, слышишь, в Кривоколенном в верхнем ящике стола — работа всей жизни, последний поклон. Петь, как бы вслушиваясь в себя, прозрачным, светлым звуком, везде очень тихо и без психологизма, строго. И все, что было до восьмидесятого, я запрещаю к исполнению… скажи пацанам, если тронут весь тот общепит, я их прокляну с того света. О, почему я ухожу так рано, не посмотрев чемпионата мира по футболу две тысячи шестого года и ничего после себя не оставляю? Кончается род мой! О-о! О-о! О-о-о-о! — поаплодировал он и раскинул в фанатском приветствии руки. — Сине-гранатовое сердце, «Барселона»! Мадрид кабронас, салюдад эль кампеонас!
В лице Нагульнова сломалось что-то, он постоял, скривившись, как престарелый фронтовик над братской могилой, перед гранитным обелиском с именами погибших братьев по оружию — Карпущенко, Голобородько, Ивановых… — убрал за пояс ствол, склонился и протянул Камлаеву — помочь подняться — руку.
Угланова
1
Шквал больших перемен застал его в Граце, с оленьей сторожкостью держался подальше от потока исторического кипятка, который опрокидывал страну, его, Камлаева, вскормившую, уничтожал империю, его, Камлаева, изгнавшую. Несметь «обваренных» на площади под предводительством вчерашнего обкомовского бонзы, нелепо-трогательный вид уснувшего большого музыканта, сменившего виолончель на автомат, восторженная уйма умников и дураков, миллионы паршиво одетых борцов за свободу — Камлаев жил, втянувшись в панцирь, автохтонно, не с комариной — с черепашьей скоростью, все глубже погружаясь в световые миллионолетия богослужебной догмы и терпеливо силясь выстроить такое время, которое не тянет человека за уши вперед и позволяет пребывать там, где ты есть.
Наматывая день за днем круги по буколическим окрестностям, наращивал необходимой крепости и толщины воздушную предохранительную раковину — имея целью жестко выгородить из мира область дома, тишины, освободиться от всего, что происходит в музыке «сейчас», как объективный и детерминированный — недавними открытиями и всей музыкальной историей — процесс; он не желал движения ни вперед (локомотив давно уже сорвался в пропасть), ни уж тем более вспять (еще Урусов говорил, что тосковать по первозданной чистоте богослужебного сознания, по синкретизму, девственности, да — занятие безнадежное и ложное, сродни хождению в набедренной повязке по Уолл-стрит).
Он, кажется, теперь лишь и допетрил, что «красный князь» имел в виду, когда сказал, что в музыке прогресс на самом деле невозможен и существует только в нашем представлении: зародыш (шаровое скопление однообразных клеток), румяный, пышущий здоровьем мускулистый лось и немощный, иссохший, медленный, как краб, старик — это один и тот же человек, единая живая непрерывность, и то, что он умрет, на самом деле значит только то, что потеряется его сегодняшнее имя, сам принцип жизни не изменится; и через сотни лет развитие живого все так же будет подчиняться все тому же неутомимому, неумолимому закону, и точно так же каждый человеческий зародыш неотвратимо будет расщепляться на два листка в срок, установленный природой с великой точностью, и все там будет, в материнском животе, пульсировать, и прогибаться, и выворачиваться наизнанку, и образовывать узлы и пузыри, и в тех же муках будет исторгаться покрытый липкой смазкой, сморщенный ребенок… То, что непредставимо, страшно в пределах твоей жизни, отдельно взятой, этой — ее измеренность, конечность, тиски двух идеально черных вечностей — на уровне Творения, целого малозначительно. Предсмертным стариковским хрипом разожмется беззубый рот новорожденного, младенец резанет по слуху матери отточенной бритвой не то отчаянно-негодующего плача, не то ликующего рева.
Нечленораздельное, трудное мычание неандертальца и до предела изощренная, отягощенная игрой смыслов звукопись — это одна и та же музыка-вода, и никакой свинец банальности и аммиак иронии не убьют врожденной памяти об изначальном образе и не заквасят в гнилостную пульпу вещество неслышимой mundana. И то, что она недоступна тебе, совсем не означает, что она не может неистребимо пребывать в пространстве — вне тебя.
Над головой простиралась немая твердь, которую был должен упрямо обживать, вытаптывать, выхаживать; Григорианский певческий канон был только зыбким обещанием, расплывчатым намеком на неподвижную вневременную тайну, которая откроется в стомиллионный раз впервые. Модель, которую он взял, была исконно вроде бы минималистская — перебирать монашеские четки натурального трезвучия, — но он еще с «Платонова» не пожелал рассматривать паттерн как неделимый атом музыки, чья внутренняя строгая измеренность не принципиальна. Нужно было прийти к такому особому строю, при котором бы голос не просто, «вообще» звенел по тонам, но превращался безусильно, чистым духом в астрономическую серию внезапных обращений, нежданных, будто первый снег, зеркальных, концентрических симметрий, обвально-невесомых вычленений и сотворенных, как алмаз из углерода, слепящих, многогранных, насквозь просвеченных суммирований. Как чья-то воля — законы физики все объясняют, но кто измыслил, заложил, привел к единству их вот сами? — приносит нам на землю готовую структуру снежного кристалла. Как всюдная вода сжимается и расширяется, кипит и замерзает, смыкается над головой прозрачной толщей и пропускает (ни на долю ни исказив ни донного, ни вышнего рельефа) солнечный свет — к такой он чистоте и строгости, при совершенном как бы личном неучастии в метаморфозах звука, должен был прийти.
Работа эта, долгая и терпеливая, давала Эдисону убежденность в верности пути и в то же время возбуждала стыд и гнев на совершенную свою беспомощность: спокойно-полноводное движение голосов как будто выдыхалось, задыхалось от ложной, избыточно сладостной благости, поток все тяжелел, сгущался в наивно-идиллическую патоку — вода за поворотом вольно струящейся реки теряет так течение и застаивается годами. «Магнификаты»-дауны, «Магнификаты» с ДЦП — вот чем у Эдисона получалось разродиться; зерно все не давало всходов, и ближе подступали голод, безнадега и чувство — будто очень слабый раствор обиды и отчаяния библейского Иова.
Он будто выхолащивал естественное пение до тошнотворно-преднамеренной, настойчивой, как предложение товара в супермаркете, ублюдочно-взахлебной, экстатической хвалы, ага, с миллионным рекламным бюджетом и похотливым «Аллилуйя» псевдораскаявшихся Магдален: не полнокровная живая тишина просторно отзывалась на благодарственное пение, но наглая, глумливая, прожорливо-глухая пустота… нет, никакая не слепая опустошительная ярость катящихся по небу огненных колес и полчищ саранчи в железных бронях, а то, чему названия не находилось — какая-то неистребимо-несжимаемая, уже не человечья свобода вожделения, навечная утрата живого вещества, реальности, которую теперь паскудно подменили суммой эфемерных сущностей, бессмысленных и ложных настолько же, как пестовать младенца, живущего в мобильном телефоне, именовать водопроводную отравленную воду «арктической», «артезианской», «ледниковой» или бросать курить, чтобы не умереть вообще.
2
В таком вот умосостоянии он когти подорвал в Россию — пустое одиночество душило — повидаться с сестрой, откормиться на фамильной родной синеве в просиявшем улыбкой лице, совпасть, соединиться с незримой природой Родины — однозвучно звенит колокольчик и острожной тоской разливается над заснеженной степью глухая ямщицкая песня, — прийти на материнскую могилу повиниться за то, что не приехал попрощаться (не пустили).
Вернулся в великую пустошь надежды на новое светлое будущее и в царство страха обнищать — до голода, до «нечем накормить ребенка», в безумное, кривое неэвклидово пространство, в котором созидание давно и, кажется, навечно подменили воровством, пустое небо наспех укрепили сусальным куполом; народ его страны стоял вдоль тротуаров колеблющимся строем и торговал награбленным, отбросами, собой; у тюремных окошек валютных обменников под проливным дождем и колкой пургой толклись угрюмо-настороженные жвачные парнокопытные — курс деревянного рубля по отношению к бенджамину франклину подскакивал и опускался радикально по нескольку раз в день, и к вечеру возможно было сделать состояние; славяне с оловянными глазами и горцы с черными щетинистыми мордами предлагали «чейндж мани» и собирали дань с хозяев продовольственных ларьков.
Студентки, абитуриентки, восьмиклассницы открыли долгие литые ноги по самые складки под попами и обнажили нежные, словно щенячье брюшко, животы; он никогда еще не видел столько молодой, доступной и в то же время бескорыстной красоты: настрой был романтический — точеные красотки мечтали о мужчине, как Ассоль об алых парусах. Поднимешь чудную кудрявую головку над конспектами, отчаянно короткую наденешь джинсовую юбку — и на бульваре встретится, обрушится судьбой «он»: подержанный каурый «Мерседес» — как конь горделивого шляхтича, зеленый двубортный пиджак — как гвардейский мундир с эполетами. Как раньше ждали летчиков, полярников, гусарских офицеров, так — коммерсов теперь: корсарский, чайльд-гарольдов ореол; обвальное вот это дикое богатство конквистадорской добычей представлялось да и на самом деле было таковым — первопроходческим, ушкуйничьим, разбойничьим. Неутомимо гнали через четыре государственные границы за бугор промышленный металлолом, оттуда — ветчину, колбасы, спирт, автомобили.
Другого порядка разбой и грабеж кипел на самых верхних, не видных с земли этажах — внутри той сверхструктуры, которая зовется властью: в тени кремлевских стен творилось, формовалось, кристаллизовывалось то, что назовут впоследствии «российским крупным бизнесом». Камлаев, смысливший в финансах немногим больше, чем шахтер в балете, теперь поневоле столкнулся вот с этим нарождающимся классом — вчерашними замзавами лабораторий в больших и маленьких НИИ, ведущими и просто инженерами в КБ, которые теперь взлетали с первой космической в директора крупнейших частных банков и нефтедобывающих компаний.
Второй Мартышкин муж, Ордынский — сотрудник Института проблем управления, всегда ему, Камлаеву, казался таким недо-Ландау, шизо-физиком; с ним было интересно говорить о виртуальной сущности богатства, не подкрепленного ничем материальным, вещным, созидательным, о превращениях денежной воды, о баснословной дешевизне русской нефти, зависящей от политического строя, но все же математик-теоретик есть только математик-теоретик — обогатиться может только через Нобель или Филдс, то есть продав оригинальную модель, идею, воздух будущего; то, что Олег начнет захватывать реальные заводы, газеты, пароходы, Камлаев вообразить не мог — так вот к чему вели все эти разговоры про то, что пачка «Мальборо» и тонна угля внутри Союза стоят одинаково.
Соседи у Ордынских по новой даче в Жуковке были того же комсомольского кооперативного замеса — российская первая, пока еще не форбсовская сотня, но скоро — было ясно — придется потесниться митталлам и дартсам перед вот этой русской саранчой, сметающей британцев, янки и арабов с насиженных позиций в табели о рангах… что их британские обильные мозги и производства перед лавиной, хлынувшей из русских приватизированных недр, перед великим сырьевым напором, полноразмерно охватившим всю таблицу Менделеева? То был особенный народец — одновременно грубый и изящный, холодно-приземленный и яростно-загульно-удалой, башковитый (на счет изобретения головоломных методов захвата огромных нефтяных полей и сырьевого экспорта, перепродажи содержимого товарных поездов и танкеров друг другу), обогативший род свой до девятого колена и каждое мгновение ждущий расправы, разорения, погибели.
Вот что-то было в них такое — страх, почти что обреченность при всем могуществе, достаточно было взглянуть Ордынскому в лицо: крутилась вечная машинка будто вхолостую, бесплодно набирая денежную массу и загоняя мужика в какое-то метафизическое рабство. И женщины их жили путано и странно, с уверенностью в будущем, которое могло накрыться медным тазом каждое мгновение, — как в каменном веке, при Карле Великом; счастливое замужество и раннее вдовство, фасоны лондонских прославленных портных и расточительная роскошь похорон переплелись, скрутились воедино. Супругов ждали будто из похода, с добычей или на щите. И в то же время — чем не жизнь? Как раз вот это, собственно, и жизнь; таким мужчиной, воином, добытчиком, гордишься, он — не чета другим, норушкам сереньким, унылым вьючным служащим-задротам на гарантированной нищенской зарплате, всем этим бабо-мужикам, чья половая принадлежность распознается только по фасону брюк и пиджаков.
Он ехал к Ордынским на дачу, не ведая, что едет за судьбой.
3
Сперва еще мелькали деревянные профессорские дачки с подслеповатыми террасками, потом пошли «дворцы» за трехметровыми кирпичными заборами — соединение горделивой колоссальности и вычурной безвкусицы, то римские термы, то терема в кокошниках и с окнами-сердечками, кремлевские зубцы, готические шпили, сплошь «псевдо» и «как бы» из белого известняка и красных кирпичей, но стали попадаться, впрочем, уже вполне приемлемые копии наследных гнезд Неаполя и Эссекса, в деталях воспроизводившие какой-нибудь Годолфин-Корт или вилла Дурраццо; Ордынские отгрохали себе Остафьево в миниатюре, и по сквозной березовой аллее Камлаев въехал в золотую осень крепостного права; армячных мужиков, ломивших шапки и кланявшихся в пояс, только не хватало.
Опухший от вспомянутого пьянства, опустошенный по приезде длинными телами двух Кать и трех Кристин, в брезентовых штанах и апельсиновой футболке с девятым номером ван Бастена, он вместе с Мартышкой гулял по владениям, кивал рассказу о Мартышкином житье за мужем, ночующим в приемной у Чубайса… дивился, что не видно края буйно-зеленому поместью, тянул настоянный на прелой хвое воздух и вдруг увидел нечто, чего не осознал сначала как реальность: за временным, из сетки-рабицы забором, на заповедной, неосвоенной, заросшей сорняком земле, в чужом имении, в чужой стране мелькнула очерком своей и девичьей, и женской одновременно фигуры — облазивший в округе все деревья и заборы худой и сильный, с острыми лопатками, мальчишка-сорванец.
Ему шел сорок первый, и женщины слушались его, как собаки, он подзывал их свистом, и было радостно, когда они бросались лапами на грудь, и время будто замирало вместе с сердцем на мгновение, не продвигало, не несло Камлаева; их было много, как у Жукова дивизий — так и не вспомнишь сразу, с кем ночевал при Халхин-Голе, кто был при тебе, когда сочинялись московский «Платонов» и дачные «Песни без слов»… и вот теперь он пересек «отцовскую отметку» — возраст отца, когда тот повстречался с матерью, время делать детей, и будто жизнь ему навстречу вышла… с неизбежностью, как и всегда навстречу выходила, извечному питомцу счастья.
Она его почуяла хребтом, пернатым коротко остриженным каштановым затылком — как жар, как солнечного зайца, как луч, наведенный отменным цейссовским стеклом — и повернулась со спокойной, бесстрашной решимостью быстрее, чем запоздало хрустнул под камлаевской ногой какой-то высохший сучок; проткнула, не впустив, не подарив и краткой задержки его облика в зрачках высокомерно-близоруких карих глаз… дала ему свое лицо, и в этом было все — в лице ее творилось такое беспощадное, непогрешимое, святое попадание в образ самого родного, что весь он обратился в благодарность за нее, за дар, которого не стоил… такая это совершенная была законченность, исполненность чужого замысла о нем, ничтожно маленьком Камлаеве, настолько вот его, такого маленького, жалкого, учли, настолько им, ничтожным, озаботились.
О, Господи, сколько же веры в Тебе, сколько милости, если и это было предусмотрено в Творении Твоем — дать дозволение на восхищение бесподобным, не только оставлять потомство каждому по роду своему, но и любить по бесподобному лицу, по сердцу своему. Как ногу из чулка, как табуретку из-под ног, из тебя вынимают, вышибают тебя самого и можно только ею, этой девочкой, заполнить опустевшее вместилище, и веришь, что она не ест, не гадит, что для нее природой придуман другой будто способ любви… и даже когда все узнаешь, разденешь, завладеешь, привыкнешь с нею засыпать и видеть по утрам растрепанной — она не покинет своей высоты.
— Ой, здравствуйте, Нина.
— Ой, здравствуйте, Оля. — Она отозвалась, как пионер на зорьке, не обманула, не могла его, конечно, обмануть — ни тоненькой, плаксивой псевдодетской дурашливости в голосе, подделки под капризного ребенка, ни бархатной истомы ведения по исподу ляжек… и двинулась навстречу, отпуская губы сложиться в дружелюбную улыбку… упрямые и вместе по-детски отзывчивые губы… меняя — будто распогодилось — невидяще-презрительный прищур на испытующую жадность, на чуткость, настороженность лесного зверя, который вышел на опушку и замер, вглядываясь будто глазами всей природы в самозваного царя и вора — человека.
Соединение хлесткой силы, горячей жизни, рвущейся как будто из оков, и беззащитной ломкости и тонкости было ему, Камлаеву, мучительно; нигде не виданное дикое, ошеломляющее странностью, будто издевкой над каноном совмещение в одном лице доверчивого, слабого зверька и заповедно-идольского, неприкосновенного чего-то вгоняло Эдисона в слабоумие, вводило в веру, что только ощупью сторожких рук и языка можно понять о ней хоть что-нибудь.
— Это наши соседи, Углановы. «Финвал-инвестбанк». Финвалы — так их и зовем.
— Да, я — финвалиха, — с кривой ухмылкой подтвердила Нина, по-детски некрасиво оттопырив угол рта, — не для того, чтобы сказать «я замужем», а просто для смеха; «одна сатана» не имелось в виду. Да и как бы там ни было — счастливое замужество Камлаев почитал препятствием преодолимым… и вообще: та сила, которая их с Ниной столкнула, которая вообще задумала произвести на свет вот эту девочку, не ошибалась, не могла… природа делала ее не просто так, не безрассудно, слепо выбросила в жизнь… она вообще не делала вслепую ничего и ни одну девчонку — просто так… по крайней мере, Нину точно выводила с безжалостной точностью по Эдисонову нутру — не так, как всех, не лучше остальных, не краше, а просто для него, Камлаева, ему и никому другому больше.
— Мой младший братец, Эдисон Камлаев — наверное, слышала?
— Ну, как же, как же… — Она сказала без подобострастия, без этого вот замирания лицемерного как будто при попытке заглянуть куда-то по ту сторону, где обитают существа иного рода, «жрецы», «художники»… и там какие есть еще обозначения блевотные… да и чего он ей? — знак качества на музыкальной картошке фри, три-четыре медальки всемирных продовольственных выставок. — Я думала, вы более яйцеголовый. Такая черепаха пучеглазая, с огромными зрачками в толстых линзах. Ну или вот такой… — она изобразила потешной гримасой, движением руки высокое чело, которое вот-вот разломится от внутричерепной толкучки-какофонии, протягновенный шнобель, аксакаловскую бороду. — А у вас не так сильно развита лобная кость.
— Ой, Нин, а как там Бадрикова Света? — Мартышка, неладное будто почуяв, вцепилась караульной овчаркой в нее — втянуть в их бабий, магазинный общий разговор — про детские сопли, про страшно занятых мужей, про отпуска на Корфу и Ривьере. — Немного пусть хотя бы отошла?.. Ну да, конечно, как тут отойдешь… но все-таки есть Темурчик, слава богу, — вот для него теперь им надо жить, Темурчиком. Я думала, хоть твой-то молодец, скромнее живет… ну как скромнее?.. потише, на самый верх не лезет, а тут вдруг раз — ив вас стреляют… Вот жалко мы на похороны только не смогли… мой в Нижнем был как раз, а мне одной… ну как-то неудобно… еще и с Ванькой как раз вот по врачам… а черт его знает? Аллергик, вдруг покраснеет весь, как мак, и сопли… вы мне и так, мам, говорит, все руки исцарапали… ну, пробы когда делали на пищевые и пыльцу. Вы как — сегодня к нам заглянете?
— Да, обязательно.
— Мы будем ждать, — Камлаев заверил.
Глядел ей вслед, удерживая очерк ее полу-мальчишеской фигуры на сетчатке и видя ее целой, всю, от пяток до макушки, а не замыленным мясницким взглядом, который разнимает плоть и цапает кусок полакомее. Знал: это заберет с собой, не отдаст, когда придет вода и смоет все, оставив лишь убористый петит меж камилавкой и камланием, нечленораздельное, почти нечитаемое «засл. деят. иск-в, предст. авангардизма…» в гранитных плитах дюжины энциклопедий… все это в мусорные баки человеческой истории, а это не отдаст: вот эту синенькую майку с отвисшими проймами и замахрившиеся джинсовые шорты, ее лицо, которое впечаталось во все, что окружает, — как если бы ты долго смотрел в зрачок зенита — и будет проступать своими скулами в физиономиях поваров, охраны, услужливой безликой челяди, всплывать со дна кофейного наперстка и раздвигать, приподнимая бровь, линейки нотных станов…
— Нет, братик, нет, — сказала Лелька.
— Что «нет»? — Камлаев изумился на голубом глазу.
— То, то… а то как будто я тебя не знаю… глаз кобелиный твой, — она смотрела раздраженно, зло, как злятся на дороге, серпантине на лихача, который, по-звериному взревев, рвет на обгон, виляет, подрезает, идет в занос неуправляемый, не понимая, что не себя — других убить в момент слепого разворота может.
— Я, Лель, ее всю жизнь ждал. — Камлаев не выдержал, фыркнул, затрясся.
— Ты каждую — всю жизнь! Она — Угланова, так, между прочим, чтобы ты знал, если со слухом что-то… она давно живет своей жизнью и семьей.
— Послушай, девочка, ну что такого в этом противоестественного? Бывает — сплошь и рядом. Что кто-то расхотел быть чьей-то там женой и захотел — женой другого. Вот, кстати, как ты. Ты захотела, ты все сделала по сердцу своему… и что?.. и вроде бы не проломилось под тобой. Живете. Послушай, я устал, мне стало страшно одному. Вчера еще не было — сегодня вот стало. Род мой, в конце концов, не продолжается.
— Вот это что-то новое.
— А ты не поняла? Не поняла, зачем она? Вот я ее увидел — все сбылось, вот мама с папой не напрасно меня делали.
— Ну, если врешь — смотри!
4
Он силился вообразить себе жизнь этой женщины, всю прошлую жизнь, до впадения в свою, увидеть Нинину единую живую непрерывность так далеко и глубоко, как только можно, до младенчества, причем увидеть так, чтоб этот порожденный его воображением мираж был, как нашатырем, пропитан достоверностью, то есть оказался бы предельно близким к истине, к тому, что совершалось и совершается теперь в уединенном сознании самой Нины…
Сперва была «храплюшечка моя», шерстистая Сахара бескрайнего ковра в гостиной, мир, населенный плюшевым зверьем и розовыми пупсами, рассказ о себе в третьем лице — «она упала», «она хочет»… и только срок спустя, с усилием разлепив губешки, с великим изумлением выделив себя из мира — «я»… Все по стандарту, лишь стандарт, лишь общее давалось Эдисону… а впрочем, разве помнит сам человек свое младенчество?.. нет, ту реальность заменяют нам воспоминания родителей, это они рассказывают нам о первых шагах, о рождении первого слова, о дружбе с плюшевой собачкой Жучкой и настоящей живой кошкой Муркой… если не бросили, если мамаша не оставила врачам, тогда — бескрайняя блаженная страна под ровным, никогда не заходящим солнцем родительской любви, и так еще прозрачно, податливо, подвижно, как вода, зачаточное «я», свободно пропускающее звуки.
Камлаев помнил, что в детстве на любого человеческого отпрыска снисходит благодать, и все, что ты видишь и чуешь, есть высшее, святое состояние вещества, и это вещество пульсирует, звенит, мир открывается ребенку как сокровище, как Царствие Небесное: в него рождается бессильный, безымянный человек, в нем, разлепив глаза, развесив уши, пребывает, пока не вырастает и мир не превращается в отбросы.
Усилием внутреннего слуха ты тщишься вызвать к жизни ту потерянную истину, дарованное знание о подлинном устройстве мира, которое свободно поступало в твое сознание воздухом, водой, когда, закутанный заботливой мамой, как полярник, сбегаешь через три ступеньки поскорее во двор, в сверкающую снежную пустыню и видишь Божий свет, который онемил, оневесомил все живое, заставив всю земную твердь, всю прорву флоры оцепенело, завороженно внимать алмазно-твердому, безмолвно-оглушительному целому. Это как будто пение мира о самом себе — мелькнувшая перед глазами чистая и строгая структура единственной снежинки уже есть вся неиссякаемая музыка, всеисторгающая радость и покой, не знающая перепадов уровня начального благоговения, да и благоговением это глупо называть, это всего лишь человеческое чувство, а тут — надмировое торжество и строгость Вседержителя по отношению к самому себе.
Так вот, ему казалось, что Нина не забыла ничего, что и сейчас по-прежнему она все видит и все слышит, как ту музыку, с такой же ясностью дарованного в детстве откровения, и приведись ему, Камлаеву, оглохнуть, она могла бы стать его поводырем: быть рядом с ней означало причащение, то, что тебя взяли к себе, и всякое живое существо, расставшись с нею, потеряв ее из вида, должно было, вне всякого сомнения, ощутить, пускай темно и вяло, утрату просиявшей благодати.
Итак: распарывая с визгом колкий воздух, летя с горы, взахлеб хватая, наглотавшись, спалив нутро морозом, провалиться в температурный бред рождественской ангины и очутиться на постели в сумрачном лесу преображенной до неузнаваемости комнатной реальности: во что-то небывалое сложился геометрический узор обоев, из золотой, рубиновой, огненнорыжей раны, которую наносит глазу свет настольной лампы, мгновенно вырастают на стене пугающе-пленительные призраки — горбатые и одноногие уроды, обугленные злые магрибинцы в своих хламидах и чалмах, верблюды, пальмы, алые барханы, пылающий резной ажурный Тадж-Махал, и ты уже внутри какой-то раскаленной радуги и остаешься в ней, пока не одолеешь сладкую, обворожительную смерть, — чтоб победить, достанет в детстве меда, молока и маминых всесильных рук, что, смоченные огненной водой, неутомимо трут твои холодные ступни, горящие лопатки, пухленькую грудь, полуночным радением, родительским камланием сбивая жар, спасая от озноба и сообщая тельцу собственный огонь, свою нерассуждающую любящую силу, которой, ясно дело, в матерях немерено.
Потом начинается школа: пионы белоснежных бантов, гладиолусы, линеечный трезвон и хищная радость познания (окрашенные йодом из пипетки структуры репчатого лука, похожие на витражи при взгляде на них сквозь прибор Левенгука; ланцетники и ленточные черви, сперва ползущий, а потом шагающий через столетия своей Истории человек — отбросивший дубину, вылезший из шкуры и царственно, победоносно распрямившийся; сплошная, идеально ровная, царящая повсюду — когда б не чудо человеческого глаза — чернота; все черное на самом деле — деревья, листья, небо, и если бы не преломлял хрусталик единственным невероятным образом луч солнца, то мир бы был как гроб; невероятная, разумная, сознательная милость Солнца по отношению к насельникам Земли — нельзя ни раскалиться, ни остыть на градус выше-ниже щадящего земную тварь предела, иначе все здесь станет пеплом или сплошной вечной мерзлотой, наоборот), сажают, верно заподозрив близорукость, за первую парту, мальчишки обзывают Нинкой-скотинкой и дергают за толстые каштановые косы, дубасишь их портфелем по коротко остриженным неровным и непрочным головешкам; все купленное к школе оказывается совершенно недостаточным, нужны еще наклейки на тетради и белые кроссовки «адидас», нужны еще заколки — траурные бабочки и шпильки — золоченые стрекозы, стеклянная линейка вместо деревянной и розовый, упругий, клубникой пахнущий ластик, необходима тьма всего, чего не сыщешь днем с огнем в знакомых магазинах, и надо «доставать», чтоб челюсть у Мартыновой отвисла и у Мартьяновой от зависти глаза на лоб полезли; все девочки в классе естественным образом делятся на дур и тех, кто смотрит с обожанием, передает записки на листочках прописей — «Нина, давай с тобой дружить».
Сама себе нравилась — растут огромные ореховые ясные глаза, вот только не очки, не надо, не хочу, ну, почему же так некстати заволакиваются туманом маленькие черненькие буковки у окулиста на приеме?.. — и вдруг себя возненавидела: вот это тощее уродливое тело, гусиные пупырышки, как будто ощипали, глаза запаяны в телескопическую оптику — как с этим всем показываться миру? ведь он же должен обмереть, свихнуться, заболеть ею, Ниной, — целый мир. Урод уродом, такие никому на свете не нужны, хотелось прекратиться, сгинуть, провалиться — чем жить пугливой недотыкомкой… зачем меня вообще втолкнули в эту жизнь? Мать рассказала все, что нужно про себя знать женскому, из плоти, человеку: «это природа так напоминает женщине раз в месяц, что она может стать матерью…», но это — женщине, а ей, не нужной никому, зачем?
Прошло, как насморк, как гриппозная хандра, всего одну весну и отравило: неужели вон та беспримерная дура — это ты, это ты ею была? Как-то стали смешны, не нужны сопляки, скоморохи, неуклюжие жалкие сверстники — и Тарасов, и Гордин, и Лева Рагозин — с их баском и напором, с их убогим старанием подделаться под прошедших десятки интимных баталий героев, с позорными гримасами прогорклой искушенности на глупых прыщеватых лицах, со вспышками смущения некстати и всплесками веселья невпопад — безнадежные мальчики, такие зеленые, слабые, что она даже материнским чувством к ним прониклась, естественно и полноправно ощущая себя несравнимо мудрее всех этих будущих мужских людей, так, будто взрослость сердца и ума природой даны ей изначально.
Совсем другие, настоящие мужчины (не эти прыщавые куколки, в которых только брезжат — если брезжат — неразвитые воля, сила, ум) ее воображение захватили; седой орлиноносый желчный Смык-Некитаев стал ее кумиром — читавший публичные лекции на Воробьевых и собиравший в университете толпы почти как на концертах у «Машины времени»: «Мир держится на изначальном и неодолимом неравенстве внутри и между видами, и землеройка никогда не станет равной льву, смерд — Пушкину. Попробуйте отнять культурные излишки, с позволения сказать, у горстки подготовленных людей и передать их в безвозмездное неограниченное пользование всем, и это будет ад равнодоступности, невероятный по убожеству ЦПКиО», — играли на лице стоявшего за кафедрой красавца алтарные отблески.
Поверила и двинулась по стылой галерее между утративших частично живописный слой полотен, мимо мясной фламандской лавки Рубенса и Снейдерса, мимо весенних красок Веронезе и золотых вещиц Челлини — тут еще и родители потянули «пойти по стопам» и затолкали общими со Смыком-Некитае-вым усилиями в музей, забитый мраморным столпотворением шедевров.
Впрочем, едва ли эту девочку так просто можно было проработать и что-то навязать свободному уму под видом собственного Нининого выбора: естественная тяга к человеческим произведениям была лишь частью любования Творением. Ей, Нине, было важным видеть вещественные доказательства того, что человек не остается глух к дыханию некоей силы, которая являет нам себя повсюду.
Музей, в который поступила на муштру, насквозь открыт, глотает, пропускает горячий ток жизни — сегодняшней, здесь-и-сейчасной, с цветными польскими лосинами и джинсами-бананами, страшенными начесами на девичьих головках и записями голоса Гребенщикова, с обрядовой, заученно-привычной чередой «санкционированных школой» «дискотек» и нелегальных дачных шабашей, квартирных вакханалий…
Камлаев силился представить себе тех мальчиков, которые на подгибавшихся ногах, налитые воровской дрожью, по-ученически, вытягивая губы, тянулись целовать. Безликое, фабричной штамповки большинство отсеивается сразу, остается один, особенный, такой, с которым можно делать общие шаги, оставить номер телефона шариковой ручкой на запястье и получить, конечно, обещание не мыть, навечно сохранить вот эти цифры счастья на руке… назначить время, место (на Маяковской, у колоннады), пойти в кино, позволить проводить, и хочется скорее уже упасть вот в эту обжигающую воду, раскрыться, захватить, вобрать в себя чужое бытие.
Вот университет: тут должен появиться ясноглазый Тедди-бой, сияющий улыбкой «пейте натуральный томатный сок» (такого отдавать своей сестре нельзя — самой пригодится потискать, как морду чау-чау), живая кукла для битья, ну, то есть для курения под лестницей, седлания, хомутания, оплетания ногами и всякого тому подобного. Из этого, бывает, что-то вырастает — у других — начавшись косо брошенными взглядами, игрой на подавление прямого неотвязного, пинг-понгом, полыханием щек, дурашливой возней, братскими шлепками, курением травы, рассказами о прожитом порознь дне, биением децибел в сплетенных пальцах, ритмическим качанием в плывущих водорослях светомузыки, кончается постелью… но тут случилось, наползло, надвинулось такое, что никакого Тедди-боя не осталось.
Явился тот, кто отнял у нее фамилию, — вот он идет с женой, Ниной, под руку, длиннющий, прочный, как стропило, как рекордсмен дебильной Книги Гиннесса, как Петр Первый в окружении недомерков, нескладный, неуклюжий, несуразный, как ледокол на Яузе, но в то же время равный сам себе, немного лопоухий тонкошеий парень, скупой на жесты и гримасы, скрытно нервный, порывистый шатен с симпатичным и твердым лицом, с приклеенной к губам самодовольной снисходительной усмешкой урожденного знайки.
Камлаеву он странно нравился, если, конечно, можно было так сказать о человеке, который держит под руку его, камлаевскую, женщину — природой сделанную для него, Камлаева. В конце концов, вот этот человек не побоялся того, что чуяли в ней, Нине, моментально многие, и обжигались, и бежали в ясном понимании, что не способны этого сберечь: красивых много, природой выточенных женщин с великой дерзостью и беспримерным тщанием… к красивым просто боятся подойти (страх альпиниста перед Джомолунгмой), но в ней другое было, нечто, что бесконечно глупо называть и «чистотой», и «естественностью», да, — великая дарованная сила настоящести, притронуться к которой не легче, чем войти в игольное ушко.
Зашел к ним в антикварный на Арбате — купить самовар для партнера-инвестора, для рыжего веснушчатого англосакса, который давал миллион на развитие в обмен на эксклюзивные права поставки вольфрама за бугор, — хотел все сделать быстро и разбился о Нинино лицо. Вперился, надо думать, с мучительным непониманием, почти с тоской, почти с отчаянием, как во врага, в ублюдка человечества, в расстрельную команду («Смерть фашистским оккупантам! Да здравствует наша Советская Родина!»). Всем, от макушки до туфель сорок пятого размера, был должен оттолкнуть, и оттолкнул, и дико не понравился, но только почему-то сразу стало ясно, что этого нескладно-неудобного мужчину, с самодовольной кривоватой ухмылкой и преданными песьими глазами, ей вытолкнуть из своей жизни не удастся.
Потрепанный вельветовый пиджак, нестриженые вихры и резкие свободно-властные движения человека, для которого нет расстояния между отданным приказом и выполнением желания — сама реальность повинуется ему быстрее, чем незамедлительно. Вот только Нина не принадлежала к этому подобострастно-исполнительному миру, который прогибался на всех уровнях, от макро— до угодливой улыбки официанта. Не меньше, чем серьезное переустройство мозга и души, потребовалось вдруг, чтоб сладить с этой девочкой, лишенной всякого притворства — о, эти скромно опускаемые, со скверным подражанием стыду, ресницы твердо объявляемой цены, откидывания косм, «смотреть мужчине пристально на переносицу» с чурающейся сумрачной мордой… нет, лишь беспримесная, органическая правда движения и слова была ей от рождения привита.
Попробуй угадать: долго ходил вокруг до около, сопел, досадливо вздыхал, присвистывал, бодал и ел в упор тяжелым взглядом, терпел и «собирался с духом», упрямо приходил, чтоб ткнуть в первый попавшийся под руку портсигар, жилетные часы, тарелку, табакерку — такими темпами, смеялись девочки, через полгода он, влюбленный в Нину, чудовищно их всех обогатит. Или накинулся свирепо, не давая продыху пролепетать хоть что-то, возразить, позвал в один из новых близлежащих ресторанов, в которых стакан морса стоит двадцать долларов («ну, на мороженку-то хватит» — в ответ на вопросительно приподнятую бровь), сказал: «Давай так, будто бы уже прошло два месяца и я дарил подарки, конфеты там, цветы… я не умею этого всего и не хочу учиться, поздно… короче, так, — взгляд на часы, — сегодня в загс уже не успеваем, а вот завтра…».
Так прет и крошит с треском толстый лед весенняя вода, но в то же время было что-то в нем такое: был с нею непонятно смирным — не робким, нет, не жалким, а осторожно-бережным, огромный, мощный человек, настолько привыкший к раболепию мира, что, верно, задохнулся бы от одного лишь изумления, вдруг не откройся перед ним какая дверь.
Не столько потребность присвоить, поставить на коже, везде, где только можно, в каждом закоулке, свое хозяйское тавро, сколько прямая, честная, угрюмая готовность кормить, передавать ей по куску себя — в нем чувствовалось это, Камлаев это видел, а Нина и подавно должна была почуять это с самого начала. «Он словно к зеркалу меня подвел: смотри, вот ты. А я себя и не узнала. Я и не думала, что я такая, какой себя увидела в тех Теминых глазах».
5
У Ордынских был праздник: таскала угли и жаровни челядь, плясал огонь, сияли над газонами натянутые тенты; вперегонки носились, шумно, прерывисто дыша, могучие овчарки и сухие доберманы, упругим мускулистым комом бились под колени и тыкались холодными носами в руки прибывающих гостей; от господского дома доносился до слуха базарный разнобой настройки инструментов — повизгивали скрипки приглашенных «Виртуозов России»; седаны с «мерседесовской» трехлучевой звездой, «шестисотые» фетиши пореформенной эпохи, прикрывали лакированными крыльями напористые сгустки человеческих амбиций; мужчины, победительно-вальяжные и в то же время напряженно-хмурые, вели под руку выхоленных благоверных… привычным глазом он, Камлаев отличал студенческие браки (прошедшие проверку коммунальным бытом, безденежьем, ничтожеством мужчины) от более поздних, курортных, служебных; ярко-зелеными ростками новой поросли как будто среди прошлогодней травы тянулись ввысь, сверкали тонко-долговязые двадцатилетние последние покупки — обидно затмевая располневших, со штампом на лице «лучшие годы позади», законных жен.
На круглых столах, на крахмаленных свисавших до газона самобранках на блюдах громоздились горы устриц, курганы разлапистых икряных гребешков, «Дом Периньон» глубокими фалангами встречал нашествие гостей, балованных рижскими шпротами и синевато-жилистыми курами из новогодних продовольственных заказов; гигантские шутихи трещали и с шипением разбрасывали искры, взмывала в небо вертикаль салюта и, лопнув, разорвавшись, накрывала трепещущей световой сетью десятки гектаров заповедного леса.
Камлаев оставался в стороне, отбросом, невидимкой среди предпринимательского сброда. Угланов вел ее за руку вдоль шеренги жующих и кивающих приветственно гостей, и эта связанность, сцепление их рук была ему, Камлаеву, мучительна, как если бы по миллиметру кто-то отдирал присохший бинт с камлаевской изнанки, с его изнеженного слуха; Камлаева корежило от мысли, представления, что «этот» обнимает, берет ее лицо в ладони полновластно, что каждую минуту вправе притянуть, касаться всюду, зацеловывать, елозить, одолевая путь от бедер до коленей — муть заволакивала зрение, мешая разглядеть, увидеть «все»; он так же глух, Камлаев, становился и безглаз, как весь внешний мир, умиравший для любящих и не способный осквернить своим подглядыванием их священнодействия. Казалось, проще было сдохнуть, чем вытерпеть их общность, единство подвенечное, алтарное, постельное, любое.
Угланов вдруг забуксовал, застрял, заговорив с плешивым вислоусым брюзгливым стариком, бодал, втемяшивал «ну, хорошо, обвалите вы рынок облигаций — дальше что?» и не почуял пустоты в ладони — как Нина отпустила, вынула, освободилась… немного постояла, озираясь, и, различив, шагнула к Эдисону; прожорливый бесстрашный интерес стоял в ее глазах — как к новому и интересному лицу, как к экземпляру исчезающего вида… обыкновенное живое любопытство, только и всего; он был ей интересен, да, своим неповторимым содержимым, мелосом, который он носил в себе, как каракатица чернила: как это получается, как ты накапливаешь звук, чтоб после выбросить, какой тут орган отвечает за поражающую силу твоей чернильной бомбы… сейчас она тебя распорет, разберет, рассмотрит внутренности, выбросит пустую оболочку — с Камлаевым понятно, все, давайте следующего.
Нет, не поймешь, лицо у Нины было как великая вода; то, что было под сердцем у нее, то, что она несла, еще не проступило у нее в лице, она еще сама не знала этому названия… Нет, нет, Камлаева не обманули: неодолимо, беспощадно надвигающийся мир другого человека, перед которым Нина была беспомощна, как голозадый суматранец перед стеной волны, перед коровьим языком цунами, слизнувшим ее вместе с островком… — вот это было у нее в глазах.
— Из вас как будто жилы заживо, — кивнула на сцену перед домом, откуда мусорной вьюгой хлестало попурри из шлягеров бессмертной классики; от карамели Генделя и вправду начинало ныть нутро, как ноют от сладкого зубы.
— Я начинаю вас бояться.
— Да ну не надо. Вы знаете, что дурам больше всего нравится? Когда мужчины хвалят их за ум.
— Вы — очень умная дура, Нина.
— Спасибо-спасибо. Звук должен быть новорожденным, так? Не новым… новым словом, да, не обязательно царапающим, острым, ранящим, неслыханным, а именно новорожденным. А с этим проблемы, с тем, чтобы родиться живым. Экологическая обстановка неблагоприятная. Большая химия, Чернобыль и главным образом — синтетика. Ну что вы так смотрите? Эпоха эллинизма, одним словом. Все менее возможны мелодии и тексты, которые бы, грубо говоря, начинались с начала. И вроде все понятно, претензий никаких, да только все равно живую жизнь с резиной не спутаешь, откуда-то берется вот это чувство пакости, помойки. Но вам-то лично что? У вас же вроде все в порядке.
— Да ну? Это где же у меня в порядке?
— В «Платонове». Это правда, что он прописан в больничных листках с назначениями для пациентов европейских хосписов?
— Да, где-то между опиатами и золотым уколом. Анестезия для мозга, который иногда умирает последним. Это они там любят — чтоб комфорт. Такая вера прямо сразу наступает. Что сдохнем в отмеренных муках и на десятый день воскреснем с упругой розовой мускулатурой и легкими, как у младенца. Чтоб никто не орал «не хочу», чтоб уходили тихо, чтоб как-то можно было бы утихомирить еще и разум, да. Чтоб что-то просияло в черноте, какое-то неясное свечение в бесплодии умственного тупика — еще не все, ты нужен и тебя вернут. Ментоловая мазь такая, чтобы не слышать собственного запаха.
— А я бы вас ударила сейчас, если бы вы были не вы, а человек извне. — Она разозлилась, с такой яростью мгновенно заступила на защиту Камлаева от него самого, что нежность к ней, уже своей заступнице, ему расперла горло. — То есть это все не надо, понапрасну? Не надо, чтобы человек, когда он умирает, в момент распада смысла и судьбы, разносился по миру, а надо, чтобы в землю целиком, чтоб были только червяки? Ну а тогда зачем вообще вы это все? Вот ваша музыка, радение, корпеть? Я, может быть, и дура, но кое-что я различить могу: ведь это ж непонятно вообще, как там у вас вот это сделано, в «Платонове», какими инструментами, вот эта самая глухая земляная тяга, тяжелый звон земли, вот call cold ground, да, который целиком порабощает, готовность эта как бы человека бездумно накормить собой будущее, стать палой листвой и отцветающей травой, но там не только этот гнет, всеобщее безволие и отупение, медлительность того, что стало неорганикой, — там все журчит свободно, длится, уже над головой, не вниз, а в высоту — согласием, приятием порядка, естественного хода, да, и это значит что?.. что все-таки все не зря, и ты уже не в этом белом поле слепоты, не под землей, да, из праха сотворен алмаз, высоким давлением музыки выжат из всей подступившей вплотную бессмыслицы.
— Вы часом книжек замужем не пишете? Уж очень складно все у вас… — Камлаев осклабился, задыхаясь от знания, сообщенного Ниной: и, верно, все не зря, если она идет рядом с тобой и злится на твое уныние, на расточаемую желчь — зверек, нелепости приемыш и бесконечно совершеннее, музыкальнее всего, что он услышал, произвел за жизнь; назойливый и сладко подчиняющий себе переизбыток мертвого уже не налегает, не гнетет, стал пылью под ногами, и небо сызнова над головой, как в детстве, как в первый день Творения, свободно.
6
Камлаев на секунду задумывался о великих деньгах Нининого мужа (тот был феноменальный диагност стихийно пухнущего рынка, считавший быстрее компьютера, лелеявший в себе непогрешимое чутье на осцилляции обменных курсов: рубль дешевел за день в шесть раз — он успевал за день взять у огромного завода безналичные рубли, предназначавшиеся для расчета с другим промышленным левиафаном, перевести их в бенджамины франклины и тотчас же обратно, снять пену-разницу в три раза больше изначальной рублевой массы, на эту разницу купить пять тысяч пломбированных вагонов с ванадием и молибденом — по ценам внутреннего рынка — и, наконец, продать их на московской товарно-сырьевой на пару долларов дешевле международной лондонской цены — то есть не потратив ни единого чужого, клиентского рубля, обогатиться в…надцать раз за сутки алхимически), о том уровне женского думания, на котором значительны соображения выгоды: «ни в чем не нуждаться», «кормить и обеспечить детям достойное будущее». Плюс «романтическая» вытяжка из сериалов стран третьего мира, лоточной беллетристики и глянцевого мусора — бриллианты, Эйфель, монгольфьер, Мальдивы.
Не помышлять об этом вообще могут только шизоиды, птицы и дети; война за женщину — война экономическая, всех редкостно красивых, штучной выделки, девчонок разбирают сильнейшие, остальных — остальные. Эдисон и не думал инкриминировать корысть оранжерейным женщинам, которых муж всецело обеспечивает: все разговоры о «продажности» — всегда в пользу бедных и тех, кому нечего на этом рынке предложить. Звучит цинично, но это только если не держаться той банальности, что жизнь двоих — это такой совместный бой за то, чтоб уцелеть, продолжиться, поставив на ноги детеныша… вот где корысть, святая, чистая корысть — держаться и выстоять; в неравном пожизненном сражении с миром все средства хороши, и деньги тоже.
В нормальном классицизме, в пределах естества финансовая мощь — лишь маленькая часть твоих усилий обрести совместное бессмертие… а то, что человек становится затерянным ингредиентом раствора денег, что инструмент и цель меняются местами, — это уже другой вопрос… так опиаты колют в разных целях, в разных — берутся за топор убийцы и строители собора.
Естественный отбор неотделим от отбора сердечного, инстинкт — от божественной искры; есть люди, что довольствуются подножным кормом «взвешенного выбора» и сердце в которых молчит, в конце концов, есть те, которых мамино «пора» выталкивает замуж за ближайшего мужчинку, «надежного», «порядочного», «перспективного» — «давай-давай, если не хочешь остаться старой девой»… и повели, как телку за рога, исполнить женское предназначение, без африканской страсти, без «полета», и ничего, и счастлива, без всяких оговорок, — варить борщи, растить ребенка… страсть — глупость, страсть для молодых, какой-то «секс» еще придумали, другое появляется, несгибаемо-прочное — вот материнская любовь, для нее и «надежного» хватит.
Вот Нину пробирала дрожь при мысли о такой судьбе, о женщинах, идущих за мужчину уже от безысходности, автоматически, согласно «биологическим часам»: она так не могла, ей это и не нужно было, не улыбалось, не грозило. Принять или отторгнуть человека, нутром, на слух, как чистую или фальшивую октаву, любить всем сердцем, в остальном довериться судьбе — таким было ее простое правило, устройство, склад, природа. Возник вот этот человек — с диковинно устроенным умом — процессором неслыханно высокой частоты, с огромной пробивающей силой, с чудовищной прибавочной стоимостью, смешной, нелепый, искренний, пугающе серьезный в своем чувстве к Нине, на редкость ироничный по отношению к себе, торговавший гробами, Священным Писанием, деньгами, нефтью, смешно об этом всем рассказывавший ей — как он скупал по стройкам за копейки катушки медной проволоки и штамповал «лечебные» браслеты из красноватого металла: «спрос запредельный был, как раз на волне Кашпировского, вы воду в трехлитровых банках как? не заряжали?.. да ты признайся… заряжали все, миллионы дебилов вставали с петухами смотреть магические пассы в утреннем эфире, потом шли на вокзал, на рынок, на работу и каждый по дороге покупал мои браслеты», — и как-то сразу захотелось, неодолимо, взять его за нос, за уши, поцеловать вот в эти честные собачьи глаза, залезть к нему под свитер, стать близкой, как кожа, отдать свое лицо ему в ладони, впустить, дать в себе прорасти.
И деньги его приняла, как приняла бы звук от музыканта, раскопанный мусор — от Шлимана, гастрономическую пытку — от шеф-повара, пускай все сверстницы глядят с учтивой ненавистью: не упустила своего, вцепилась, заарканила, сыграла чистоту, загадку, преданность, как не исполнят в «Современнике», и нежится теперь в японской бочке, на Сардинии… ну как им объяснишь, убогим, что просто он, ее мужчина, работает с деньгами: хирург — с человеческим мясом, синоптик — с атмосферными фронтами, Курчатов — с атомным ковчегом?
Со смехом говорила, что за конкретной вещью, за шмоткой, за машиной, за первыми пятью нулями после цифры начинается «мучительный астрал», «деньги — самая близкая к метафизике вещь, а я — вся земная, норушка, мне там не согреться».
Муж постоянно находился там, в «астрале», по крайней мере — регулярно «отлетал». Едва ли это «пребывание в астрале» могло их разлучить, рассорить само по себе — нет, Нина понимала: мужчину надо отпускать — к его «карте мира», к его нотным станам, к его печатному станку, туда, где он будет один, без тебя, сливать и раздроблять активы, ловить бандитов, подниматься из окопов; одной любовью, без дела, сыт не будет, в свободном состоянии сладко только «людям ни о чем», мужчина пригвозжден, придавлен, пригнут к станку, бумаге, борозде порабощающим предназначением.
В его, углановских, особого покроя сутках было не 24 часа, а три-четыре будто бы десятилетия: не спал, обедал по три раза в день и ужинал по два с партнерами, людьми из министерств финансов, энергетики, тяжпрома, перетирая челюстями надолбы и доты упрямых неусыпных конкурентов и покупая у нищающей российской власти за копейки созвездия сталелитейных исполинов и горнодобывающих чудовищ; сильней всего влекла ханты-мансийская земля, которая хранила миллиарды тонн вонючей маслянистой дряни и за которую он воевал с соседом — Лелькиным Олегом. Вопрос был не в количестве совместно проживаемых часов — в конце концов, и Нина ценила одиночество, — а только в силе, интенсивности обмена в те общие минуты, когда ты скажешь «А», а он доканчивает фразу, когда вы ничего не говорите и раньше слов все совершенно понимаете.
7
Камлаев поселился в доме у Ордынских, с утра шел бродить по заповедному нехоженому лесу, увязать в буреломах; взошедшее солнце отвесно било меж ветвей, меж хвойных лап; колодцы прохлады под сводами крон чередовались с мощными столбами горячего света, одновременно нерушимо-прочными и невесомыми, бесплотными, насквозь проходимыми; она была до жути неразборчива, вселялась во все, дарила свой голос любой пернатой твари, хлестала, щелкала, звенела, переливалась по кустам, звала; все виделось и слышалось через нее и ею прирастало, ею полнилось… и влекся, шел сквозь чащу как на голос, проламывался, продирался по направлению к реке…
Спускался вниз, на пляж по переложенной древесными корнями тропке — на пляж, заполоненный местной обоеполой ребятней, белоголовыми и загорелыми до черноты худыми лягушатами, которые сигали в воду с веревочной тарзанки или просто с ветвей раскидистых прибрежных ветел, и ни секунды, кажется, вода не расстилалась выглаженно, ровно; дробилось, билось отражение солнца, взмывая, рассыпаясь с визгом бешеными брызгами; вот каждое мгновение новый маленький пловец пронзал нырком едва восстановившуюся гладь.
Камлаев занимал позицию между стволов подлеска и поджидал явления Нины, в сопровождении «Финвала» или без. Масштабы, степень, график Нининого одиночества Камлаев мог представить довольно близко к истине, сличив с аналогичным распорядком собственной сестры: и Лелькин Олег, и Угланов теперь не вылезали из Кремля, не до семьи им стало — «семибанкирщина» делила государственную собственность на девять жизней вперед, и в этом состояло поражение Угланова — формальная, официальная вот, что ли, сторона углановского поражения: пал жертвой собственного гения, изобретя методу захвата государственных месторождений и заводов — «залоговый аукцион», открыв себе и конкурентам коридор для баснословного, в космической системе мер, обогащения. «Финвал» кредитовал правительство и брал в обеспечение долга акции природных монополий — черное золото и никель русских недр; власть не вернет кредита, нечем ей, Угланов выставит бумаги на торги и купит за гроши сам у себя через панамскую «прокладку», а дальше поведется затяжная, ползучая война за безраздельное господство над бездонной скважиной, за превращение блокирующих в контрольные… Закабаленный этой свистопляской, слиянием, поглощением — творец событий исторических масштабов, но не хозяин собственному счастью, — Угланов не заметит первых недомолвок, поджатых губ, неслышимо начавшейся взаимной глухоты… давно уже не видел, что творится с Ниной, и сам тут будто стал «пустышкой» и «прокладкой», на которую временно «оформили» Нину.
Ушел туда, где не бывает лиц, желаний, слабостей, грехов, безделья, безалаберности, где все стянулось в фокус функции — догнать и перегнать, купить и воцариться, так что однажды Нина мужа не узнала — знакомый до прожилок, каждой черточкой, он так смотрел, как будто мертвецом проплыл под толстой коркой льда, как будто сквозь страницы Книги Госкомимущества, которую делили, — осмотр производился в солнечную тихую погоду при естественном освещении.
Одно к одному все ложилось, лилось водой на мельницу Камлаева, а впрочем, этого не объяснишь, не взвесишь, не уловишь, — как женщина перестает хотеть быть законной женой одного и начинает — быть женой другого. Камлаев был знатный половой террорист-погубитель, но с Ниной это органическое свойство его не влияло ничуть, и не было в происходившем нисколько камлаевской силы и власти, а только то, что называется судьбой.
Она появлялась, ложилась на расстеленное полотенце, порой с книжкой или в «летных», как у пилота истребителя, наушниках; из своего укрытия воровски выхаживал, выглаживал ее худые щиколотки, ее облитые солнечным лаком голени и ляжки, ее мерцающий приставшими песчинками живот, с какой-то небывалой радостной мукой скользил по плавному обводу, скатывался к талии, стекал в пупок какой-то каплей, ловил перелив позвонков, движение руки, несущей к вдумчивым губам бутылку минеральной или короткую и толстую Gitanes… ей не было нужды ходить на семинары, штудировать инструкции по пользованию телом, ногами, животом, сдавать зачеты так, как это делает весь мир, колонии англоязычных стран, привыкнув относиться к сексу с максимальной серьезностью, то есть как к учебе с получением отметок «отлично», «так себе» и «неуд» — в каждом движении она была равна самой себе, как равен ребенок, который беззастенчиво разгуливает нагишом в присутствии взрослых любого вероисповедания и пола.
Камлаев верил: даже Ориген бы и разные другие христианские аскеты поколебались в своем стойком отвращении к жизни плоти при виде этой девочки, введенные в неравновесие, но не повергнутые в свинское, во грех; он никогда еще не богохульствовал так смело и ответственно; физическая тяга покрывалась ни разу не испытанной доселе смирительной нежностью и страхом повредить: так, не имея навыка, боишься притронуться к еще не нареченному младенцу… это другие, вон Угланов, обучены переворачивать дите со спинки на живот, как блин на сковородке.
Надолго замирал, затянутый неодолимо в благодарное немое созерцание ее свободного лица, которое, с полуопущенными веками, разглаженное, смирное и отрешенное, влеклось, тянулось вслед за звуками, что шли в наилучшем и строгом порядке, звенели и журчали родниковым bach в напяленных наушниках, и обращалось внутрь себя, порабощенное свободно, безусильно воспаряющими вверх тонами фигурации, подхваченное звуком и пребывающее в нем, как в колыбели, в борозде, в утробе… без лживой мимики, без лицемерного переживания, передавая дальше, в атмосферу бережно и свято… Нет, кто-то явно тут воспользовался мыслью, догадкой Камлаева о Нине, как выкройкой, как меркой, как формой для отливки.
Не выдержал и вышел из засады — пустышка, перекати-поле без дома, без семьи, не знающий, пригоден ли для полной близости, очажной, навсегдашней, целиком, — она приподнялась и села, обхватив колени, учтиво обратив к Камлаеву лицо.
— Скажите, Нина, вам никто не говорил, — он ринулся напропалую, — у вас лицо такое, что хочется кормить вас мармеладом всю оставшуюся жизнь?