Широкий Дол Грегори Филиппа
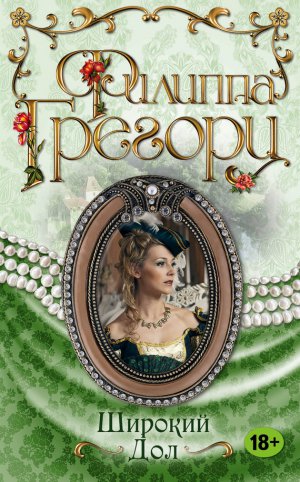
– Почти каждый день, – храбро соврала я.
– А я писала каждую неделю, – сказала Селия. – Куда же могли пропасть наши письма?
Джон не сводил с меня глаз, похожих на твердые светлые камешки.
– Просто не могу себе представить. А ты, Беатрис?
– И я не могу, – кратко ответила я. – Может быть, доктор Роуз считал, что ты недостаточно здоров, чтобы получать письма из дома. Он же запретил все визиты к тебе, как ты, наверное, знаешь.
– Я догадывался, что должна быть какая-то причина того, почему мне никто не пишет и никто меня не навещает, – сказал Джон. Этот разговор напоминал мне поединок фехтовальщиков. Или какую-то бесконечную дуэль. Но я была слишком утомлена.
И я сдалась. Я была уже почти готова отказаться ото всех моих планов. И я, разумеется, страшно хотела, чтобы хоть один-единственный раз мне не нужно было контролировать каждый свой шаг.
– Прошу меня извинить, – сказала я, обращаясь к Селии. – Я что-то устала. Я, пожалуй, пойду к себе.
Я встала, и лакей бросился отодвигать мой стул. Гарри поднялся и предложил мне руку, чтобы проводить меня до двери, ведущей в западное крыло.
– Это ведь не из-за того, что Селия села на твое место? – спросил он, в очередной раз поражая меня своей недогадливостью. Но я слишком устала даже для того, чтобы сделать первый выстрел в этом дурацком сражении из-за места за столом. Мне хватило и того, что мой муж, посмотрев мне в лицо своим опытным взглядом врача, увидел в моем лице признаки скорой смерти.
– Нет, дело совсем не в месте за столом, – устало сказала я. – Селия может сидеть на этом чертовом стуле хоть всю ночь, если ей так нравится. – И я, отвернувшись от него, поспешно скользнула в дверь, ведущую в западное крыло. Люси раздела меня, и я сразу же ее отпустила. Затем я встала, взяла с туалетного столика ключ и заперла дверь спальни. И еще на всякий случай подставила под дверную ручку стул, чтобы дверь уж точно нельзя было открыть. И лишь после этого я рухнула на подушку и заснула так, словно хотела никогда больше не просыпаться.
Глава восемнадцатая
Но проснуться мне все же пришлось. Всегда были дела, которые нужно сделать, и никто, кроме меня, их сделать не мог. Мне пришлось не только проснуться, но и одеться, и сойти вниз к завтраку, и сесть напротив Джона. И Селия по-прежнему сидела в торце стола, а Гарри, улыбаясь, напротив, и они то и дело обменивались всякими глупыми замечаниями. Затем мне пришлось пойти к себе в кабинет, выдвинуть ящик, где хранились счета, разложить их перед собой и попытаться решить очередную финансовую головоломку. В итоге у меня ужасно заболела голова, поскольку эти счета казались мне трясиной каких-то бесконечных требований, и я никак не могла понять, как мы в эту трясину угодили и как нам теперь оттуда выбраться.
Первые, достаточно простые долги перед мистером Льюэлином были мне вполне ясны. Но потом пришла непогода, которую так плохо перенесли овцы. Затем коровы подцепили какую-то заразу, и многие телята родились мертвыми. Так что я взяла заем у наших банкиров под несколько новых пшеничных полей. Но этих денег нам не хватило, и я заложила кое-какие пограничные с Хейверингами земли. Но выплаты процентов за этот заем оказались для нас слишком тяжелы. Я все занимала и занимала под будущий урожай и молила Бога, чтобы этот урожай пролился на нас поистине золотым дождем и мне больше не нужно было отдавать бесконечные долги. Я молила Бога, чтобы наши амбары доверху наполнились зерном и его было бы так много, чтобы я могла продавать, продавать и продавать без конца, чтобы все эти долги исчезли, словно их никогда и не было. Я разложила перед собой счета, похожие на лоскутное одеяло, сшитое неумелой швеей, и судорожно вздохнула от охватившего меня беспокойства.
Я одна тащила эту тяжкую ношу. Я не осмеливалась признаться Гарри, что наш план по изменению права наследования привел нас к бесконечной веренице долгов, наползающих друг на друга. Я, правда, порой как бы между прочим упоминала, что мы взяли кредит под какое-то поле или под какую-то небольшую ферму, но я не могла рассказать Гарри, что занимаю, чтобы выплачивать проценты. А теперь я и вовсе занимала для того, чтобы платить жалованье, чтобы покупать семена, чтобы сдерживать ту страшную волну, которая грозила полным банкротством и уже лизала мне ноги. Я не осмеливалась признаться Гарри и чувствовала себя ужасно одинокой. Тот страшноватый план, который Ральф когда-то хотел использовать против Гарри – постепенное съедание его доходов и быстрое истаивание его состояния, – я испытала на себе. В моей великой игре во имя обладания этой землей – в моих мечтах увидеть сына в кресле сквайра Широкого Дола – я все поставила на урожай, который еще только, может быть, будет получен.
И если он не будет получен, я проиграла.
А если я проиграла, то Гарри, Селия, Джон и дети падут под лавиной обрушившихся на нас долгов. Мы попросту исчезнем, как и все прочие банкроты. Если нам удастся спасти хоть что-то, мы сможем купить небольшой фермерский домик в Девоншире, или в Корнуолле, или даже в этой ужасной Шотландии, на родине Джона. Да где угодно, лишь бы земля была дешева, а цены на продукты невысоки. И никогда уже я, проснувшись утром, не увижу холмов Широкого Дола.
Никто с любовью не окликнет меня: «Мисс Беатрис!» Никто не станет называть Гарри «сквайром» так, словно это его имя. Мы будем новичками, переселенцами. И никто не будет знать, что наш род восходит к норманнам, что мы возделывали и охраняли одну и ту же землю несколько сотен лет. Там мы будем никем.
Я вздрогнула и вновь подтащила к себе пачку счетов. Те, что были от торговцев Чичестера, я оставляла без внимания. Только поставщикам провизии и самых необходимых для дома товаров я действительно регулярно платила. Мне не хотелось, чтобы Селия узнала от поварихи или от горничной, что торговцы отказываются что-то поставлять в усадьбу, пока их счета не будут оплачены. Так что эти счета – целую пачку – надо было оплатить немедленно. Кроме того, имелась еще целая куча долговых расписок от тех кредиторов, которым нужно было заплатить в течение ближайшего месяца. Например, мистеру Льюэлину, нашему банку, лондонскому ростовщику и нашему солиситору, который одолжил нам несколько сотен фунтов, когда мне очень нужны были наличные для покупки посевного зерна. Эти счета тоже нужно было оплатить побыстрее. Вместе с ними я держала также долговую расписку от торговца зерном, которому мы задолжали несколько сотен гиней за овес для лошадей, который сами не выращивали, и расписку от торговца сеном. Теперь, когда у нас стало гораздо меньше сенокосных лугов, я была вынуждена покупать сено, и это действительно оказалось намного дороже, чем я думала. Наверное, имело бы смысл несколько уменьшить количество лошадей на конюшне – многие животные как рабочие не использовались, – но я прекрасно знала: первая же лошадь из Широкого Дола, оказавшаяся на рынке, будет воспринята как знак того, что я их распродаю, и тогда все кредиторы разом кинутся к нам со своими долговыми расписками, как стая голодных волков, опасаясь, что я могу самым бесчестным образом оставить долги неоплаченными. Каждый будет стремиться немедленно вернуть свои, пусть даже небольшие деньги, и Широкий Дол попросту истечет кровью, получив сотни мелких ран от этих безжалостных укусов.
Каждая такая маленькая расписка добавляла веса той общей сумме, которую я никак не могла выплатить. У меня попросту не было денег. Я чувствовала, что кольцо кредиторов смыкается все плотней, и понимала, что должна от них освободиться и освободить от них Широкий Дол, но не знала, как это сделать.
Я отодвинула последнюю кучку счетов – те, которые можно было пока отложить. Это были счета виноторговцев, которые прекрасно знали, что у нас в погребах вина на сумму, значительно превосходящую наш теперешний долг, так что были весьма осторожны в своих требованиях. Счета от кузнеца, который работал в поместье с тех пор, как числился на кузне учеником; от возчиков, которым до сих пор в течение многих лет платили сразу; от сапожника, от плотника, чинившего ворота, от шорника – все эти маленькие люди могли только просить, чтобы я оплатила их счета, но ничего не могли против меня сделать. Эта пачка счетов была поистине огромной, но все они были на маленькие суммы. Если мне не удастся их выплатить, это может разорить мелких торговцев и ремесленников, но сами они разорить меня не смогут. Впрочем, они могут и подождать. Точнее, им придется подождать.
Итак, получились три аккуратные пачки. Далее этого дело не пошло, и я снова убрала счета в ящик. Мне совершенно не нужны были лишние напоминания о том, что я утопаю в долгах. Я все время помнила об этом; я каждое утро, просыпаясь, представляла себе груду долговых расписок, и ночи мои были полны странных и страшных снов о людях с городским выговором, которые требовали: «Подпишите здесь. И вот здесь», и далее следовала потеря Широкого Дола. Я с нетерпением задвинула ящик. У меня не было никого, кто мог бы оказать мне помощь; я осталась один на один с этой тяжкой ношей. Единственное, на что я могла надеяться, это древние магические ветры Широкого Дола. Ах, если бы они снова стали для меня попутными! Если бы тот теплый ветер, что дует от горячего солнца, подарил мне небывалый урожай, сделав землю золотистой от созревшей пшеницы, и освободил бы меня от бремени долгов!
Я позвонила и велела одеть Ричарда для прогулки и принести ко мне на конюшенный двор. Я не в силах была оставаться в доме. Эта земля больше не любила меня, я не могла показывать Ричарду деревья, холмы и поля с той же уверенностью, с какой показывал их мне мой отец, но выехать из дому я по-прежнему могла. Это все еще была моя земля. Я все еще могла спастись от неодолимых, неопровержимых листков со счетами, просто выехав прогуляться с маленьким сыном под чистым голубым небом.
Ричард, как обычно, сиял улыбкой. Из всех детей, каких я когда-либо встречала, он обладал самым чудесным характером, но и самым проказливым, должна признаться. В том возрасте, когда Джулия любила, сидя в теплой колыбельке, хватать себя за пальчики на ногах и подолгу рассматривать их, воркуя от радости при виде своей бабушки и Селии, Ричард то и дело вставал то на ножки, то на четвереньки, что-то хватал своими пухлыми ручками и все время пытался выбраться на свободу. Джулия могла играть с какой-нибудь куколкой часами, а Ричард мгновенно швырял игрушку на пол, а потом ревел, требуя, чтобы ее подняли и вернули ему. И если вы давали слабину и действительно поднимали игрушку, он тут же снова ее бросал, и снова, и снова. Только слуга, получающий отдельную плату, мог бы без конца возвращать Ричарду игрушку; малыш швырял ее на пол до тех пор, пока не уставал. И тогда его начинало клонить ко сну, темные ресницы опускались на нежные щечки, и он снова становился на редкость милым и обаятельным ребенком. Это и впрямь был самый очаровательный и самый проказливый ребенок на свете. И он меня обожал.
Я подхватила сынишку, вырвавшегося из рук няни, крепко обняла и улыбнулась, услышав его радостное воркование при виде моего внезапного появления. Я подняла мальчика и, как только миссис Остин, его няня, уселась, передала его ей и внимательно посмотрела, крепко ли она его держит. Затем я сунула погремушку в его жадную цепкую ручонку и взлетела на сиденье рядом с ними.
Соррел рысцой тронулся по аллее. Ричард радостно махал погремушкой деревьям и сменяющим друг друга полосам тени и солнечного света. К серебряной погремушке были приделаны маленькие колокольчики, звон которых то и дело заставлял Соррела вскидывать голову и шагать быстрее. Я проехала крупной рысью по аллее и свернула на лондонскую дорогу. Мимо как раз проезжал почтовый дилижанс, окутанный клубами пыли, и Ричард помахал пассажирам, сидящим на крыше, и какой-то мужчина помахал ему в ответ. Затем я развернула двуколку, и мы поехали домой. Совсем недолгая прогулка, но когда ты любишь своего ребенка, твой мир сжимается до размера его маленьких радостей и его маленьких островков покоя. Так было и у меня с Ричардом. И если бы я не любила его ни за что другое, то любила бы его хотя бы за одно лишь это.
Мы уже подъезжали к повороту на нашу аллею, когда Ричард вдруг стал задыхаться. Из его открытого рта вырывались какие-то странные звуки, совсем не похожие на обычный кашель. Казалось, его тошнит. Но ничего подобного я раньше никогда не слышала. Я натянула вожжи, и Соррел резко остановился. Мы переглянулись с миссис Остин, которая пребывала в такой же растерянности, как и я. Потом она, словно догадавшись, выхватила погремушку у мальчика из рук, и оказалось, что там не хватает одного крошечного серебряного колокольчика. Ричард нечаянно его проглотил и теперь задыхался; ему никак не удавалось набрать в легкие воздуха.
Двуколка качнулась, когда я, положив сына к себе на колени лицом вниз, сильно ударила его по спине. Я и сама толком не знала, почему я так сделала. Потом я схватила его за ноги и, держа головой вниз, сильно встряхнула, смутно вспомнив, как после рождения он издавал похожие негромкие, чуть задыхающиеся звуки.
Мальчик снова закашлялся так, словно его вот-вот вырвет, но изо рта у него ничего не выпало. Я почти швырнула его на руки няньке и, стегнув Соррела кнутом, закричала:
– Где доктор МакЭндрю?
– В деревне, вместе с леди Лейси, – испуганно пролепетала она, прижимая к себе Ричарда.
Звуки, которые теперь вырывались из его груди, стали еще более болезненными и более страшными для моего слуха. Его тошнило, он задыхался, и его попытки вздохнуть становились все слабее. Ему не хватало воздуха. Он умирал – умирал в моей двуколке, на земле Широкого Дола, чудесным солнечным утром!
Я снова ударила Соррела, и жеребец, опустив голову, перешел с благородной рыси на дикий галоп. Двуколка подскакивала и подпрыгивала, точно лодка на вздувшейся от паводка реке, но я продолжала гнать коня, ни на что не обращая внимания. Ветер хлестал мне в лицо, я едва видела дорогу перед собой. Но, бросая время от времени взгляд на моего сына, я понимала, что ни глотка бьющего нам навстречу потока воздуха не проникает в его маленькие легкие. Его вздохи становились все слабее, все тише, он уже почти не кашлял, и губы у него посинели.
– Где именно в деревне? – прокричала я, перекрывая грохот конских копыт и скрип несущейся во весь опор двуколки.
– У викария, должно быть! – взвизгнула миссис Остин. Лицо у нее было почти таким же белым, как воротничок ее платья. Она прижимала к себе Ричарда, боясь за него, но и сама пребывала в ужасе от этой бешеной скачки.
Когда мы влетели в деревню, я уже ничего не видела перед собой, только услышала, как отлетела в сторону из-под колес чья-то курица со сломанной шеей. Я так резко затормозила у дома викария, что конь буквально сел на задние ноги, а я, швырнув вожжи миссис Остин, выхватила у нее Ричарда и бросилась к дому. Было уже слишком поздно. Слишком поздно: он больше уже и не пытался вздохнуть.
Я подбежала по садовой дорожке к передней двери, и тельце сына безжизненно обвисло у меня на руках, а веки у него были такими же синими, как губы, и маленькая грудка казалась совершенно неподвижной. Дверь оказалась открыта, и когда я туда вбежала, доктор Пиерс поднял ко мне свое изумленное лицо.
– Где Джон? – спросила я.
– В моем кабинете, – ответил викарий. – А что случилось?..
Я, не отвечая, рывком распахнула дверь в кабинет и едва заметила Селию, миссис Мерри и старую Марджери Томпсон, которые склонились над столом. Я видела только Джона.
– Джон… – сказала я, протягивая обмякшее тельце сына.
Джон к Ричарду никогда не прикасался, хотя теперь мальчику был уже почти год, но сейчас он буквально выхватил мальчика у меня из рук, сразу увидев и синие веки, и синие губы.
Ричард казался совершенно безжизненным. Когда Джон положил его на стол, его головка стукнула по столешнице с таким звуком, словно он уже превратился в труп.
Достав из жилетного кармашка маленький серебряный ножичек, который он всегда носил с собой, Джон выдохнул:
– Что?
– Серебряный колокольчик от погремушки, – сказала я.
– Крючок для застегивания перчаток, – приказал мой муж Селии, которая стояла с ним рядом, не сводя глаз с лица моего сына; затем он одной рукой взял Ричарда за подбородок и с силой дернул, как бы выдвигая нижнюю челюсть вперед, так что нежная кожа на шее у мальчика натянулась. А потом… потом он вскрыл Ричарду горло.
Колени подо мной подогнулись, и я рухнула в кресло. На один лишь безумный миг мне показалось, что Джон убил моего сына, но потом я увидела, как он сует мундштук от одной из курительных трубок доктора Пиерса в маленькое, только что прорезанное в дыхательном горле отверстие, и услышала хриплое дыхание. Ричард обрел способность дышать!
Я уронила голову на руки, не в силах смотреть, потом все же сквозь дырочку меж пальцами увидела, что Джон внимательно всматривается в рот Ричарда, а его правая рука повелительным, как у настоящего эдинбургского хирурга, жестом протянута в сторону Селии.
Она, порывшись в своем ридикюле, вытащила оттуда крючок для застегивания перчаток с перламутровой ручкой, а потом еще маленький крючок для вязания. Она положила первый крючок в раскрытую ладонь Джона, но никуда не отошла. Без малейших колебаний она обеими руками взяла бледное личико Ричарда и устроила его так, чтобы трубочный мундштук ничем не закрывало и не забивало. Губы мальчика уже снова порозовели. Джон, низко склонившись над ним, пытался извлечь проглоченный колокольчик крючком для перчаток. У меня за спиной в дверном проеме вдруг резко скрипнули башмаки доктора Пиерса – это он от волнения переступил с ноги на ногу.
– Слишком велик, – сказал Джон, выпрямляясь. – Что еще есть?
Не говоря ни слова, Селия вынула одну руку из-под головы Ричарда и предложила Джону вязальный крючок. Он улыбнулся, не отрывая глаз от моего сына, и сказал:
– Да, это отлично подойдет.
Все в комнате затаили дыхание. Миссис Мерри, которая когда-то насмехалась над «молодым умником», получившим образование в Эдинбурге, Марджери Томпсон, деревенская сплетница, доктор Пиерс и я – все молчали, когда Джон погрузил тонкий серебряный крючок в крошечное горлышко Ричарда. Казалось, только он и Селия не замечают, какое чудовищное напряжение царит в залитом солнцем кабинете.
Послышалось еле слышное, почти неразличимое звяканье – это колокольчик зацепился за молочные зубки Ричарда, когда Джон его вытаскивал. А потом мы увидели, что колокольчик висит на конце серебряного крючка.
– Готово, – сказал Джон и, вытащив из кармана свой шелковый носовой платок, ловко извлек мундштук из горлышка ребенка и перебинтовал ему шейку платком. Потом он перевернул мальчика на животик прямо на твердой столешнице, и Ричарда вырвало. Он закашлялся жутким лающим кашлем и хрипло заплакал.
– Можно мне? – спросила Селия, и Джон кивнул, а она взяла моего сына на руки и положила его головку себе на плечо. Она поглаживала его по спинке и шептала ему всякие нежные слова, пока он плакал от испуга и боли в горле. А Селия прижималась щекой к его кудрявым волосам, и лицо ее сияло гордостью и любовью, особенно когда она смотрела на Джона. В эти мгновения в ее глазах можно было прочесть все, что у нее на сердце.
– Вы держались молодцом, – сказал он, словно разделяя с нею успех. – К сожалению, крючок для перчаток оказался великоват. Мы бы потеряли мальчика, если бы вам не пришло в голову воспользоваться вязальным крючком.
– Это вы держались молодцом! – сказала Селия, глядя на него с нескрываемой любовью. – Ваша рука была тверда, как кремень. Вы спасли Ричарду жизнь.
– У вас не найдется настойки опия? – между тем спросил Джон у доктора Пиерса, не отрывая взгляда от сияющего лица Селии.
– Нет, этого у меня нет. Есть только немного бренди, – сказал викарий, как и все остальные, не сводя глаз с этих двоих.
Джон поморщился.
– Ну ладно, пусть хоть бренди. Мальчику необходимо что-нибудь дать. Он пережил очень неприятный шок.
Он взял Ричарда у Селии с такой нежностью, словно мальчик и впрямь был его сыном, и поднес стакан с бренди к его губам, заставляя сделать хоть маленький глоток. Но Ричард извивался и уже открыл было рот, собираясь зареветь, но как раз в этот момент Джон ловко влил ему в рот небольшое количество бренди. Как ни странно, малыш почти сразу успокоился. Селия снова взяла его на руки, и он, положив головку ей на плечо, заснул.
А Селия и Джон еще одно краткое волшебное мгновение смотрели друг на друга. Но вскоре волшебство было нарушено: Джон повернулся ко мне и холодно сказал:
– У тебя тоже был шок, Беатрис. Может быть, выпьешь бокал ратафии? Или порто?
– Нет, – я с тупым видом покачала головой. – Мне ничего не нужно.
– Вы ведь, наверно, решили, что уже потеряли мальчика? – спросила миссис Мерри. – Бедняжка, он весь прямо посинел!
– Да! – с отчаянием сказала я. – Мне действительно показалось, что я потеряла его, нашего будущего сквайра. И тогда все, все оказалось бы совершенно напрасным!
Воцарилась абсолютная тишина. Все с потрясенными лицами смотрели только на меня. Все. Словно я – лучший экспонат на выставке уродцев.
– Ты думала, что потеряла будущего сквайра? – недоверчиво поинтересовался Джон. – Твой сын умирал у тебя на руках, а ты думала, что твои труды пропали даром?
– Да, – сказала я. И уставилась в пустой камин. Мне было все равно, что они обо мне подумают. Мне вообще все стало безразлично. – Если бы он умер, – монотонно продолжала я, – что стало бы с Широким Долом? Ведь право наследования переписано на них обоих. Я все поставила на карту ради них обоих. И потом, мне действительно показалось, что Ричард умер!
И после этих слов я не выдержала. Я уронила лицо на руки, и плечи мои затряслись от беззвучных рыданий. Но никто не положил руку мне на плечо, чтобы меня утешить. Никто не сказал мне ни одного доброго слова. Первой заговорила Селия.
– У тебя просто шок, – сказала она, но даже ее голос звучал холодно. – Там, возле дома, стоит моя карета. Ты можешь в ней вернуться домой. А меня Джон отвезет на твоей двуколке. Поезжай домой, Беатрис, и уложи Ричарда. А потом и сама ложись и поспи. Сейчас ты просто не понимаешь, что говоришь. Ты испытала слишком сильное потрясение.
Я позволила Селии проводить меня до кареты. Затем она помогла сесть миссис Остин, подала ей Ричарда и отступила в сторону. Кучер Бен повез меня домой, и мой сын, теплый и сонный, лежал у меня на руках.
Когда мимо окон кареты замелькали деревья подъездной аллеи, такие зеленые в лучах апрельского солнца, я припомнила тот взгляд, которым обменялись Селия и Джон, когда он хвалил ее за сообразительность, а она его – за мастерство. А еще я вспомнила, ее слова: «Рука ваша была тверда, как кремень»; и эти слова, конечно же, предназначались только для его ушей. Она ведь не просто хвалила его, она восстанавливала его в звании первоклассного врача. Она давала понять всем в этой притихшей комнате – а значит, и всей деревне, и всему окружающему эту деревню миру, – что доктор МакЭндрю по-прежнему является самым лучшим врачом, какого когда-либо знало наше графство. Она вернула Джону его прежнее место в обществе. И я прекрасно знала, что сам он никогда бы не смог этого сделать. Ну, а я поклялась, что никогда этого для него не сделаю. Зато Селия с помощью всего нескольких слов сумела все расставить по местам.
Все в Широком Доле, возможно, и думали, что в смерти моей матери виноваты усталость и пьянство Джона, но история о том, как он невольно убил мою мать, вскоре будет заменена историей о том, как я примчалась за помощью именно к нему, к Джону МакЭндрю, с умирающим ребенком на руках. В деревне еще долго будут рассказывать, что я гнала коня, как дьяволица, а потом бежала через весь сад и все спрашивала, где доктор МакЭндрю, именно «доктор», а не «мистер». А потом Джон, не поддаваясь панике, быстро, умело, твердой рукой спас мальчику жизнь.
Карета остановилась у парадного крыльца, и Страйд, открыв дверцу, остолбенел, увидев внутри меня, а не Селию.
– Леди Лейси приедет позже на моей двуколке, – сказала я, хотя для этого мне пришлось сделать над собой немалое усилие. – Произошел несчастный случай. Пожалуйста, скажите, чтобы мне в спальню принесли кофе. И пусть меня потом никто не беспокоит.
Страйд кивнул, как всегда бесстрастно, и проводил меня в холл. Я устало двинулась в западное крыло, не дожидаясь, когда за мной последует няня Ричарда. Ничего, она сама догадается, что мальчика нужно уложить в колыбель и посидеть возле него, пока он будет спать. Он и без того не слишком нуждался в моей заботе, а теперь между нами словно возник некий барьер. Собственно, сегодня я впервые сказала вслух то, что сама знала давно – что мой сын, мой чудесный сын, важен для меня прежде всего как наследник Широкого Дола.
Мне, возможно, очень нравилось смотреть, какая чудесная тень от длинных ресниц ложится на его пухлые щечки, или расчесывать его кудряшки, или вдыхать его сладкий, младенческий запах. Но в ту минуту, когда он умирал, я в первую очередь думала о Широком Доле.
Широкий Дол. Временами мне казалось, что эта земля окончательно свела меня с ума. Я захлопнула дверь своей спальни и с тяжким вздохом прислонилась к ней спиной. Я слишком устала. Все это время у меня не было возможности остановиться и подумать, сообразить, что же я делаю. Я слишком устала, чтобы удивиться, что же со мной стало, если судьба поместья заботит меня куда больше, чем жизнь и смерть моего дорогого, моего любимого сына.
Джон оставил возле моей кровати бутылочку с настойкой опия. Я тупо посмотрела на нее, не испытывая ни угрозы, ни страха, отмерила две капли в стакан воды и медленно выпила, наслаждаясь лекарством, точно сладким ликером. Затем легла в постель и почти сразу заснула. Снов я не боялась. Реальная жизнь казалась мне страшнее, чем все то, с чем я могу встретиться во сне. Впрочем, я предпочла бы вовсе не просыпаться.
И утром очень пожалела, что все-таки проснулась. Все вокруг было окутано серым туманом. Я даже холмов из своего окна не могла разглядеть. Не было видно ни леса, ни даже дорожек сада. Весь мир, казалось, утонул в мягком, заглушавшем все звуки тумане. Люси, которая, как обычно, принесла мне чашку шоколада, обнаружила, что дверь заперта, и окликнула меня: «Мисс Беатрис, у вас все в порядке?» После этого, конечно, пришлось вылезти из постели и босиком пройти по холодному полу, чтобы открыть ей дверь.
В глазах Люси так и светилось любопытство, но в них не было ни капли сочувствия, когда она смотрела, как я, дрожа, прыгаю обратно в постель и до подбородка укрываюсь одеялом.
– Пришлите с кухни служанку, пусть растопит у меня камин, – раздраженно бросила я. – Я случайно заперла дверь, совершенно позабыв, что утром она не сможет войти. Тут окоченеть можно.
– А ее нет, – даже не пытаясь извиниться, сказала Люси. – Она в деревню ушла. И вообще в доме почти никого нет, так что некому у вас камин растопить. Остались только старшие слуги. Все остальные ушли.
Проклятый туман, влажный и холодный, казалось, начал заползать и ко мне в комнату. Я вынырнула из-под одеяла, взяла чашку с горячим шоколадом и с жадностью все выпила, но от этого мне теплее не стало.
– Ушли? – удивилась я. – Все ушли в деревню? Но зачем, Господи помилуй?
– Там похороны, – сказала Люси. Она подошла к гардеробу и вынула мое черное шелковое платье, которое я надевала по утрам, и стопку чистого, только что выглаженного белья.
– Чьи похороны? – спросила я. – Вы что-то загадками говорите, Люси. Положите белье и немедленно расскажите толком, что там случилось. И почему все слуги куда-то ушли, не спросив разрешения?
– Они вряд ли стали бы у вас разрешения спрашивать, – сказала она и послушно положила мое платье в ногах кровати, а белье разложила перед холодным очагом.
– Что это такое вы несете, Люси? – рассердилась я. – Да говорите же, в чем дело!
– А дело в том, что хоронят Беатрис Фосдайк! – заявила Люси. Теперь руки у нее были свободны, и она даже подбоченилась, словно бросая мне вызов. Во всяком случае, ничего уважительного в ее позе не было. Я сидела в постели и выглядела скорее как замерзший ребенок, чем как хозяйка большого поместья.
– Беа Фосдайк вовсе не умерла, – возразила я. – Она убежала в Портсмут.
– Нет, – сказала Люси, и глаза ее блеснули знанием того, чего не знала я. – Она действительно убежала в Портсмут. Да только убежала она навстречу собственному позору. Она думала, что найдет там работу в качестве модистки или продавщицы. Только никаких рекомендаций у нее не было, да она толком и не обучена была ничему такому. В общем, работу она найти не смогла и уже за первую неделю прожила все те деньги, что скопила себе на приданое. Жилье-то там дорогое, а знакомых у нее в городе не было, так что ее и тарелкой супа было угостить некому. Вскоре она совсем прожилась, тогда целых две недели собирала какашки.
– Что значит «какашки»? – спросила я. Я слушала ее рассказ, как страшную волшебную сказку, и противный холодок – да нет, это, конечно же, был просто туман! – все полз и полз у меня по спине. Я плотней закуталась в одеяло, но ледяной палец смертельного страха – а может, просто сквозняк? – коснулся моей шеи.
– А вы разве не знаете? – Люси посмотрела на меня с какой-то почти издевательской усмешкой. – Какашки – это собачье дерьмо. Ну, и человеческое тоже. Его сметают с улиц в сточные канавы, а потом сборщики какашек все это подбирают и продают.
Я с отвращением поставила чашку на прикроватный столик. К горлу подступила тошнота. И я, желая ее подавить, набросилась на Люси:
– Ей-богу, Люси! Что за гадости вы мне рассказываете с утра пораньше! И зачем, скажите на милость, кому-то все это покупать?
– Так продавцы книг этим кожу чистят, которую потом для переплетов используют, – сладким голосом пояснила Люси. И погладила лежавшую возле моей кровати книгу с переплетом из телячьей кожи. – Вы разве не знали, мисс Беатрис, что кожу делают гладкой и приятной на ощупь, втирая в нее человечье и собачье дерьмо? Потом, конечно, они все тщательно соскребают.
Я с отвращением посмотрела сперва на книгу, потом на Люси и сказала:
– Значит, Беатрис Фосдайк стала собирательницей какашек? Что ж, она поступила очень глупо, не вернувшись домой. У нас тут работы, конечно, мало, но даже те деньги, что платят в работном доме, все-таки лучше, чем такой заработок. Нет, она очень глупо поступила!
– Так ведь она на той работе и не удержалась, – сказала Люси. – Когда она ходила по улицам со своим мешком, какой-то джентльмен увидел ее и предложил ей шиллинг. Ну, чтобы она с ним пошла.
Я кивнула, удивленно расширив глаза, но ничего не сказала. Мне по-прежнему было очень холодно. Впрочем, в комнате действительно было холодно и сыро. Туман так и кипел за окнами и, принимая странные, похожие на призраков формы, словно наваливался на оконные рамы, пытаясь проникнуть внутрь.
– Она и пошла с ним, – продолжала Люси. – И со следующим тоже пошла. И еще. А потом отец Беатрис поехал в Портсмут ее искать. И нашел – возле гостиницы, где останавливаются почтовые дилижансы; она там поджидала мужчин, чтобы продать себя. Отец избил ее прямо посреди улицы, все лицо ей расквасил, а сам сел в дилижанс и уехал домой.
Я снова молча кивнула. Проклятый туман, точно огромное серое животное, так и терся о мои окна, и его холодное дыхание совсем заледенило воздух в комнате. Я никак не могла согреться, и мне совсем не хотелось слушать про эту мою тезку, деревенскую Беатрис.
– В общем, Беатрис вернулась в свое жилище и заняла у хозяйки пенни. Сказала, что ей надо веревку купить, чтобы свой дорожный сундучок перевязать. Мол, отец за ней приехал, и теперь она домой собирается и никогда больше свой дом не покинет.
И я, глядя на серый туман за окном, вдруг вспомнила Джайлса и рассказы о том, что его труп после принятого яда выгнулся дугой, как тетива лука; Джайлс ведь тоже убил себя, потому что не хотел идти ни в работный дом, ни в богадельню.
– Она повесилась? – спросила я. Мне хотелось, чтобы Люси поскорее завершила свой рассказ. Хотелось разрушить те кошмарные чары, которыми опутал меня ее певучий, но исполненный затаенной злобы голос.
– Повесилась, – эхом откликнулась Люси. – Сняли ее, конечно, и домой привезли, да только лежать на церковном дворе ей нельзя. Придется ее хоронить за церковной оградой. Рядом с Джайлсом.
– Она поступила очень глупо, – твердо повторила я. – Она могла бы вернуться домой. Никто в Широком Доле не собирает дерьмо. Никто не продает себя за шиллинг чужим мужчинам. Ей следовало вернуться домой.
– Ага, вот только возвращаться она ни за что не хотела! – сказала Люси. И я снова почувствовала укол леденящего страха, с такой странной интонацией она это сказала. – Она бы никогда в Широкий Дол не вернулась. Говорила, что не желает ходить с вами, мисс Беатрис, по одной земле и одним с вами воздухом дышать! Говорила, что лучше умрет, чем станет на вашей земле жить.
У меня перехватило дыхание. Я посмотрела на Люси. Беа Фосдайк, моя ровесница, девушка, которая получила мое имя при крещении в знак благодарности моим родителям. Неужели она до такой степени меня ненавидела?
– Но почему, скажите на милость? – словно не веря, спросила я.
– Беа была девушкой Неда Хантера! – победоносно объявила Люси. – Никто этого не знал, но они были помолвлены и даже кольцами обменялись. И даже имена свои вырезали на том большом дубе, который вы приказали срубить. Когда Беатрис узнала, что Нед в тюрьме от лихорадки помер, то сразу сказала, что больше ни одной ночи на земле Широкого Дола спать не будет. Только теперь ей тут спать вечным сном.
Я снова легла на подушки, дрожа от холода. В комнате стоял пронизывающий холод, и шоколад ничуть меня не согрел, и камин мой некому было растопить. Все были против меня, даже мои собственные слуги! Все ушли, чтобы отдать последние почести какой-то проститутке, которая меня ненавидела!
– Вы можете идти, Люси, – сказала я и услышала в собственном голосе откровенную ненависть.
Она сделала книксен и направилась к двери. Но, уже взявшись за ручку, вдруг обернулась и сказала:
– А на той полоске земли, что тянется за церковной оградой, теперь уже две кучи камней. На могиле старого Джайлса… и Беатрис Фосдайк. У нас теперь целое кладбище самоубийц! Его в деревне так и называют. А еще – «уголок мисс Беатрис».
Туман, похоже, ухитрился спуститься по дымоходу и теперь крутящимся ядовитым облаком вливался в комнату; от него щипало глаза и горло; он вызывал у меня тошноту, противной липкой пленкой покрывая лицо и волосы. Я зарылась в белые кружевные подушки, натянув на голову одеяло, и в этой дружелюбной темноте громко взвыла от боли и ужаса. Потом затихла и, не выныривая наружу, стала ждать сна, такого же глубокого и черного, как сама смерть.
Этот туман продержался до Майского дня[29], целую долгую серую неделю. Я сказала Гарри и Селии, что туман вызывает у меня сильные головные боли. Впрочем, я действительно была бледна и действительно плохо себя чувствовала. Но Джон, услышав мои слова, лишь жестко на меня глянул и кивнул, словно все эти уловки давно уже были ему знакомы. В праздничный день утром туман рассеялся, но никакой радости в воздухе не чувствовалось. В деревне обычно ставили майский шест, выбирали королеву мая, устраивали танцы и футбольные состязания. Деревенские приносили мяч – надутый бычий пузырь – к границам церковного прихода и там, на лугу, сражались в футбол с людьми Хейверингов – пинали мяч ногами, пока не побеждала одна из команд, которой этот мяч и доставался. Но в этом году все было не так, все было как-то очень плохо.
Холодный серый туман, повисший над Сассексом, заставлял людей кашлять и кутаться, и одежда на них моментально пропитывалась влагой. В прошлом году королевой мая была Беатрис Фосдайк, и теперь в деревне болтали всякую чепуху насчет того, как плохо быть самой хорошенькой девушкой в деревне – мол, займешь место Беатрис, вот и не будет тебе счастья. Даже для игры в футбол не набралось достаточно молодых и крепких мужчин. Те, что числились в работном доме, не осмеливались далеко отходить от своих лачуг на тот случай, если Джон Брайен объявит очередной сбор. Все боялись упустить возможность заработать хотя бы несколько жалких грошей. Многие страдали от кашля и насморка – весна выдалась долгая и сырая, а еды явно недоставало. Кстати, наша деревенская команда почти всегда выигрывала в футбол, потому что в нее входили трое неразлучных друзей – Нед Хантер, Сэм Фростерли и Джон Тайэк. Теперь Нед умер, Сэм уплыл в Австралию навстречу собственной смерти, а Джон исчез, чувствуя себя навек опозоренным тем, что нарушил верность друзьям. Так что в деревне не было настроения ни для танцев, ни для борьбы, ни для флирта, ни для веселья.
Я с ужасом думала о том, что приближается мой день рождения, да еще в такую отвратительную погоду. Раньше я всегда воспринимала этот день как начало весны, однако в этом году погода больше походила на ноябрьскую. И все же день рождения наступил, и я медленно спустилась вниз, зная, что возле своей тарелки найду, конечно, подарки от Гарри и Селии, однако на крыльце уж точно не будет никаких подарков от деревенских детей, как это бывало раньше. И мне не будут с утра до вечера нести корзины и букеты весенних цветов. Теперь всем окончательно станет ясно, что «мисс Беатрис» утратила любовь Широкого Дола и стала изгоем на собственной земле.
Но оказалось, что все выглядит как прежде, и это было совершенно невероятно. Три подарка в ярких обертках лежали возле моей тарелки – от Гарри, от Селии и от Джона. И на боковом столике, как всегда, тоже лежала целая груда мелких подарочков. Именно в них я сразу и впилась взглядом. У меня даже невольно вырвался радостный вздох, почти вскрик, глаза защипало, и я поняла, что вот-вот разревусь на глазах у всех. Значит, весна все-таки наступила! И новое лето внесет свои поправки. И деревня меня простила. Они, видно, все-таки поняли то, что сама я никогда не осмеливалась им сказать. Что плуг, который, взрезая землю, невольно разрезает на куски жабу, делает свою работу для того, чтобы посадить семя. Что коса, когда косит сено, совсем не хочет поранить зайчишку, она делает это невольно. Что утраты и смерти, горе и боль, которые терзали деревню всю эту ужасную холодную зиму и весну, – это все равно что родовые муки при рождении будущего; будущего моего сына, будущего этой деревни. И теперь этому будущему уже ничто не угрожает. Не знаю как, но они это поняли. Они, может, и отвернулись от меня на какое-то время, охваченные горем и ненавистью, но потом все же поняли меня!
Я улыбнулась, и на сердце у меня впервые стало легко. Впервые с того дня, когда Джон, глядя на меня, как на своего умирающего пациента, сказал, что за мной идет смерть. Первыми я развернула те подарки, что лежали возле моей тарелки. Гарри подарил мне хорошенькую брошку – золотую лошадку с бриллиантом-«звездочкой» во лбу. Селия – отрез очаровательного светло-серого шелка. «Ведь скоро, дорогая, нам уже не нужно будет соблюдать полный траур», – сказала она, целуя меня. Затем я развернула крошечный сверток – подарок Джона – и тут же снова скомкала обертку, пока Гарри и Селия не успели увидеть, что там. Там был пузырек с настойкой опия, на котором было написано: «Четыре капли каждые четыре часа». Чувствуя, что вся кровь отлила у меня от лица, я опустила голову над тарелкой, скрывая испуганный взгляд.
Джон прекрасно понимал, что я ищу спасения в мире снов. Как прекрасно понимал и то, что все это связано с моей тайной мечтой о смерти. Он понимал, что я тогда поверила ему, что я и сама знаю: за мной идет смерть и я готова встретиться с ней. И теперь он давал мне средство, дающее возможность поспешить навстречу смерти. Чтобы тот уголок за стеной церковного кладбища, где хоронят самоубийц, действительно стал «уголком мисс Беатрис».
Когда я, собравшись с силами, заставила себя поднять глаза, Джон смотрел прямо на меня, и его взгляд был ясен и насмешлив. Собственно, он просто следовал моему примеру. Когда он тщетно пытался бороться с пьянством, то моими стараниями повсюду, в каждом подходящем местечке, находил новую, еще покрытую холодной росой бутылку с несломленной печатью. Теперь я знала: каждую ночь у моей постели будет появляться такая бутылочка с настойкой опия. Этот молодой врач, который когда-то так любил меня, который постоянно предостерегал меня от злоупотребления этим опасным лекарством, теперь сам станет снабжать меня им, пока однажды я не выпью всю бутылку и не усну навеки.
Меня передернуло. И я быстро посмотрела в сторону маленького столика с грудой подарков.
– А это все из деревни! – восхищенно пояснила Селия. – Я так рада, Беатрис, так рада!
– Я тоже очень рада, – тихо сказала я. – Это была трудная зима для всех нас. И я очень рада, что она, наконец, позади.
Я подошла к столику и развернула первый маленький сверток. Как ни странно, все свертки были одинаково крохотные, не больше пробки от винной бутылки, и все подарки завернуты в одинаковую серую бумагу.
– Что бы это могло быть? – воскликнула Селия. И вскоре получила ответ на свой вопрос. Из бумаги выкатился кусочек кремня. Он был белый, и серые сколки указывали, где он был отбит. Это был кремень с общинной земли, куда деревенским теперь ходить запрещалось.
Я уронила кремешок на колени и потянулась за следующим свертком. В нем был еще один кремешок. Гарри что-то сердито воскликнул и, широким шагом подойдя к столику, стал разворачивать свертки, разрывая бумагу и швыряя обрывки на пол. Во всех были кусочки кремня. Вскоре у меня в подоле скопилась целая куча таких камешков. Я машинально их пересчитала. Их было столько же, сколько крестьянских домов на нашей земле. Вся деревня, все, даже самые бедные, арендаторы прислали мне в день рождения по кремню. Они не осмелились забросать меня камнями. Лишь однажды о борт моей двуколки ударился брошенный камень. Но они прислали мне полный подол камней, завернутых в красивую бумагу. Я резко встала, и камешки дождем посыпались на пол гостиной, тщательно убранной к праздничному завтраку, и загрохотали, точно чудовищный ледяной дождь. На лице Селии был отчетливо написан ужас. Джон смотрел на меня с откровенным любопытством. Гарри от ярости потерял дар речи.
– Клянусь Богом! – воскликнул он, наконец. – Да я войска в эту деревню введу! Это же оскорбление, сознательное, расчетливое оскорбление! Богом клянусь, этого я им не спущу!
Карие глаза Селии вдруг налились слезами, и она с неожиданной страстностью воскликнула:
– О, не надо так говорить! Это мы навлекли на Беатрис такие неприятности. Это наша вина. Я же видела, что крестьяне голодают, что их все сильней охватывают отчаяние и гнев, и все же я почти ничего не сделала, лишь попыталась чуточку облегчить жизнь самым бедным, чтобы они смогли хоть как-то пережить зиму. Я ни разу слова не сказала против вас, против того, что вы оба делаете. Но теперь я вижу, каковы результаты вашей деятельности. Мы все делали неправильно, Гарри! Мы совершенно неправильно поступали!
Я смотрела на Селию, надеясь, что на лице моем не отражается чувств, бушующих в моей душе. Всюду, куда бы я ни пошла, я, казалось, слышала эхо ее слов: все в Широком Доле делалось неправильно, преступно неправильно. Тогда как сама я считала – вынуждена была считать! – что все идет как надо. И теперь, с полусотней кремешков у моих ног, я могла лишь молча смотреть на Селию, упрекавшую себя за то, что позволила печали и горю обрушиться на мою землю, и на разъяренного Гарри. И, конечно, на Джона, который все это время не сводил с меня глаз.
– Один подарочек ты пропустила, – тихо напомнил он. – Это не камень, это просто корзиночка.
– Ой, да! – с надеждой воскликнула Селия. – Такая хорошенькая маленькая корзиночка! Деревенские дети такие часто плетут из тростника.
Я тупо смотрела на корзинку. Это, конечно же, работа Ральфа. Этого я и ждала. И теперь корзиночка стояла передо мной на столе, и я, глядя на нее потемневшими глазами, заметила, что ловкие пальцы Ральфа ни на йоту не утратили былого мастерства, даже если сам он лишился возможности ходить, бегать и прыгать. Корзиночка была сплетена безупречно. Он не пожалел времени и труда, чтобы эта очередная угроза внешне выглядела по-настоящему красиво.
– Ты сама посмотри, что там, Селия, – сказала я. – Мне не хочется.
– Ты уверена? – спросила она. – Там не может быть ничего плохого. Ты только посмотри, сколько труда вложено в одну только эту крышечку! А какой изысканный крошечный замочек к ней приделан! – Селия оттянула крошечный кусочек дерева, служивший щеколдой, и замочек открылся. Она приподняла пальцами крышечку и раздвинула солому, которой была набита корзиночка.
– Как странно, – удивленно сказала она.
Я ожидала, что там будет фарфоровая сова, такая же, как в прошлый раз. Или еще что-нибудь похуже, вроде маленького капкана или фигурки черной лошади. Но все оказалось еще страшнее.
Я несколько месяцев держала себя в руках, зная, что близится день моего рождения, и чувствуя, что Ральф где-то неподалеку. Я ожидала от него какого-нибудь знака. Какой-нибудь зашифрованной угрозы. И воображала себе самые разнообразные ее формы. Но такого я не ожидала.
– Пороховница? – удивился Джон. – Зачем кому-то посылать тебе пороховницу, Беатрис?
Я глубоко, судорожно вздохнула и посмотрела на Гарри. Этот пухлый напыщенный болван был сейчас моей единственной помощью и опорой в ненавидящем меня мире, который я сама же и создала.
– Это Браковщик! – с отчаянием сказала я. – Он посылает мне это, чтобы предупредить, что намерен сжечь нашу усадьбу. Что он скоро сюда явится. – И я потянулась к Гарри с таким отчаянием, словно меня захлестнуло бурным течением Фенни и вода уже смыкается у меня над головой, только Гарри почему-то на месте не оказалось. А перед глазами у меня снова возник тот густой туман, и он наполнил мою голову, и на этот раз он оказался вовсе не холодным и влажным, а страшно горячим.
И пахло от него дымом.
Я льнула к своей постели, точно какая-то чахоточная лондонская мисс. А что еще я могла придумать? Мне было страшно. Я боялась своей деревни, я ненавидела ее людей, я не хотела больше туда ездить. И того, как бьется сердце моей родной земли, я больше не слышала, а значит, ее леса и холмы не могли служить мне утешением. Я знала, чувствовала: где-то там, в тайной лощине, прячется Ральф и следит за нашим домом горячими черными глазами. И ждет меня. Мой кабинет, мои карты, мой круглый стол для сбора налогов, мои ящики, набитые счетами, – все это просто топливо для огромного костра, который вспыхнет, как только к нему поднесут пороховницу. А самой мне даже вызов было некому бросить, так что я предпочитала прятаться в постели. Я лежала на спине, глядя на резной балдахин над головой, на великое изобилие фруктов, цветов и животных, и страстно мечтала о такой вот далекой стране, где все растет и цветет, где всем позволено сколько угодно есть, пить и веселиться и никто никого не заставляет голодать. И я понимала – каким-то тайным уголком своей отчаявшейся души, – что Широкий Дол как раз и был когда-то такой страной, но потом я сошла с ума, и потеряла себя, и перестала слышать биение его сердца, и утратила его любовь. Утратила все. Единственное, что у меня еще осталось, за что я цеплялась из последних сил, – это мое будущее, Ричард и Джулия, и, возможно, тот новый мир, который они сумеют построить. Если, конечно, я сохраню для них Широкий Дол, если смогу передать его им. Потому что сама я в любом случае пропала.
В доме со мной обращались, как с тяжело больной. Повариха выдумывала нежнейшие и вкуснейшие лакомства, пытаясь меня соблазнить, но есть мне совершенно не хотелось. Да и откуда было взяться у меня аппетиту? С аппетитом я ела в те дни, когда, точно цыганка, целыми днями бродила по этой земле и приходила домой усталая, как собака, и страшно голодная. Мне регулярно приносили Ричарда, но ему совсем не хотелось спокойно сидеть рядом со мной на постели, а тот шум, который он в итоге поднимал, вызывал у меня головные боли. Селия часами просиживала возле меня – то шила, устроившись на подоконнике, где ее головку золотили лучи теплого майского солнышка, то читала какую-нибудь книгу, и в моей спальне устанавливалась замечательная дружелюбная тишина. Раза два в день заходил Гарри, неуклюже ступая на цыпочках; он приносил мне то веточку цветущего боярышника, то букетик колокольчиков. И Джон тоже заходил, совершая врачебный утренний и вечерний обход, и внимательно смотрел на меня холодными глазами. И пузырек настойки опия, который он приносил, если я об этом просила, и некое странное выражение в его бледно-голубых глазах – все это было сродни жалости.
Его теперешняя деятельность была направлена против меня, и я это знала. Для этого мне не нужно было ни красть его письма, ни проверять его счета. Он постоянно поддерживал связь со своим отцом и его строгими и проницательными шотландскими юристами, которые пытались отыскать хотя бы какую-то возможность вернуть назад то, что еще осталось от его состояния. Они также выясняли, нельзя ли лишить моего сына наследства. Но я была уверена: тут все завязано крепко, на совесть. В этом отношении я вполне доверяла своим юристам, которые сковали такой договор, который могут расторгнуть только те, кто его подписал. И пока я была способна держать Гарри в кулаке, Широкий Дол пребывал в безопасности и ждал моего сына. И Джон ничего не мог со мной поделать. Но он хотя бы перестал ненавидеть меня в те майские дни, когда я, больная, лежала в постели и все время спала. Он все-таки был слишком хорошим врачом. Все, что он мог, все, что заставляли его делать характер, склонности, профессия и привычки, – это с тревогой наблюдать за мной, отмечая и бледность лица, и темные круги под глазами, и мой безразличный, невидящий взгляд, прикованный к своду деревянного балдахина.
Под подушкой я прятала две вещи, и одной из них была тяжелая квадратная пороховница. Собственно, я все из нее вынула, потому что теперь панически боялась пожара и каждый вечер умоляла Гарри непременно обойти все комнаты в доме и проверить, хорошо ли потушены камины. В пороховнице я теперь хранила горсть земли Широкого Дола, завернутую в бумагу для папильоток. Это была та самая земля, которую я сжимала в руке, когда, заманив Ральфа в капкан, вернулась домой, не помня себя и вся дрожа. Все эти годы я хранила эту горсть земли на дне своей шкатулки с драгоценностями и теперь переложила ее в ту пороховницу, которую прислал мне Браковщик. Ральф. Если бы я действительно была настоящей ведьмой, как меня называли в деревне, я бы непременно сотворила с помощью этих вещей магическое заклятие, и вновь стала бы юной девушкой, и ничего этого – ни этой боли, ни этого голода, ни этих смертей – не случилось бы вовсе.
Я лежала, точно заколдованная принцесса из сказки, и наяву грезила о смерти. Но Селия, жалостливая, всегда всем и все готовая простить, придумала нехитрый способ, чтобы соблазнить меня и выманить из постели.
– Гарри говорит, что пшеница выглядит очень хорошо, – сказала она как-то утром в конце мая, сидя на подоконнике у меня в спальне и глядя на розы в саду, на выгон, простирающийся до опушки леса, и на далекие высокие холмы.
– Да? – лениво переспросила я и даже головы не повернула. Надо мной была резная крыша балдахина, где пшеница стояла стеной, на лугу паслись жирные овцы и коровы с телятами и в саду было великое множество фруктов, а из огромной закрученной раковины рекой лилось пшеничное зерно. Резьбу сделали специально, чтобы благословить хозяина этой земли и чтобы она постоянно напоминала ему, как плодородна и легка в обработке его земля.
– Она очень красивая, такая высокая, серебристо-зеленая, – продолжала Селия. Ее слова с трудом пробивались сквозь туман, которым полна была моя голова, но все же я уже начинала представлять себе простор полей созревающей пшеницы.
– Да, правда, – сказала я уже с некоторым интересом.
– Гарри говорит, что и на Дубовом лугу, и на Норманнском пшеница выросла такая, какой еще во всей стране не видали. Колосья огромные, толстые, а стебли прямые и очень высокие, – сказала Селия, не сводя глаз с моего просветлевшего лица.
– А на общинном поле? – спросила я, немного приподнявшись и повернувшись к ней.
– Там тоже все очень хорошо. Гарри говорит, что там много солнца, так что пшеница рано созреет.
– А на тех новых полях, которые мы огородили? На склонах холмов? – спросила я.
– Не знаю, – уклончиво ответила Селия. – Гарри не говорил. Да и вряд ли он в такую даль ездил.
– Какая там даль! – возмущенно воскликнула я. – Да ему туда каждый день ездить было нужно! Эти чертовы пастухи – такие лентяи, совсем за овцами не смотрят. А овцы в любой момент могут все посевы под корень сожрать, и пастухи станут доказывать, что склоны холмов и надо было овцам оставить. Я уж не говорю о кроликах и оленях. Гарри каждый божий день следовало проверять ограды вокруг новых пшеничных полей!
– Да, он, пожалуй, плохо за ними смотрел, – искренне признала Селия. – Вот если бы ты сама смогла туда съездить и посмотреть…
– Я и поеду! – тут же заявила я и немедленно, откинув одеяло, вскочила с постели. Однако три долгих недели, проведенные в кровати, сделали свое дело: голова у меня закружилась, и я чуть не упала, но Селия успела меня подхватить. Она снова меня уложила, позвонила Люси, и они вдвоем торжественно приготовили для меня мою светло-серую амазонку.
– Разве мне не следует пока что ходить в черном? – спросила я, не решаясь надеть хорошенькое светлое платье.
– Уже почти год прошел, – сказала Селия, чуть помедлив. – Разумеется, не хотелось бы, чтобы нас обвинили в недостатке внимания к покойной, но сейчас слишком жарко для черного бархатного платья. И потом, Беатрис, ты всегда так прелестно выглядишь в сером! Надень его. Ты же, в конце концов, не собираешься выезжать за пределы поместья. В легком шелке тебе будет гораздо приятней.
Меня не нужно было уговаривать; я с наслаждением нырнула в легкую шелковую юбку и застегнула изящный жакет. Люси принесла из гардеробной маленькую бархатную шляпку, очень хорошо подходившую к этому наряду, и я, небрежно заправив под нее свои рыжевато-каштановые кудри, надежно ее приколола. Селия слегка вздохнула, глядя, как я верчусь перед зеркалом.
– Беатрис, ты такая красивая! – искренне восхитилась она, и я еще раз с интересом посмотрела на себя.
На меня глянули знакомые зеленые глаза; губы изогнулись в привычной насмешливой улыбке. Становясь старше и тверже характером, я утратила ту волшебную прелесть, которая была мне свойственна в те годы, когда меня любил Ральф. Тогда моя красота была подобна солнечному лучу в темном амбаре. Но даже новые легкие морщинки у губ и на лбу, возникшие, потому что я часто хмурилась, не украли у меня мою красоту; такие женщины, как я, с тонкими хрупкими костями, красивой фигурой и гладкой, сияющей кожей остаются красавицами до самой смерти. Ничто моей красоты у меня не украдет, хотя она уже претерпела определенные изменения: в ней прибавилось горечи. Новые морщинки не в счет, но с новым выражением лица приходилось считаться.
Не обращая внимания на Люси и Селию, я подошла еще ближе к зеркалу, так что оба мои лица, отраженное и настоящее, оказались всего в нескольких дюймах друг от друга. Кости, волосы, кожа – все было поистине идеально, как и прежде. А вот выражение лица стало иным. Когда меня любил Ральф, мое лицо было открытым, как чашечка полевого мака летним утром. Когда я сама страстно влюбилась в Гарри и возжелала его, то даже эта порочная тайна не затуманила моих глаз. Даже когда Джон ходил за мной по пятам, и ухаживал за мной, и приносил мне шаль, и сам накидывал ее мне на плечи после очередного танца, глаза мои сияли так же и улыбка у меня на устах была такой же теплой. И я видела, как замирает сердце Джона, стоит ему на меня посмотреть. Но теперь глаза мои были холодны. Даже когда я улыбалась или даже смеялась, глаза мои оставались холодными и острыми, как осколки зеленого стекла. И лицо мое словно замкнулось, тая те секреты, которые я была вынуждена хранить. И форма рта немного изменилась, потому что губы мои были постоянно напряженно сжаты, даже когда я отдыхала. А морщинки на лбу появились из-за того, что я часто хмурилась. Я с удивлением обнаружила, что к старости у меня будет лицо всем недовольной женщины и невозможно будет предположить, глядя на меня, что у меня было самое лучшее детство на свете, а моя жизнь взрослой женщины была исполнена власти и страсти. Сама-то я могла сколько угодно считать, что жизнь подарила мне немало разнообразных наслаждений, но мое лицо, когда мне будет сорок, скажет людям, что я прожила нелегкую жизнь и за все полученные удовольствия мне пришлось расплатиться сторицей.
– В чем дело? – ласково спросила Селия. Я и не заметила, как она неслышно соскользнула с подоконника, подошла к зеркалу и, обняв меня рукой за талию, заглянула мне в лицо.
– Посмотри на нас, – сказала я, и она, повернувшись, тоже стала смотреть в зеркало. Это напомнило мне тот день, когда мы примеряли платья к ее свадьбе с Гарри – все это было так давно, в Хейверинг-холле! Тогда я была образцом красоты, я была желанна для любого мужчины, и Селия рядом со мной казалась всего лишь бледным цветком. Но теперь, когда мы стояли рядом, я видела, что эти годы сказались на ней иначе, чем на мне. Она познала тайное счастье, и это заставило ее расцвести; на щеках появился легкий румянец; уголки рта теперь всегда были приподняты, словно в легкой улыбке; исчез тот испуганный взгляд, который вечно был у нее в Хейверинг-холле. Теперь казалось, что она в любую минуту готова рассмеяться и запеть, как беспечная птичка. То сражение, которое она вела и выиграла – с пьянством Джона, с владычеством собственного мужа и со мной, ее лучшей подругой, – создало вокруг нее некую ауру достоинства. Селия по-прежнему обладала все той же, несколько детской красотой, но теперь эта излишняя детскость была словно плащом прикрыта женским достоинством, пониманием собственной роли и собственной души. Она обрела способность судить, и судить справедливо, если видела, что другие готовы совершить нечто неправильное, недостойное. И было ясно, что в старости окружающие будут обожать ее не только за очаровательные манеры, но и за бескомпромиссность, высокую моральность и мудрость.
Селии было свойственно всем все прощать, но она никогда не забудет того эгоизма, который проявляли Гарри и я, когда Джона била дрожь при одном лишь взгляде на бутылку, а мы пили при нем и хвалили качество вина. И я понимала, что она больше совершенно от меня не зависит и никогда больше мне не поверит и не доверится. Между нами словно пролегла некая неширокая щель, через которую даже такая любящая душа, как Селия, не захочет перекинуть мостик. И сейчас, видя, что она следит в зеркале за выражением моих глаз, я не смогла бы с уверенностью сказать, что именно у нее на уме.
– Мне кажется, ты могла бы даже и верхом съездить к этим пшеничным полям, – тоном искусителя сказала Селия. – Если ты, конечно, сама этого хочешь.
– Очень хочу, – улыбнулась я. – Я уже почти год верхом не ездила и сейчас с удовольствием прокатилась бы по холмам. Пожалуйста, скажи на конюшне, чтобы мне приготовили Тобермори.
Селия кивнула и удалилась из комнаты, прихватив свое шитье. Люси подала мне серые лайковые перчатки и хлыст и холодно заметила:
– Никак вам уже лучше стало? Вот уж никогда не видела другой такой леди, которая могла бы так быстро после долгой болезни в себя прийти! Иногда мне кажется, мисс Беатрис, что вас ничем не остановить.
Недели, проведенные в постели, дали мне возможность физически отдохнуть. Я крепко ухватила Люси за руку чуть повыше локтя, довольно больно стиснув ее руку, подтащила горничную поближе и доверительно ей сообщила:
– Мне не нравится ваш тон, Люси. Совсем не нравится. Но, конечно, если вы хотите подыскать себе другое место, не получив рекомендаций, всего лишь с недельным жалованьем в кошельке и, желательно, подальше отсюда, то вам достаточно только сказать.
Она смотрела на меня с тем выражением, с каким на меня в последнее время смотрели в деревне: ненавидя и все же опасаясь.
– Прошу прощения, мисс Беатрис, – сказала она и потупилась, не выдержав зеленого огня моих глаз. – Я ничего плохого в виду не имела.
Я, разумеется, отпустила ее и даже слегка подтолкнула, а сама вылетела за дверь и, сбежав по лестнице, направилась к выходу на конюшенный двор. Там стоял Джон, наблюдая за тем, как голуби-вертуны ухаживают друг за другом на крыше конюшни.
– Беатрис! – приветствовал он меня, и его холодные глаза внимательно всмотрелись в мое лицо. – Тебе явно лучше, – признал он. – Наконец-то!
– Да, мне явно лучше! – подтвердила я с победоносной улыбкой, потому что видела, что он не может больше смотреть на меня, как на пациента, за которым будет ухаживать до самого неизбежного конца, приближающегося медленно и мучительно. – Я отдохнула и теперь снова хорошо себя чувствую. А сейчас я собираюсь прокатиться верхом.
Один из конюхов как раз вывел Тобермори из дверей конюшни. На жарком солнце его шкура сверкала в точности той же бронзой, что и мои волосы. Жеребец радостно заржал, увидев меня, и я погладила его по морде. Потом я непринужденно оглянулась на Джона, и ему ничего не оставалось, как сложить руки, чтобы я могла опереться на них своей обутой в сапожок ногой и взлететь в седло. Я испытала острую радость, наступив на его чистые белые руки врача своим сапогом, и ласково ему улыбнулась со спины Тобермори – улыбнулась так, словно все еще его любила.
– Неужели ты и сегодня видишь в моем лице смерть, Джон? – поддразнила я его. – По-моему, ты слишком поспешил, решив, что я умру. Я вряд ли доставлю тебе такое удовольствие.
Джон очень серьезно посмотрел на меня, и глаза его были холодны и тверды, как два кремешка.
– Ты совершенно здорова, Беатрис, – сказал он. – Здорова, как и всегда, но я по-прежнему вижу, что за тобой идет смерть. И ты это знаешь не хуже меня. Сейчас ты чувствуешь себя замечательно, потому что светит солнце и ты снова сидишь верхом на любимом коне. Но теперь все для тебя иначе, не так, как прежде. И ты, Беатрис, не настолько глупа, чтобы не понимать, что все вокруг уже разрушено и единственное, чему еще только предстоит здесь умереть, это ты сама.
Я наклонилась и погладила Тобермори, чтобы Джон не заметил, как кровь отхлынула от моего лица, когда я услышала его мрачные пророчества.
– А что же будешь делать ты? – спросила я вполне спокойно, хотя и довольно жестко. – Что будешь делать ты, когда тебе, наконец, удастся уговорить меня во цвете лет лечь в могилу или я просто сойду с ума от твоих надоедливых разговоров на одну и ту же тему? Что ты будешь делать тогда?
– Я буду заботиться о детях, – тут же уверенно ответил он. – Ты ведь в последнее время с Ричардом почти не виделась, Беатрис. Тебе было не до того – ты либо планировала полное уничтожение и Ричарда, и Джулии, и Широкого Дола, либо лежала больная в постели.
– А ты в это время проявлял сердечную заботу о Селии, – ехидно заметила я, отыскав ту болезненную точку, куда можно было ткнуть в отместку. – Наверное, ты именно поэтому и не выложил ей весь набор своих безумных идей, связанных со мной, моей жизнью и смертью. Когда она явилась к тебе, охваченная горем и ужасом, ты не рассказал, о чем ей на самом деле следует горевать, отчего приходить в ужас. Хотя сам ты и горевал, и был охвачен ужасом, не так ли? Ты утешал ее, и ласкал, и говорил, что все еще можно исправить, а потом привез ее домой, чтобы примирить с мужем, словно ничего страшного и не произошло, словно все в порядке.
– Словно никакого чудовища в глубине лабиринта нет, – тихо добавил Джон. – Да, Беатрис. Есть такие вещи и такие мысли, которых женщина – хорошая женщина, Беатрис! – не должна ни знать, ни видеть. Я рад, что могу защитить Селию от того яда, которым пропитан этот дом. Пока могу, потому что знаю: вечно терпеть это тяжкое испытание не придется. Лабиринт обрушится. И чудовище в нем умрет. Но я хочу видеть Селию и детей в целости и сохранности даже среди груды обломков.
– Краснобай! – нетерпеливо бросила я. – Это что, отрывок из романа, которые так любит Селия? И что же, по-твоему, вызовет крушение этого лабиринта? И как смогут Селия и дети остаться в целости и сохранности, если он рухнет у них над головой? Какую чушь ты несешь, Джон! Видно, придется мне снова применить право опеки и сдать тебя в лечебницу.
Он встретил эту шутку жестким взглядом, но лицо его осталось безмятежным.
– Лабиринт рухнет благодаря тебе, – уверенно заявил он. – Ты сама себя перехитрила, Беатрис. Хотя сам план был неплохой и весьма неглупый. Но цена оказалась слишком высока. Я не думаю, что тебе удастся вовремя вернуть все эти займы, и тогда мистер Льюэлин лишит тебя права выкупа закладной вследствие просрочки. И, между прочим, он поступит так не только с теми долгами, которые ты сделала с согласия Гарри, но и со всеми остальными – хотя об этих займах знают только ты и он, а теперь знаю и я. Он попросту откажется принимать эту землю и будет настаивать на выплате долга наличными. И тебе придется продавать. И продавать дешево, потому что ты будешь спешить, чтобы разом со всем разделаться. Но это окажется невозможно, и ты будешь продавать и продавать свою землю кусок за куском. И вскоре Широкий Дол будет лишен и своих земель, и своего былого благосостояния. Тебе еще очень повезет, если ты сумеешь удержать хотя бы дом, но все остальное… – и он жестом обвел сад, зеленый выгон, мерцающий зеленью, лес, полный голубиного воркования, высокие бледные холмы, на которых виднелись белые, протоптанные в известняке тропы, – все остальное будет принадлежать кому-то другому.
– Прекрати, Джон! – резко оборвала его я. – Прекрати. Прекрати проклинать меня. Любая причиненная мне боль, любая угроза с твоей стороны, и я сама разнесу вдребезги этот пресловутый лабиринт. Я расскажу Селии, что ты в нее влюблен и поэтому пьешь. Что поэтому ты и вернулся с ней домой. А Гарри я расскажу, что вы с ней – любовники. И тогда Широкий Дол будет разрушен и для тебя, и для нее. И Селия действительно окажется среди обломков. А разрушишь ее жизнь именно ты, потому что она будет не только разведена с мужем, но и разлучена со своим ребенком, а также изгнана из этого поместья и опозорена. Если ты будешь угрожать мне, проклинать и поносить меня, если ты будешь совать нос в мои финансовые дела, если ты будешь поддерживать происки мистера Льюэлина, если ты помешаешь мне стать хозяйкой этой земли, я уничтожу Селию. А это наверняка разобьет тебе сердце. Так что прекрати свои угрозы, прекрати проклинать меня, успокойся.






