Широкий Дол Грегори Филиппа
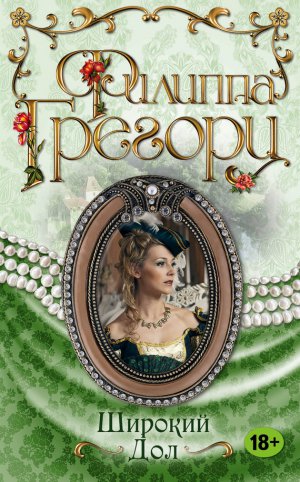
– А по-моему, они как раз прекрасно все понимают и весьма активно пытаются этому противодействовать, – насмешливым тоном возразила я и поднялась в карету. – Этот твой «естественный» прогресс, похоже, слишком трудно воплотить в жизнь.
– Ты все шутишь, Беатрис, – насупился Гарри, – хотя каждому нормальному человеку ясно, что таков порядок вещей. И парочка каких-то спятивших крестьян не может остановить развитие общества.
– Да ладно тебе, – сказала я. – Я все прекрасно понимаю. Но на всякий случай проверю, как должен действовать закон об огораживании, и обсужу этот вопрос с лордом де Курси. Если подобные вещи будут продолжаться, нам придется поймать злоумышленников и предать их суду.
– Да, конечно, тут уместна только строгость, – заявил Гарри, изучая свои блестящие высокие сапоги. – И никакого снисхождения!
Я махнула ему на прощание, и карета тронулась. Тон Гарри показался мне чрезвычайно глупым и помпезным, и мне хотелось поскорее прекратить этот разговор. Однако в Чичестере каждый, с кем я разговаривала, похоже, полностью разделял взгляды моего брата. Лорд де Курси, например, расценил поломку и поджог изгородей почти как вооруженный мятеж, и немедленно повез меня в казармы. Я сопротивлялась – хотя и не слишком активно – его решительному предложению разместить у нас целый конный отряд, чтобы защитить Широкий Дол от трех молодых крестьянских парней. Впрочем, я была даже рада, когда мне предложили полдюжины кавалеристов под командованием сержанта.
Я, конечно, могла бы использовать для охраны лакеев из усадьбы. Но у нас в доме не так уж много слуг, и, кроме того, я слишком хорошо понимала, что даже самые преданные мои слуги все же не станут хватать и передавать в руки военных своих родственников или даже родных братьев, когда начнется всеобщая драка из-за установленной мной ограды.
Мое возвращение домой было поистине победоносным: следом за моей каретой мучительно медленно тащился огромный воз со всем необходимым для новых ограждений, а на некотором расстоянии от него ехал небольшой отряд кавалеристов, которых предстояло разместить в местной таверне «Под плющом» под видом рекрутов. Им предстояло по первому же моему сигналу устроить злоумышленникам ловушку.
Этот сигнал я подала им уже следующей ночью. Весь день под присмотром Джона Брайена мерзко ухмылявшиеся крестьяне ставили новую изгородь, старательно вкапывая столбики в землю. С наступлением темноты все вроде бы разошлись по домам, а мы – Джон Брайен, Гарри и я – встретились с солдатами подальше от этого места у реки, затем совершенно бесшумно провели своих коней по воде и окружили поляну, оставив свободной только ту тропу, что вела в деревню. Луна еще не взошла, и было почти совсем темно; даже свет звезд частенько затмевали набегавшие облака.
Я осталась сидеть в седле, и мой Тобермори нервно прядал ушами, страшно недовольный тем, что его заставили куда-то идти среди ночи. К тому же было холодно и промозгло, как часто бывает в конце зимы. Гарри, тоже сидевший в седле, то и дело ерзал и дул себе в перчатки, чтобы хоть немного согреть замерзшие пальцы.
– Сколько же мы будем ждать? – спросил он возбужденно, как мальчишка в предвкушении драки, и я с некоторым беспокойством вспомнила, с каким восторгом он описывал их школьные бои под предводительством его замечательного друга и героя Стейвли. Сегодняшние события Гарри, видимо, тоже воспринимал как игру. А вот Джон Брайен, сидевший на коне по другую сторону от меня, смотрел на вещи гораздо серьезней. Несмотря на то что жена его была родом из нашей деревни, сам он деревню ненавидел и полагал себя значительно выше «каких-то жалких крестьян». Как и любой не слишком умный горожанин, он куда больше ценил свою практичность и смекалку, чем неторопливую мудрость деревенских жителей. И, как любой карьерист, карабкающийся вверх по крутой лесенке снобизма, он ненавидел ту среду, из которой пытался выбраться.
– Мы дадим им час, – тихо сказала я. Я волновалась и была напряжена: мне впервые пришлось по-настоящему сидеть в засаде. К тому же в глубине души чей-то голос твердил мне: «Это же твои люди! А ты прячешься здесь вместе с солдатами и двумя вооруженными мужчинами, которых сама же и презираешь, и собираешься причинить зло тем, кто всю жизнь делал тебе только добро».
Мне и впрямь было трудно поверить, что мои отношения с этой деревней и с этими людьми уже настолько разорваны, что я вынуждена таиться во тьме, точно шпионка, чтобы на них напасть. Господи, если бы не Ричард, не мои надежды на будущее! Но путь к тому, чтобы Ричард стал хозяином Широкого Дола, вызвал к жизни целую цепь событий, в связи с которыми мой муж ест свой обед за решеткой, а лицо Широкого Дола, любимое улыбающееся лицо моей земли, меняется, похоже, с каждой минутой. Ах, если бы я действовала не во имя моего Ричарда! Но, увы…
– А вот и они! – тихо сказал Джон Брайен.
Напрягая зрение, я все же сумела разглядеть три темных силуэта на тропе, ведущей в деревню. Злоумышленники двигались совершенно бесшумно по самому краю тропы; они шли гуськом и порой почти сливались с кустами, но я сумела разглядеть светловолосую голову Джона Тайэка, заметную даже при свете звезд, и, по-моему, узнала Сэма Фростерли по его необычайно широким плечам. Потом я услышала, как Джон Тайэк что-то сказал вполголоса, а Нед Хантер тихонько рассмеялся. Они вели себя тихо, потому что была ночь, а они родились и выросли в сельской местности, но попасть в ловушку они явно не боялись. Им и в голову не приходило, что здесь, на их родной земле, для них может быть устроена западня.
Они добрались до первого участка изгороди и приготовились свалить ее на землю. У одного из них на плече был заступ; он подкопал землю вокруг столбиков, а затем все трое, негромко хихикая, навалились на ограду и рухнули с нею вместе на землю.
– Сейчас? – тихо спросил у меня Брайен.
– Да, – еле выговорила я замерзшими губами.
– Вперед! – взревел Гарри и, пришпорив коня, ринулся на злоумышленников. Одновременно с ним из кустов выскочили солдаты, окружив парней. Солдат было шестеро, да еще сержант верхом на коне и мы трое, тоже верхом. Парни, пошатываясь, вскочили на ноги и уставились на нас, словно не веря собственным глазам, а потом вдруг бросились бежать, точно вспугнутые олени, по направлению к деревне, видимо по-детски веря, что только дома и можно укрыться от опасности.
Нед и Сэм, перепрыгнув через сломанную ограду, помчались по тропе, а за ними вдогонку бежали солдаты. Гарри верхом тоже направился туда, и никто, кроме меня не заметил сверкнувших в звездном свете светлых волос Джона Тайэка, который побежал совсем в другом направлении – вниз, к реке Фенни, где была по крайней мере сотня таких мест, где можно спрятаться, а потом тайно прокрасться домой. Он не подозревал, что я его видела и слежу за ним, а потому мчался прямо на меня. Все его внимание было устремлено в ту сторону, откуда слышался шум погони; там Гарри, нагнав парней, спрыгнул с коня и бросился на них. Молодой Тайэк рассчитывал, что за ним тоже погонятся, и чуть не налетел в темноте на Тобермори. Резко затормозив, он удивленно воскликнул:
– Это вы, мисс Беатрис?!
– Да, Джон Тайэк, это я, – сказала я, а он тут же нырнул во тьму и бросился бежать по узкой тропке прямо к реке.
– Вы видели, куда он побежал, мэм? – крикнул мне сержант, уже успевший развернуть своих людей. Схватка была окончена. Нед и Сэм стояли со злобными лицами между Гарри и Джоном Брайеном.
– Нет, – не задумываясь, ответила я. Джон был внуком дедушки Тайэка, которого я всегда очень любила, а этот сержант был мне совершенно чужим. И я не могла допустить, чтобы одного из моих людей гнали по тропе, как собаку. – Нет, я его не видела. Похоже, мы его упустили.
Солдаты сразу же увели Сэма и Неда в Чичестер. О таком исходе дела я не подумала. Когда завтра утром деревня проснется, уже ничего нельзя будет поделать. Двое любимцев всей деревни были арестованы, увезены в город и будут отданы под суд. А третий, их закадычный дружок, молодой Джон Тайэк, сидел теперь, уронив голову на руки, у нежаркого очага в доме своей матери и бормотал, что не знает, как ему жить.
В деревне понимали, конечно, что если Нед и Сэм замешаны в какой-то дьявольской проделке, то и без Джона там дело не обошлось. Но всем, разумеется, было ясно, что проделка не удалась, раз эти трое оказались разлучены, а Джон – не такой парень, чтобы бросить друзей в беде. Вот он и просидел весь день, пытаясь придумать, что же ему делать. Тем временем отремонтировали поваленную ограду, и теперь, наконец, можно было начинать валить деревья внутри огороженного участка. И тогда Джон пошел к своему деду, старому Тайэку, и рассказал ему обо всем.
А затем дедушка Тайэк пришел ко мне.
Я, собственно, этого и ожидала. Мне еще только предстояло понять, что деревенские больше не будут бросаться ко мне за помощью в случае любой постигшей их беды. Дедушка Тайэк вошел ко мне в кабинет, когда там, к сожалению, находился Гарри. Если бы я сообразила быстрее и успела отослать Гарри прочь, то, возможно, сумела бы остановить это движение по спирали от ошибки к трагедии. Но Страйд как раз подал нам кофе – мы увлеченно работали над очередным планом, – и Гарри тут же накинулся на блюдо с птифурами, так что сдвинуть его с места сейчас было бы весьма затруднительно. Так что я оставила его набивать себе брюхо за кофейным столиком, а сама отошла к письменному столу, перед которым стоял дедушка Тайэк, держа в руках шапку.
– Я пришел сдаваться, мисс Беатрис, – сказал он.
– Что? – Я не верила собственным ушам.
– Я пришел сдаваться, – спокойно повторил старик. – Прошлой ночью я вместе с теми двумя парнями пошел в лес и велел им повалить ограду. Их помощь мне понадобилась только вчера, а во все предыдущие ночи я действовал в одиночку.
Я изумленно смотрела на него, и мне казалось, что один из нас сошел с ума. Потом до меня все же дошло, что он задумал, и я мягко заметила:
– Но, дедушка Тайэк, ведь никто не поверит, что вы, старый человек, на такое способны. Я понимаю, куда вы клоните, но ваша уловка ни к чему не приведет.
Но я не заметила знакомого хитрого блеска в его глазах. Дедушка Тайэк знал и любил меня с детства. Он видел, как меня крестили в приходской церкви, видел, как я впервые приехала в деревню вместе с папой. Но сейчас он смотрел сквозь меня, словно я была грязным окошком, и повторял:
– Я пришел сдаваться, мисс Беатрис. Я прошу, велите меня арестовать и отправить в Чичестер.
– Что такое? – спросил Гарри, внезапно оторвавшись от блюда с шоколадным печеньем. – Что я слышу? Неужели это вы ломали нашу изгородь, Тайэк?
– Да, – спокойно отвечал старик.
– Нет! – воскликнула я, и у меня перехватило горло от раздражения и все усиливающегося чувства страха. – Это же невозможно! Гарри, не будь таким глупцом. Ты же видел вчера ночью, как проворно убегал тот человек. Это никак не мог быть дедушка Тайэк!
– Прошу прощения, но это был я, – сказал Джордж Тайэк. – А сегодня я пришел сдаваться.
– Ну что ж, в таком случае вам придется предстать перед судом, ибо вы совершили одно из самых тяжких преступлений, – предупредил его Гарри.
– Я знаю это, сквайр, – все тем же ровным тоном ответил Тайэк. Он знал это лучше нас. Именно поэтому он и пришел сюда. Я невольно протянула к нему руку.
– Дедушка Тайэк, я понимаю, что вы хотите сделать, – сказала я. – Уверяю вас, я не хотела, чтобы все зашло так далеко. Но я, наверное, еще могу все остановить. У вас нет необходимости спасать их, принося такую жертву.
Старый Тайэк повернулся ко мне лицом; его глаза казались огромными и черными, как у пророка.
– Мисс Беатрис, коли вы действительно не хотели, чтобы все зашло так далеко, так не надо было и начинать. Вы сами нам объясняли, что, мол, таков теперь весь мир вокруг Широкого Дола. Вы сами принесли эти новшества на нашу землю. Но для нас они означают смерть, мисс Беатрис. И это вы принесли в Широкий Дол смерть. Так пусть лучше это будет моя смерть, чем чья-то еще.
У меня перехватило дыхание. Я рухнула в кресло, а Гарри, с неукротимой властностью шагнув вперед, заявил:
– Ну, вот что: довольно! Я не позволю и дальше расстраивать мисс Беатрис. Придержите-ка язык, любезный!
Джордж Тайэк молча кивнул, не сводя с меня глаз, полных упрека, а Гарри позвонил и велел подать карету, чтобы ехать в Чичестер.
– Гарри, – бросилась к нему я, – это же совершенно нелепая затея! Все это нужно немедленно остановить!
Отчаяние, звучавшее в моем голосе, явно заставило его колебаться. Он снова посмотрел на Джорджа Тайэка, и тот упрямо повторил:
– Я пришел к вам, чтобы сдаться. Но я могу пойти и к лорду Хейверингу. Я готов понести наказание.
– Нет, Беатрис. Они совершили слишком серьезный проступок, чтобы спустить это им с рук, – сказал Гарри вполне здравым тоном, как взрослый мужчина, однако его младенчески пухлое лицо прямо-таки горело от возбуждения в предвкушении разворачивающихся у него на глазах драматических и смертельно опасных событий. – Я немедленно еду с Тайэком в Чичестер и готов дать показания под присягой. Ступайте со мной, Тайэк, – грубо приказал он старику, и они вышли из комнаты.
Я видела, как карета проехала мимо окна, но ничего не смогла придумать, чтобы ее остановить. Я больше, пожалуй, уже ничего не могла остановить. Я села за письменный стол, уронила голову на руки и просидела так по крайней мере час. Потом встала и пошла в детскую – мне хотелось повидать своего сына, будущего сквайра Широкого Дола.
И дедушку Тайэка повесили.
Бедного, храброго, глупого старика.
Те двое парней, правда, пытались протестовать и уверяли судей, что он ни в чем не виноват, но судьи к ним не прислушались; их вполне устраивало, что преступник пойман и сам признался в уничтожении изгородей, в нарушении границ частной собственности и в том, что готов был сжечь даже весь лес. Вот они и повесили виновного во всех этих преступлениях. На эшафот дедушка Тайэк взошел ровным шагом, и старые его плечи были гордо расправлены.
А тех двоих, Хантера и Фростерли, приговорили к транспортации[28]. Нед Хантер, правда, еще в тюрьме заболел лихорадкой и умер, не дождавшись высылки, у Сэма на руках – с почерневшими, запекшимися от жара губами, мечтая хоть одним глазком увидеть родной дом, почувствовать ласку матери. Сэма Фростерли отправили уже на следующем корабле, и через некоторое время родные получили от него письмо, единственное. Он писал, что находится в Австралии и жизнь там очень тяжелая. Это и впрямь была горькая доля для человека, выросшего в самом сердце Сассекса. Как он, должно быть, страдал от тоски по зеленым холмам своей родины! Говорят, именно тоска по дому его и убила, а вовсе не страшная жара, не ядовитые мухи и не чудовищные, кровавые уличные драки. Он умер примерно через год после высылки. Если ты родился и вырос в Широком Доле, то больше нигде счастливым быть не можешь.
Я выслушала известия об этих смертях – дедушки Тайэка на виселице и Хантера в ожидании посадки на корабль с преступниками – сжав губы, с белым лицом и сухими глазами. После смерти Хантера Джон Тайэк, молодой и красивый внук дедушки Тайэка, любимец всей деревни, куда-то исчез. Некоторые считали, что он убежал за море, другие – что он повесился в лесу и его найдут, когда осенние ветра сметут с ветвей густую листву. Однако в лесу его не оказалось. Он просто исчез. И мне было ясно одно: никогда больше эта развеселая троица не пройдет, красуясь, по деревенской улице. Никогда больше на празднике урожая Джон Тайэк не будет кружиться со мной в зажигательной джиге, пока остальные, теребя в руках шапки, хихикают и подталкивают друг друга локтями. Эти трое парней исчезли из нашей деревни навсегда.
Глава семнадцатая
И из моей души тоже что-то навсегда исчезло.
Я больше не слышала, как бьется сердце Широкого Дола. Я не слышала пения его птиц. Даже когда стало пригревать весеннее солнышко – а весна в этом году была холодная, затяжная, словно само сердце Англии превратилось в ледяной комок, – я так и не отогрелась. В лесу уже куковали кукушки; жаворонки начали свои пробные полеты и уже завели свои любовные песни, а мне по-прежнему было холодно. И сердце мое не пело вместе с расцветающей природой. В Широкий Дол снова пришла весна с россыпью нежных, качающих головками нарциссов, с коврами полевых цветов, с ароматом свежей листвы, с шумом бурной Фенни, но я так и не оттаяла, словно навечно заледенев зимой.
Я и сама толком не понимала, что со мной происходит. Мне ничего не хотелось ни слышать, ни видеть. Ничто в жизни я больше не воспринимала как нечто реальное. Я смотрела на раскинувшуюся передо мною влажную и уже зеленеющую землю, словно сквозь стену прозрачного льда, и мне казалось, что эта стена отныне вечно будет отгораживать меня от той земли, которую я когда-то любила, и от тех людей, которых я когда-то так хорошо знала.
Я много времени проводила у окна. Просто стояла и смотрела, не веря собственным глазам, сквозь стеклянные створки на зеленеющий лес, который был столь же ярок и так же приветственно махал мне ветвями, как прежде. И мне начинало казаться, что сердце мое опять стучит в такт с ровно бьющимся сердцем моей земли. Но выйти из дома я не осмеливалась. Мне надоело разъезжать на двуколке, а верхом я ездить не могла – все еще была в трауре. Но мне, собственно, и не хотелось ездить верхом, как не хотелось и просто гулять по полям. Мне казалось, что теплая влажная земля, липнувшая к моим башмакам, затягивает меня в какую-то мерзкую глинистую трясину, совсем не похожую на мягкую плодородную почву Широкого Дола. А когда я ездила на двуколке, мне вдруг становилось трудно даже просто заставить лошадь повернуть или, щелкнув языком, пустить ее рысью либо ровным шагом.
Да и сам весенний сельский пейзаж уже не казался мне столь очаровательным; он был слишком ярок; зеленые тона этой весной отчего-то резали мне глаз. Я щурилась и морщилась, стараясь смотреть не по сторонам, а вперед, на далекие холмы, и солнце проложило отчетливые линии вокруг моих губ и на лбу.
Той весной я не испытывала ни малейшего удовольствия, разъезжая по поместью, но вряд ли смогла бы сказать, почему это происходит. И, разумеется, никакого удовольствия я не испытывала от посещений деревни. Как я и обещала, деревенские пока не почувствовали никакой нехватки топлива. Я вполне сознательно, как и обещала, отложила огораживание некоторых участков общинных земель. Им не за что было меня упрекать. Благодаря мне никто в деревне, по крайней мере, не мерз. Так что далеко не все, что я делала, было так уж плохо.
Но крестьяне мне больше не верили. Если в тот год, когда расцвела наша с Ральфом любовь, все успехи – и щедрые зеленые всходы, и благодатное тепло, и хороший урожай – люди связывали с моей природной магией, с моей любовью к этой земле, то теперь, когда все пошло так плохо, всех собак тоже вешали на мои ворота. У Сауеров умерла корова, и в этом, конечно же, обвинили меня, потому что корова не могла пастись на бывшем общинном лугу, покрытом сочной молодой травой. В семье Хилл заболел ребенок, и в этом тоже была виновата я, потому что мой муж, врач, был где-то далеко, а пригласить другого доктора им было не по карману. Миссис Хантер, лишившись сына, сидела у почерневшей каминной решетки и все время плакала из-за постигшего их семью позора. Она знала, что ее сын умер в тюрьме, что перед смертью он звал ее, но она, разумеется, никак не могла до него добраться. И в этом тоже была моя вина. Во всяком случае, так говорили в деревне: все это ее вина, мисс Беатрис!
И я понимала, что они правы.
Когда мне приходилось ехать через деревню, я держала голову высоко поднятой и с презрением посматривала вокруг. Там по-прежнему не находилось ни одного, кто был бы способен выдержать мой взгляд; все с недовольным видом отводили глаза. Однако мое презрение испарялось, стоило мне увидеть миссис Хантер за окном ее домика, без движения сидящую у почерневшей каминной решетки, хотя над крышей у нее не было заметно ни малейшего дымка. Я не чувствовала себя готовой с полным бесстыдством не замечать бед, постигших мою землю. Мне было на этой земле страшно, неуютно и холодно. И как-то холодным промозглым днем я натянула поводья возле дома сапожника и крикнула: «Миссис Мерри!» Рядом стояли и судачили несколько женщин. Они разом обернулись на мой крик, и лица у них тут же стали замкнутыми и недовольными, и я невольно припомнила те времена, когда они кричали мне в ответ «Доброго вам дня, мисс Беатрис!», и улыбались, и собирались вокруг моей двуколки, чтобы поделиться со мной деревенскими сплетнями. Но теперь они кружком стояли поодаль, точно судьи в уголовном суде, и смотрели на меня холодными глазами. Они, правда, расступились, пропуская миссис Мерри к моей повозке, и меня поразило, как неохотно, еле волоча ноги, она шла ко мне. Она не улыбнулась мне; лицо ее так и осталось суровым.
– Что с миссис Хантер? Уж не больна ли она? – спросила я, беря вожжи в одну руку и засовывая кнут в гнездо.
– Никакая это не болезнь! – с вызовом заявила миссис Мерри, глядя на меня в упор.
– Тогда что же с ней такое? – нетерпеливо продолжала я. – У нее в очаге и огонь не горит. Я ездила мимо ее дома три дня подряд и каждый раз видела, как она сидит у пустого холодного очага. Что ее мучает? Почему друзья ее не навестят, не растопят у нее в доме камин?
– Она не хочет, чтобы очаг растапливали, – сказала миссис Мерри. – И еды она никакой не хочет. И не хочет ни с кем из друзей разговаривать. Она сидит так с тех пор, как ей принесли письмо от Сэма Фростерли, который сообщил, что ее сын Нед умер. Я сама ей это письмо читала – она ведь читать не умеет, – а она выслушала меня, взяла ведро с водой, залила огонь в очаге да и уселась возле мокрых головней. Так и сидела, пока я не ушла. И утром, когда я снова к ней зашла, она все так же сидела.
Лицо мое словно окаменело, но в глазах плескалось отчаяние.
– Она поправится, – сказала я. – Ее просто смерть сына так потрясла. Она ведь вдова, а Нед был ее единственным ребенком.
– О да, – печально подтвердила миссис Мерри.
И больше она ничего не прибавила, ни словечка. А ведь эта женщина приняла мое дитя, эта женщина не отходила от меня во время болезненных схваток, эта женщина дала мне слово, что не станет сплетничать насчет того, что ребенок родился слишком крупным для недоношенного, и свое слово сдержала. Эта женщина когда-то уверяла меня, что я забочусь о жителях Широкого Дола, в точности как мой отец.
– Это не моя вина, миссис Мерри! – с неожиданной страстью воскликнула я. – Я не хотела, чтобы так получилось, я ничего такого не планировала. Мне просто необходимо было увеличить количество полей под пшеницу. Откуда я могла знать, что эти парни надумают изгороди рушить? Я хотела, чтобы солдаты их просто припугнули; хотела, чтобы они перестали меня дразнить. Я же не думала, что их поймают и увезут в Чичестер. Я не думала, что дедушка Тайэк решит сам туда отправиться. И я никак не думала, что его повесят, а Нед умрет, и Сэма ушлют далеко в чужие края. Ничего этого я не хотела!
Но в глазах миссис Мерри не было жалости.
– Значит, вы и есть тот плуг, который не хотел рубить жаб на куски, – неприязненным тоном сказала она. – Та коса, которая совсем не хотела отрезать лапки зайчишке. Вы идете, куда вам нужно, направо и налево размахивая своим острием, но при этом вовсе не хотите калечить тех, кто попадается вам на пути. Так что вас вроде бы и винить-то не за что. Да и разве могут они винить вас, мисс Беатрис?
Я протянула знахарке руку – все-таки она была старой и мудрой женщиной – и снова сказала:
– Я действительно ничего этого не хотела, миссис Мерри, хотя теперь люди и обвиняют меня во всех смертных грехах. Ничего, мой сын еще все исправит. Скажите миссис Хантер, что я позабочусь о том, чтобы ее сына вернули домой и похоронили на церковном дворе, как полагается.
Миссис Мерри покачала головой.
– Нет, мисс Беатрис, – твердо заявила она, – никаких ваших слов я миссис Хантер передавать не буду. Для нее это было бы оскорбительно.
У меня даже дыхание перехватило. Я невольно схватилась за вожжи, и Соррел тут же пошел вперед, а я еще и слегка ударила его кнутом, чтобы пустить рысью. Когда я уже немного отъехала от этих женщин, в борт моей повозки что-то ударило.
Кто-то бросил в меня камень.
Кто-то бросил камень – в меня!
Так что той весной мне больше уже не хотелось ни ездить в лес, ни гулять по полям, ни спускаться вниз по дороге, ведущей в деревню. Гарри уезжал и приезжал, когда хотел. А Селия вообще постоянно посещала деревню. Именно Селия договорилась, чтобы тело Неда Хантера доставили домой. Именно Селия оплатила его похороны и установку небольшого креста на его могиле. Селию и Гарри в деревне по-прежнему встречали неизменными поклонами и неловкими книксенами. Но я в деревню больше не ездила. Лишь однажды воскресным утром – всего один раз за всю эту влажную весну – я проехала по деревенской улице, где двери всех домов были закрыты, но я знала, что их обитатели смотрят на меня из-за занавесок. Я проехала мимо маленького домика миссис Хантер, лишенного привычной струйки дыма над крышей, мимо свежих могил дедушки Тайэка и Неда Хантера. А потом я вошла в церковь и медленно прошла по центральному нефу мимо рядов скамей, заполненных людьми, и взгляд каждого из них был жестким, как кремень.
В ту весну я работала в основном у себя в кабинете. Джону Брайену я поручала все связанное с поездками и раздачей указаний. Он ежедневно являлся ко мне, я давала ему очередное задание, и он отправлялся его выполнять, осуществляя надзор над выполнением той или иной работы. Так и получилось, что Широкий Дол, никогда не знавший управляющего и всегда чувствовавший поступь своего хозяина, теперь находился под присмотром человека, никакого отношения к семейству Лейси не имевшего; Брайен даже и фермером-то не был; он был всего лишь мелким чиновником, который родился и вырос в городе.
Вместе со своей командой Брайен расчистил и распахал общинные земли, а потом засеял эти поля пшеницей. От деревенских больше никаких неприятностей не было. Брайен также распахал полдюжины лугов, где раньше играли дети; его плуг прошелся даже по тем уцелевшим кусочкам земли, что принадлежала самой деревне. Мы теперь сеяли пшеницу везде, где мог пройти плуг. И все же денег мы по-прежнему зарабатывали недостаточно.
Я приберегала состояние Джона для того, чтобы откупиться от нашего кузена; мне не хотелось тратить эти деньги на оплату юристов. Но поскольку они все время затягивали дело, то и счета от них постоянно росли. Занятая у мистера Льюэлина сумма ушла на оплату счетов за первые три месяца, но затем мы столкнулись с проблемой выплаты процентов, а никаких поступлений до продажи нового урожая пшеницы ждать не приходилось. Однако эта пшеница еще и на полях толком не взошла.
В общем, ничего у меня не получалось. Во всяком случае, достаточно быстро. В самом начале я еще советовалась с Гарри, но теперь я просто не осмеливалась показывать ему реальные цифры. Нам приходилось тратить немалые суммы на погашение долгов, на оплату юристов, на оплату счетов за лечение Джона, на новые команды наемных работников, на сельскохозяйственный инструмент и на семена – в целом получалось гораздо больше, чем мы зарабатывали. Мы вытянули уже все, что можно, из наших резервных капиталов, и теперь пора было начинать подсчитывать, сколько времени потребуется, чтобы все наше состояние, которое мой отец так медленно и тщательно собирал, оказалось исчерпано. И тогда нам осталось бы только продавать землю.
Уже одного этого было вполне достаточно, чтобы заставить меня постоянно сидеть дома, даже когда прилетели ласточки и по утрам с криками носились низко над рекой. Вполне достаточно, чтобы заставить меня в страшном волнении каждое утро ждать появления почтальона, потому что в любой день от доктора Роуза могло прийти письмо, где он с уверенностью напишет: «С радостью сообщаю Вам, что Ваш муж полностью здоров и в данный момент, пока я пишу это письмо, пакует чемоданы, собираясь домой!»
Каждый день я ждала такого письма. Каждый день я молила Бога о письме от юристов, сообщающих, что наш кузен согласился на компенсацию. Тогда я сразу же выплатила бы ему эту сумму за счет денег Джона и уже в открытую приступила бы к изменению прав наследования. Каждое утро я просыпалась с ощущением, что эти два конвергентных процесса все больше сближаются. И каждый день, когда мне приносили почту, я с ужасом вскрывала конверты, ожидая прочесть свидетельство того, что я либо выиграла борьбу за Широкий Дол, либо он для моего сына потерян навсегда.
И все же я одержала победу.
Тем чудесным апрельским утром, когда под окном моего кабинета качали золотистыми головками нарциссы, а в саду весело распевали птицы, мне принесли толстый кремовый конверт с печатью юридической конторы и помпезной печатью наших юристов на клапане. С невероятной цветистостью и самолюбованием они сообщали, что наш кузен Чарлз Лейси готов принять компенсацию и отказаться от своих прав на Широкий Дол. Я победила. Ричард победил. Ужас и смятение последних нескольких месяцев могли теперь уйти в прошлое. Я знала, что вскоре мне будет казаться, будто этой ледяной весны, проведенной взаперти, и не было вовсе. Ричард вырастет на этой земле, он будет воспитан, как ее будущий сквайр, и я научу его всему, что необходимо знать хозяину о своей земле и ее людях. Он будет каждый год наполнять амбары Широкого Дола зерном нового урожая. Он женится – по моему выбору, разумеется, – на хорошенькой девушке, уроженке Сассекса, и они родят для моей земли новых наследников. Плоть от плоти моей, кровь от крови. Я стану родоначальницей новой династии, которая будет продолжаться в веках, в далеком, невообразимо далеком будущем. И все это мне удалось сделать исключительно благодаря собственному уму, хитрости и мужеству. Я сделала все, что хотела. Пусть я больше не слышу ни стука собственного сердца, ни стука сердца Широкого Дола, ни звучания любящих голосов, но я все же своего добилась!
Я сидела молча, держа в руках письмо. Я испытывала невероятное освобождение и облегчение, столь же ощутимые физически, как то весеннее солнце, что согревало мне щеку и обтянутое шелком плечо. Я сидела, не шевелясь, долго-долго, наслаждаясь этим ощущением облегчения и победы. Лишь я одна знала, чего мне это стоило, чего это стоило Широкому Долу, чего это стоило нашей деревне. Но с достигнутого мной рубежа перед моим сыном теперь открывался ясный и прямой путь. И только я знала, как трудно было этого рубежа достигнуть. Впрочем, и сейчас мне грозили немалые расходы – в том числе и те, о которых я еще толком не знала и не подозревала. Я завоевала эту землю для Ричарда, но этой весной она для меня была мертва, и я отнюдь не чувствовала, что мое прежнее отношение к этой земле сможет возродиться. Люди, жившие здесь, от меня отвернулись; трава, растущая на этих лугах, казалась мне слишком яркой, ядовито-зеленой; и даже пение дроздов не в силах было пробиться сквозь ту глухую стену, что меня окружала. Но если это и есть та цена, которую я должна уплатить во имя своей великой цели, я готова была выплатить все до конца. И все платила и платила. И вот, наконец, кажется, получила первую награду за свои труды и утраты.
Вздохнув, я придвинула к себе стопку писчей бумаги и написала нашим юристам; я просила их перевести в наличные все состояние Джона, продать причитающуюся ему долю в «Линиях МакЭндрю» и перевести необходимую сумму на счет нашего кузена. К письму я приложила заверенную копию документа об опеке, чтобы предвосхитить любые вопросы, вызванные столь экстраординарным поступком. Затем я взяла еще один листок бумаги и начала писать письмо все тем же юристам, предлагая им незамедлительно начать законную процедуру изменения прав наследования, которая должна была сделать моего сына Ричарда и мою дочь Джулию сонаследниками Широкого Дола.
Затем я долго сидела без движения, и солнце по-прежнему грело мое плечо, а я пыталась неторопливо обдумать и оценить то, что только что сделала.
Однако я была столь же нетерпелива, как и в пятнадцать лет, а потому сказала себе: «Сейчас!» Цена, которую еще, возможно, придется уплатить Ричарду и Джулии, проявит себя где-то в будущем, а я могла иметь дело только с настоящим. Я была обязана заниматься настоящим – перед самой собой, перед своим сыном. Я обязана была посадить его в кресло сквайра. Я сознательно закрывала глаза на возможные последствия. Я была вынуждена это делать. Деньги, полученные мною под залог наших земель, скорее всего, придется выплачивать Ричарду. За то, что он всю жизнь будет жить и работать здесь вместе со своей сестрой, придется платить и ему, и ей. Но я исполню свой долг и перед ним, и перед ней, и перед самой собой, и даже, как ни странно, перед моим отцом и длинной вереницей моих предков из семейства Лейси, когда посажу в кресло сквайра Ричарда, самого лучшего из всех возможных наследников Широкого Дола. А будущие долги и выплачивать придется в будущем.
Я запечатала эти два письма, потом подумала и написала третье. Мистеру Льюэлину. Я предложила ему под закладную те новые луговые земли, которые мы недавно огородили неподалеку от Хейверингов. Эти земли, собственно, были присоединены к нашему поместью как приданое Селии, и я думала, что, если дойдет до самого худшего и придется все-таки продавать землю, я буду чувствовать себя гораздо лучше, если потеряю лишь эти, недавно полученные поля. Я бы не смогла отдать в залог те земли, по которым когда-то ездила вместе с отцом. Не смогла бы даже ради его внука. Но сейчас нам очень нужны были деньги. Договор о смене наследника нужно еще подписать и засвидетельствовать в Палате лордов, а по пути туда встретится немало карманов, в которые непременно придется что-то положить; да и вполне законных гонораров выплатить придется немало. Зеленые ростки пшеницы этим летом должны принести поистине золотые зерна, иначе мы столкнемся с банкротством.
– Беатрис! Сегодня ты выглядишь намного лучше! – радостно воскликнула Селия, когда я присоединилась к ней и Гарри за завтраком.
– Я и чувствую себя гораздо лучше, – улыбнулась я. Повариха Селии приготовила ветчину с карамелизованными абрикосами и маленькие, удивительно вкусные пирожки с мясом. – Какое чудо – эта твоя миссис Гофф! – сказала я Селии. – Вот уж действительно никогда не испытываешь ни капли неудовольствия, выплачивая ей жалованье.
– Это правда, но и у тебя не может быть причин для недовольства. – Селия, похоже, была несколько удивлена моим замечанием. – Все обучавшиеся в Лондоне повара дорого стоят. Я бы, пожалуй, сказала, что миссис Гофф у нас даже недоплачивают.
Я улыбнулась.
– Не волнуйся, Селия! Я вовсе не собираюсь приводить на кухню повара из работного дома. Просто я вечно работаю со счетами и не могу не прикидывать стоимость всего, что вижу.
– Похоже, в твоих счетах не было ничего плохого, потому что твои глаза, Беатрис, снова сияют зеленью, а это бывает, только когда ты довольна, – задумчиво промолвила Селия. – Ты получила какие-то хорошие новости?
– Да, – сказала я. – Я получила письмо, которое очень меня обрадовало.
Лицо Селии так вспыхнуло, словно у нее внутри зажглась тысяча свечей.
– Джон возвращается домой! – радостно воскликнула она.
– Нет, – раздраженно бросила я. – Джон домой не возвращается. Эта была чисто деловая новость. Ты этого не сможешь ни понять, ни оценить. А от доктора Роуза я ничего в этом месяце не получала, но в своем последнем письме он сообщил, что понадобится приложить еще немало усилий, прежде чем Джон сможет вернуться домой.
Селия тут же опустила голову и уткнулась взглядом в тарелку; было ясно, что глаза ее полны слез, которые вот-вот прольются из-под опущенных ресниц. Когда она подняла голову и снова посмотрела на меня, губы у нее все еще слегка дрожали и от разочарования, и от того, как резко я отмела ее надежды.
– Извини, дорогая, – сказала она. – С моей стороны было безрассудством высказывать подобные мысли только потому, что ты сказала, будто у тебя есть хорошие новости. Но я постоянно думаю о Джоне и о том, как ты несчастлива без него, и стоит мне тебя увидеть, как у меня сразу возникает мысль, что лишь его возвращение смогло бы вновь заставить тебя расцвести, стать такой, как прежде.
Я не слишком вежливо кивнула и переключила свое внимание на завтрак. Селия, как я заметила, ела совсем мало и отказалась даже от фруктов.
– Не поехать ли тебе в Бристоль, чтобы с ним повидаться? – осторожно спросила она. – Ведь прошло уже так много времени… Джон уехал в первую неделю декабря, а теперь уже середина апреля…
– Нет, – твердо сказала я. – Я полагаю, что в данном случае мне следует подчиняться советам доктора Роуза. Он обещал сообщить мне, когда Джон сможет принимать посетителей. Вряд ли моему мужу пойдет на пользу мой неожиданный визит, если он еще не готов меня увидеть.
Селия кивнула, подчиняясь, и ласково сказала:
– Как хочешь, дорогая. Но если ты вдруг передумаешь или этот доктор Роуз напишет, что тебе можно поехать, то знай, что Ричард прекрасно сможет несколько дней обойтись и без тебя. А уж я постараюсь непременно сделать все, чтобы ему было хорошо.
– Я знаю, Селия, – мягко сказала я. – Спасибо тебе.
Между тем мне совершенно не с чего было испытывать такое лихорадочное нетерпение. Апрельские дни постепенно становились все теплее и длиннее; все выше и крепче становились зеленые ростки пшеницы, которая должна была оплатить наследство моего сына; и юристы в Лондоне уже начали процесс слушаний и контраргументов, за которым должен был последовать разбор дела в Палате лордов. Банкиры, прочитав мое письмо, удивленно подняли брови, но были связаны постановлением об опеке, и в одно прекрасное апрельское утро на счет Чарлза Лейси было переведено 200 000 фунтов – поистине огромное состояние. Но каждый грош в нем должен был окупиться сторицей для меня и моего сына.
На Чарлза Лейси, который вполне мог явиться в Широкий Дол как хозяин после смерти Гарри и мог бы даже вышвырнуть меня оттуда, я обрушила буквально ливень из денег Джона, не оставив себе ни гроша. Ни гроша для Широкого Дола. Одним расточительным жестом я швырнула состояние МакЭндрю под ноги своему кузену, оставив Широкий Дол без защиты, без запасного капитала.
И мне пришлось написать еще одному лондонскому банкиру, чтобы выяснить возможность нового залога: мне необходимо было купить новое стадо взамен того, которое нам пришлось продать по невыгодной цене. Это было насущно необходимо, но я надеялась, что, возможно, сумею вскоре вернуть потраченное.
А между тем в лечебнице доктора Роуза выздоравливал мой муж. Его руки перестали дрожать, глаза утратили лихорадочный блеск. За своим зарешеченным окном он видел зеленеющие деревья, слышал крики грачей, таскающих ветки для гнезд, и неумолчное воркование лесных голубей. Он еще не знал, что стал нищим. Он еще не знал, что я, по сути дела, уничтожила его. Но он упорно поправлялся, набирался сил и даже обо мне теперь думал не с таким ужасом и отвращением.
«Он, похоже, пришел к выводу, что несчастья последних месяцев не были сознательно вами подстроены, – писал доктор Роуз со свойственным ему тактом, – и теперь считает вас обыкновенным, смертным человеком, а не ведьмой. Я знаю, как сильно вас это огорчало, и думаю, вам приятно будет узнать, что эти его иллюзии и заблуждения так быстро развеялись».
Я улыбалась, читая это. Надежда на то, что Джон сумеет полностью восстановиться и вернуться к нормальной жизни, была весьма хрупка; все это может рухнуть в один момент, стоит ему обнаружить, что он стал нищим и живет в Широком Доле из милосердия. Что в моей власти не дать ему даже нескольких медяков, чтобы он мог отправить письмо отцу, пока я не проверю, о чем он ему написал.
«Я думаю, он скоро будет вполне готов вернуться домой, – писал доктор Роуз. – Я уже обсуждал это с ним, и он уверен, что сумеет вести дома обычную жизнь, не испытывая при этом потребности злоупотреблять алкоголем. В настоящее время он полностью воздерживается от алкоголя, хоть и видит за столом разнообразные напитки. Это означает, что он вполне способен сопротивляться своему пагубному влечению. Дома он, по всей вероятности, сможет порой даже выпить бокал вина вместе с родными и друзьями, и ни к каким дурным последствиям это не приведет. Во всяком случае, сам он уверен, что вполне научился с этим справляться, и я полагаю, что он прав».
Я кивнула и аккуратно сложила письмо.
Джон, возможно, больше и не испытывает передо мной безумного страха, но он по-прежнему ненавидит и презирает меня. Мне даже стало не по себе при мысли о том, как сильно он, должно быть, ненавидит меня сейчас, после того как по моей команде его связали, напичкали наркотиком и заключили в комнату с зарешеченными окнами. И я в свою очередь ненавидела и боялась его. Если бы я была вольна в своих поступках, он никогда бы не вернулся домой, мой умный, ловкий, сообразительный муж с такими проницательными голубыми глазами. Ведь на его стороне была мужская власть, мужские законы и мужские традиции, и вот их-то я и боялась. Кроме того, Джон теперь прекрасно знал, что я из себя представляю; он очень многое понял – или догадался, – и я боялась того яркого света, который он способен пролить на некоторые события моей жизни. Если бы я была вольна в своих поступках, Джон вполне мог бы остаться за решеткой навечно. Но я выбрала для осуществления своей цели не самого удачного врача. Доктор Роуз был хорошим практикующим врачом, симпатизирующим своим пациентам. В первый момент он оказался на моей стороне, потому что моя история звучала более убедительно, мое лицо было прекрасно, а мой муж, совершенно очевидно, лишился рассудка. Но я никак не могла обратиться к доктору Роузу с просьбой навсегда оставить Джона в своей лечебнице. Так что Джон вскоре должен был вернуться домой.
И, насколько я его знаю, меня он будет по-прежнему ненавидеть, а любить будет Селию и ее ребенка. А значит, до этого я непременно должна завершить тот план, согласно которому Широкий Дол унаследует Ричард. И это нужно сделать, пока Селия не получает ни поддержки Джона, ни, что еще хуже, известий от него. Мне будет куда легче заставить Селию принять новость о том, что Джулия и Ричард становятся сонаследниками, если у нее не будет вообще никакой помощи – даже со стороны такого сломанного тростника, как мой выздоравливающий муж.
Я взяла перо и положила перед собой листок бумаги, на котором быстро и легко написала ответ: «Какие чудесные новости! – писала я доктору Роузу. – Я поистине счастлива!» И я тут же посоветовала доктору быть осторожнее с разговорами о скором возвращении домой, потому что моя невестка, которая была так расстроена болезнью Джона, теперь и сама заболела, а потому, писала я, Джону лучше еще немного задержаться в лечебнице, где царят мир и покой, пока у нас, в Широком Доле, не установится прежняя гармония.
Я поставила внизу свою уверенную подпись, запечатала письмо и с облегчением понюхала горячий воск. Затем я откинулась на спинку кресла и стала смотреть в окно.
Великолепие нарциссов Широкого Дола продолжало радовать глаз; даже красные, как вишни, молодые побеги роз прятались в густых облаках множества желтых нарциссов. Более бледными и хрупкими в отличие от садовых нарциссов выглядели дикорастущие цветы-самосевки на лугу. Я видела, как Тобермори, наклонив свою прекрасную голову, пощипывает нарциссы, а когда он выпрямился, изо рта у него свисал желтый цветок, делая его похожим на клоуна. Я даже пожалела, что рядом со мной нет Ричарда; малыш с удовольствием бы полюбовался этим комическим зрелищем. У нашего лучшего гунтера вид и впрямь был самый дурацкий. На опушке леса за выгоном коричневая земля была, точно зеленым ковром, покрыта пятнами молодого мха и крошечных молодых ростков, тянущихся к весеннему солнцу. Все росло и зеленело, птицы вили гнезда и с громким пением ухаживали друг за другом, и во всем этом громкоголосом, напоенном сладостными ароматами мире только я, похоже, оставалась холодной и мрачной – в траурном платье, целыми днями сидящая в одиночестве за закрытыми дверями.
Я вскочила из-за письменного стола и с непокрытой головой, охваченная внезапным нетерпением, выбежала в сад, набросив на плечи шаль. Я быстро шла по дорожкам, вдыхая теплый воздух и наплывающий волнами аромат нарциссов, затем, открыв маленькую садовую калитку, вышла на выгон, и Тобермори, увидев меня, рысцой побежал мне навстречу, дугой изогнув свою красивую шею и высоко подняв голову.
Я протянула руку, чтобы погладить его. Конь тут же ткнулся мордой мне в бок и стал шарить мягкими губами по карманам, надеясь на лакомство.
– Ничего там нет, – ласково сказала я ему. – Я забыла взять. Я потом тебе что-нибудь принесу.
Казалось, лед, в который вмерзло мое сердце, начинает понемногу таять, и я двинулась дальше, к лесу, и вскоре услышала яростное бормотание Фенни, которая после разлива выглядела все еще весьма полноводной и бурной, а вода в ней была совершенно коричневой из-за паводковых наносов с холмов. Тропинка, по которой я шла, к мосту не вела, но там было большое упавшее дерево, по стволу которого я всегда успешно перебиралась на тот берег. Гарри, правда, всегда опасался, что слишком тяжел и дерево может просто обрушиться под ним, а Селия и вовсе боялась на это дерево ступать. Сейчас ровно посредине ствола сидели трое детишек. Это были младшие дети Ходгета, нашего привратника; они весело болтали над водой ногами, и каждый держал в руках прут с привязанной к нему леской. Они явно надеялись наловить колюшки. Сара Ходгет поклялась, что больше ни за что не станет рожать, когда лет пять назад родила двойню, и ухитрялась как-то сдерживать свое обещание, из-за которого, похоже, отношения с мужем у нее были довольно напряженные.
– Привет! – крикнула я, и голос мой был звонок, как пение черного дрозда, расправляющего перышки на солнце.
Такое ощущение, словно этот залитый солнцем лес накрыло темное облако. Пятилетние близнецы – совсем еще малыши, очень хорошенькие, с темно-каштановыми кудряшками и огромными испуганными голубыми глазами – так резко вскочили, что чуть не свалились в воду. Их сестренка, очень серьезная семилетняя девочка, схватила близнецов за руки и потащила по стволу дерева на другой берег реки.
– Прощения просим, мисс Беатрис, – крикнула она, когда они уже стояли на тропинке, ведущей к их дому.
– Не уходите! – крикнула я. – Вы же удочки свои забыли!
Но девочка упорно продолжала тащить за собой малышей, испуганно на меня оглядываясь. Я быстро дошла до середины ствола, собрала их самодельные удочки, ободряюще улыбнулась малышке и с шутливым упреком сказала:
– Кто же свои снасти бросает! Как же вы будете летом лососей ловить?
Старшая девочка обернулась, испуганно вытаращив глаза.
– Мы не за вашими лососями пришли, мисс Беатрис! – стала оправдываться она. – Младшенькие просто так играли, будто рыбку ловят, мы ничего у вас не взяли. И ничего здесь, на вашей земле, не сломали. Мы прошлым летом всегда здесь играли. Мы тогда еще не знали, что нам этого нельзя. Вот младшеньким и захотелось снова сюда прийти. Вы простите нас, мисс Беатрис, простите!
Я едва ее понимала, так быстро она тараторила. Я спрыгнула с дерева, держа в руках удочки и собираясь обнять этих ребятишек. Я хотела сказать им, что они, конечно же, могут ловить в речке рыбу, как и я сама делала это в детстве. Что у них непременно должно быть настоящее детство – детство в Широком Доле, где леса простираются так далеко, что до их края маленьким ножкам и не дойти, а река бежит быстрее, чем ты по берегу рядом с ней.
– Идите-ка сюда, – ласково сказала я и сделала шаг по направлению к ним.
Но девочка пронзительно вскрикнула и бросилась бежать, волоча за собой «младшеньких». Ее сестренка споткнулась и упала, и она, подхватив ее на руки, хотя для нее это была явно непосильная ноша, шатаясь, побрела дальше, а мальчик рысцой бежал рядом. Я в три прыжка догнала их, схватила старшую девочку за плечи и повернула к себе лицом, но она изо всех сил старалась на меня не смотреть. Ее глаза, полные ужаса и слез, метались из стороны в сторону, взгляд был совершенно дикий.
– В чем дело? – спросила я неожиданно резко – так сильно подействовали на меня ее страх и отчаяние. – Что с вами такое?
– Вы только не посылайте за нами солдат, мисс Беатрис! – взвыла девочка, совершенно не владея собой от страха. – Не посылайте за нами солдат! Не приказывайте им нас повесить! Мы же ничего плохого не сделали. Мы ничего не сломали, не подожгли. Пожалуйста, мисс Беатрис, не велите нас наказывать!
Я невольно отдернула руки, словно ее костлявые плечики меня обожгли, откинула назад голову и даже зажмурилась, столь тяжкий удар по моему самолюбию нанесли эти слова. Меня, мисс Беатрис, любимицу всего Широкого Дола, эти дети считали злодейкой! Пока я стояла, пошатываясь и закрыв глаза, девчушка, схватив близнецов за руки, припустила с ними по тропинке к дому и наверняка почувствовала себя в безопасности, только оказавшись за запертой калиткой. Потому что там, в лесу, осталась «страшная» мисс Беатрис, зеленые глаза которой способны видеть даже сквозь стены! Мисс Беатрис, которая всегда знает, чем занимаются на ее реке дети, которая может обогнать на своем коне даже самого быстрого бегуна в деревне – она даже Неда Хантера могла обогнать, хотя он всегда бегал быстрее всех парней в деревне. Мисс Беатрис, которая приказала повесить самого честного человека в деревне, дедушку Тайэка. Она так и стоит там, в лесу, вся в черном, как ведьма, и охраняет ту землю, которая теперь принадлежит только ей одной; и никому больше этой землей пользоваться нельзя; а детям лучше играть на деревенской улице, не то она за ними погонится. И теперь нужно как можно чаще молиться, иначе ночью за тобой может прийти эта ведьма, мисс Беатрис, а ей на глаза лучше не попадаться. Ну, а если на тебя ее тень упадет, тогда вовсе пиши пропало. Вот что думали эти дети, стоило мне сделать пару шагов по направлению к ним.
Я, точно слепая, нашарила у себя за спиной ствол дуба и, почувствовав под ледяными пальцами его грубую кору, прислонилась к нему спиной и закинула голову. Надо мной раскинулись мощные ветви, а выше сияло синее небо, в котором с полными клювами строительного материала для гнезд носились птицы, переживающие брачный период. Но я ничего этого не замечала. Каждый раз, когда мне начинало казаться, что я уже пережила в этом году все самое плохое, у моих ног вновь разверзалась пропасть, и мне оставалось только храбро шагнуть туда и надеяться лишь на собственное мужество во время долгого-долгого, как в кошмарном сне, падения. Такое ощущение, словно любое мое, даже самое мелкое, действие имело теперь самые что ни на есть трагические последствия. Простое решение превратить часть общинных земель в пшеничные поля закончилось тем, что я стояла сейчас у этого дуба, окруженная непроницаемой черной стеной отчаяния. Меня ненавидели и проклинали на этой земле все те, кого я когда-то любила, кого считала своими.
Пальцы мои, как когти, до боли впились в кору – только так я могла заставить себя стоять на ногах и сохранять здравомыслие. Но я чувствовала себя настолько больной от этих душевных страданий, от этой беспросветной черноты, что могла лишь стоять, не двигаясь с места. Я даже домой не могла пойти. Впервые в жизни я мечтала просто уснуть прямо здесь, на этой милой моему сердцу влажной земле Широкого Дола, и никогда больше не просыпаться, не чувствовать этой боли и этого одиночества. Я стояла, прислонившись спиной к дереву и испытывая нестерпимую душевную боль и невыносимую печаль, и мне казалось, что я угодила в капкан, и ноги мои переломаны, и моя кровь вытекает на землю, а я в ужасе смотрю, как она течет, и не могу пошевелиться. Я действительно чувствовала себя так, словно истекаю кровью и скоро умру. Вся моя мудрость, вся моя любовь и здравое отношение к Широкому Долу куда-то исчезли, вытекли из меня; единственное, что мне осталось, это пустые знания, которыми любой дурак может наполнить свою голову. Например, Джон Байен или Гарри. Такие люди никогда не слышат, как бьется в глубине земли темное сердце Широкого Дола. Но теперь и я уже не могла больше услышать его мощного биения.
Отрезвил меня холод. В какой-то момент я, видимо, все же сползла по стволу и теперь стояла на коленях. Земля была влажной, и платье мое быстро пропиталось водой и покрылось грязными пятнами. Оказалось, что солнце уже клонится к западу; подул промозглый ветерок, как это часто бывает весной ближе к вечеру. Этот ветер подействовал на меня, как вылитый на голову кувшин холодной воды. Я встряхнулась, точно мокрый щенок, и неловко поднялась на ноги. Они совершенно затекли и слушаться не желали, так что я, прихрамывая, как дряхлая старуха, стала осторожно перебираться через реку по стволу поваленного дерева, а потом двинулась к дому, по-прежнему неуклюжая, медлительная, совершенно замерзшая и по-прежнему чувствуя себя старухой, а отнюдь не гордой основательницей рода. Не матриархом из моих фантазий, не окруженной детьми и внуками счастливой прародительницей, потомки которой будут вечно править Широким Долом. Нет, скорее я чувствовала себя побежденной жалкой каргой, которой до смерти рукой подать, которая к этой смерти готова и, мало того, страстно ее жаждет.
Неделей позже пришла почта, и я перестала думать о смерти, получив документы об изменении права наследования. Наконец-то дело было завершено! Я так впилась в эти бумаги глазами, словно они были пищей для моего голодного разума. Отныне права наследства переходили от Чарлза Лейси Джулии и Ричарду. И свидетельствовали, что первый же ребенок Джулии или Ричарда, девочка или мальчик, навечно обретает права наследования. Я улыбнулась. Что ж, вполне может статься, что на свет появится еще одна «мисс Беатрис», которая станет полноценной хозяйкой Широкого Дола. Если мой первый внук окажется медноволосой девочкой с зелеными, чуть раскосыми глазами, то именно она будет владеть этой землей по праву, и за это право ей не придется платить ни гроша. Она унаследует эту землю, она будет ездить по ней верхом, не чувствуя ни малейшей угрозы и, напротив, чувствуя себя хозяйкой всего этого. А если она унаследует мою смекалку, то вый-дет замуж за какого-нибудь бедного сквайра и родит для Широкого Дола детей, а самого мужа спровадит куда-нибудь в Ирландию или в Америку, смутно пообещав ему вскоре за ним последовать и отнюдь не собираясь свое обещание выполнять. И если она унаследует мой характер – но, в отличие от меня, не станет разбивать себе сердце и тратить свои мозги на решение бессмысленных задач, – то будет испытывать радость и воодушевление, чувствуя полную свободу на своей любимой земле. И люди Широкого Дола тоже будут радоваться тому, что у них такая хорошая хозяйка, щедрое жалованье и стол никогда не пустует.
К свидетельству об изменении прав наследования был пришпилен договор, который должен будет воплотить все это в жизнь. Это был наполовину исписанный лист тонкого пергамента, по краям которого виднелись, как обычно, многочисленные красные печати и сверкающие ленты; он содержал всего несколько важных, хотя и достаточно простых, пунктов, в которых перечислялось, что мы получаем и сколько все это будет стоить.
Документ гласил, что данный договор заключен между Ричардом МакЭндрю и Джулией Лейси, которым в настоящий момент один год и два года соответственно, о том, что поместье Широкий Дол, в дальнейшем именуемое Поместье, будет принадлежать им обоим совместно, то есть будет совместно ими унаследовано, а в дальнейшем перейдет по наследству первому ребенку, рожденному в законном браке того или другого из сонаследников.
Я держала этот документ спокойной рукой, вдыхая запах воска и чувствуя на ощупь благородный мягкий пергамент. Шелковые красные ленты на нижнем краю грамоты казались теплыми. Я едва пробежала глазами содержание документа; пока что я просто наслаждалась самим его существованием, которое так дорого мне стоило.
Склонив голову, я прижалась к документу лицом. Пергамент тоже казался теплым, но с отчетливой текстурой, да и печати на нижнем краю листа царапались, как короста. От шелковых лент исходил слабый запах духов, словно их покупали «на ярды» у какого-нибудь разносчика, который духи и пудру хранит в одном ящике с шелками. Слеза скатилась по моей щеке, и я, подняв голову, поспешно стерла слезинку, чтобы не оставить на драгоценном документе грязного пятна. Всего одна слезинка, да и ее я обронила скорее от облегчения, сознавая, что теперь вся эта борьба закончена и можно немного отдохнуть. Или же потому, что чувствовала себя победительницей, несмотря ни на что. Я и сама не смогла бы сказать с уверенностью, что вызвало у меня слезы. Та невнятная боль, которая отрезала меня от Широкого Дола, словно отрезала меня и от собственной души, и я уже не могла толком понять, выиграла я или проиграла. Теперь мне оставалось только идти вперед, вперед и вперед. Я стала острым плугом в борозде, острой косой в поле. Я уже не могла бы сказать, не разрежу ли я лемехом какую-нибудь жабу, не изуродую ли блестящим лезвием притаившегося в траве зайчишку, не окрасится ли это смертельно опасное лезвие моей собственной горячей кровью.
Затем я позвонила и заказала карету, намереваясь сегодня же ехать в Чичестер, и попросила Страйда позвать Гарри. Мне было нужно, чтобы Гарри сопровождал меня в город, ибо это дело было слишком важным для нас обоих.
И, разумеется, перед самым последним и самым простым препятствием Гарри вдруг заупрямился. Но я все же настояла на поездке.
– Зря мы все-таки не подождали возвращения Джона! – уже вполне успокоившись, сказал он, когда мы колыхались по подсохшей дороге, ведущей в Чичестер. Вокруг на равнинах раскинулись прелестные деревушки, и мы медленно проезжали мимо них по верхней дороге, тянущейся по щеке холма.
– Ну, неизвестно, сколько еще времени Джон там пробудет и в каком он состоянии, – непринужденным тоном откликнулась я. – По-моему, пусть лучше все будет подписано и скреплено печатью, пока все перипетии этой истории еще свежи в нашей памяти. А потом мы обо всем расскажем им обоим – и Селии, и Джону. Пусть это будет наш им сюрприз.
– Да уж, сюрприз… – с сомнением протянул Гарри. – Нет, все-таки это нехорошо по отношению к Джону! Я знаю, ему очень нравится Широкий Дол, но ведь мы без спросу потратили все его состояние, желая сделать Ричарда наследником поместья. А что, если Джон вовсе этого и не хотел? Нет, лучше было все-таки сперва с ним посоветоваться.
– Может, так было бы действительно лучше, – охотно согласилась я. – Но это же не от нас зависело. Если бы мы стали с этим тянуть, неизбежно возникли бы слухи о бесплодии Селии, и она, несомненно, была бы страшно огорчена. И потом, эти слухи заставили бы Чарлза Лейси непременно повысить цену, потому что тогда он был бы уверен, что поместье достанется ему. Нет, мой дорогой, мы были просто вынуждены продолжать все, раз уж начали. Ничего, Джон нас поймет. Я думаю, он и сам принял бы такое решение.
– Ну, если ты так уверена… – окончательно успокоившись, протянул Гарри и поудобнее устроился в другом углу. Карета при этом слегка покачнулась. Гарри пугающе быстро набирал вес. Мне иногда казалось, что вскоре на конюшне Широкого Дола не найдется такого коня, который будет в состоянии нести на себе его тушу, если он будет продолжать поглощать пищу в тех же количествах, как сейчас. Кроме того, после завтрака Гарри любил устроиться в кресле, посадив на колени детей, или отправиться с ними на неторопливую прогулку по дорожкам сада. Если у него такое же слабое сердце, как у нашей матери, то долго он не протянет, спокойно думала я.
– Собственно, подписать этот договор мы могли бы и после возвращения Джона, – снова затянул Гарри старую песню. Ему явно было все еще не по себе. – Все-таки, Беатрис, это выглядит весьма странно. Там говорится: «подпись родителя или опекуна Джулии Лейси», и я поставил свою подпись. Затем – «подпись родителя или опекуна Ричарда МакЭндрю», и там тоже красуется мое имя! Любой, кто нас не знает, сразу подумал бы, что тут дело нечисто.
– Да, но нас все знают! – весело возразила я. – И, что совершенно очевидно, это наиболее разумный и простой способ решения всех проблем. Не вижу тут ничего нас порочащего. Единственный, кто хоть в чем-то проигрывает, это Чарлз Лейси, однако он получает великолепную компенсацию.
Гарри засмеялся, услышав мои слова.
– Бедный старый Чарлз! – сказал он. – А ведь, должно быть, уже начал надеяться, да, Беатрис?
– Да, – улыбнулась я. – Но тебе, Гарри, удалось его перехитрить!
– Нам удалось. Мы с тобой отлично его перехитрили, – великодушно признал он.
– Но благодаря твоей блестящей идее, – возразила я. – Твоя идея была положена в основу всего нашего плана. И теперь этот план приносит плоды. Как замечательно ты предопределил наше будущее, Гарри! Какая надежная, спокойная, счастливая жизнь будет у наших детей!
Гарри благодарно кивнул и посмотрел в окно. Мы уже спускались с холмов, выехав на густо обсаженную деревьями дорогу, ведущую к Чичестеру. Слева виднелся особняк де Курси, окруженный высокими стенами; дальше по дороге стояли другие, столь же огромные дома. Затем вереницей потянулись маленькие коттеджи бедняков, и вскоре колеса кареты загрохотали по мощеным улицам, где со всех сторон высились городские дома преуспевающих жителей Чичестера, над которыми торчал шпиль кафедрального собора.
Я так хорошо сумела внушить Гарри, что ему следует гордиться своим острым умом и предусмотрительностью, что он без понуканий вошел в контору юристов и в двух местах поставил свою подпись на этом столь драгоценном для меня документе.
– Если честно, все это выглядит немного странно, – признался наш солиситор, решивший, что в связи с нашими многолетними отношениями ему можно высказать некоторые сомнения. – Неужели так уж обязательно все это делать без подписи доктора Мак-Эндрю?
– Мой муж болен, – тихим голосом промолвила я. Солиситор кивнул. Этот старый седой человек, всю жизнь просидевший в своем темноватом кабинете, тоже, конечно, слышал разные сплетни и тоже сожалел, что я, самая хорошенькая девушка в графстве, вышла замуж за пьяницу. – Мы считаем, что лучше все поскорее оформить без него, потому что неизвестно, когда он снова будет достаточно хорошо себя чувствовать и вернется домой. – Я умолкла, с трудом сдерживая слезы. У меня даже голос стал звучать хрипло.
Солиситор сочувственно сжал мою руку.
– Простите меня, миссис МакЭндрю, – ласково сказал он, – зря я это сказал. Умоляю, не думайте больше о моих словах.
Я кивнула и одарила его очень милой всепрощающей улыбкой, а он при расставании тепло пожал мне руку и поцеловал ее. Усевшись в карете поудобней, я откинула голову на подушки с таким видом, словно смертельно устала, и Гарри, увидев это, тут же принялся меня утешать.
– Не надо так печалиться, Беатрис, – сказал он и взял меня за руку. – Джону скоро станет лучше, я уверен. Вы еще сможете снова быть счастливы. Селия, во всяком случае, считает, что у вас есть будущее. Но что бы ни случилось с твоим мужем, ты и твой сын всегда будете в полной безопасности у нас в Широком Доле.
Я кивнула, слегка пожала его руку и сказала:
– Да, мой дорогой, спасибо. Сегодня мы с тобой, Гарри, сделали большое дело!
– И это действительно так, – подтвердил он. – Когда же мы сообщим об этом Селии?
Думала я быстро. Мне не хотелось ничего рассказывать Селии, но я прекрасно понимала, что мне этого никогда и не захочется. Если мы объявим ей «радостную» новость о перемене прав наследования и о том, что сонаследниками поместья являются отныне Джулия и Ричард, она наверняка будет против. Ей было известно, что они наполовину брат и сестра, что оба они мои дети, но она, разумеется, не знала и даже не догадывалась, что отцом их обоих является ее муж. Впрочем, ей уже не нравилось, что между малышами возникла на редкость нежная дружба. Как не нравилось и то, что я имею к ее Джулии самое непосредственное отношение.
– Давай я первая поговорю с Селией, – предложила я, продолжая размышлять. – Она наверняка расстроится, узнав, что ты узнал о ее бесплодии. Я думаю, будет лучше, если я скажу ей, что, хоть ты все и знаешь, тебя это не слишком беспокоит, потому что у вас уже есть Джулия, которую ты очень любишь и весьма дальновидно постарался сделать своей наследницей.
Гарри кивнул.
– Хорошо, раз ты считаешь, что так будет лучше. К тому же ты скорее найдешь нужные слова, а то я сам сейчас способен думать только об обеде. До чего же холодные вечера в апреле! Как ты думаешь, у нас будет суп на обед?
– Почти наверняка, – заверила его я. – Знаешь что, после обеда я поговорю с Селией в гостиной, а ты, если можно, подольше посиди за своим порто, договорились? И не приходи, пока я за тобой не пошлю.
– Ладно, – тут же согласился он. – Выпью порто и съем немного сыру. И, уверяю тебя, особенно спешить я не буду.
Сыр, заказанный Гарри, оказался настолько пахучим, что Селия тут же встала и предложила нам с ней перейти в гостиную. Я засмеялась и тоже встала из-за стола, прихватив с собой с большого блюда с фруктами румяное яблоко.
– Селия права, Гарри. Я лучше съем это яблоко в гостиной, лишь бы не сидеть за одним столом… с твоим сыром!
Гарри добродушно хмыкнул, ничуть не поколебленный моей шуткой.
– Вы обе такие милые, но в сыре ничего не понимаете, – сказал он. – Ступайте в гостиную и поболтайте всласть. Знаешь, Селия, мне кажется, Беатрис хочет сообщить тебе кое-какие хорошие новости.
Глаза Селии радостно вспыхнули, ее взгляд метнулся ко мне, и лицо осветила улыбка, которая всегда была у нее наготове.
– О, Беатрис! Это связано с Джоном? – спросила она, как только за нами закрылась дверь гостиной.
– Нет, – сказала я. – Пока еще нет. Но последнее письмо, которое я получила, было в высшей степени обнадеживающим. Доктор Роуз говорит уже всего о нескольких месяцах, а не о каком-то неопределенно долгом сроке.
Селия кивнула, но свет в ее глазах погас. Было заметно, что она сильно разочарована. И я не без свойственной мне зловредности подумала, что, пожалуй, чрезмерно усилившийся интерес Гарри к еде и его все увеличивающийся вес стали причиной того, что для Селии он из золотоволосого принца первой поры их супружеской жизни стал превращаться в скучного, не вызывающего пылких чувств обжору. Тогда как Джон, тонкий, напряженный, с его отчаянным горем, с его нервными и страстными попытками победить пьянство и вырваться из-под моего властного контроля, вполне мог вызвать у Селии любовь, которую весьма трудно было бы назвать сестринской.
Но я не была готова сейчас с помощью шуток выведывать у Селии правду. Сперва мне нужно было преодолеть главное препятствие, и я все свои мысли, все свое внимание вложила в то, чтобы подобраться к разговору о наследстве, хотя и не особенно рассчитывала на благоприятный исход этого разговора.
– И все-таки новость, о которой я хочу тебе сообщить, хорошая, – сказала я и, пройдя через всю комнату, устроилась у камина в широком кресле с подлокотниками, подтащив поближе скамеечку и поставив на нее ноги, чтобы чувствовать жар горящих дров. Селия, утонув в кресле напротив, не сводила с меня глаз. В мерцающем свете камина и горящих свечей она выглядела как очень юная и очень серьезная школьница. Слишком юная, чтобы быть замешанной в столь сложном заговоре, основанном на бесконечной лжи, обманных действиях и полуправдивых признаниях. И слишком серьезная, чтобы предпринимать безнадежные попытки вырваться на свободу, оказавшись у меня в руках.
– Гарри знает, что ты бесплодна, – с места в карьер начала я. – Он давно уже отчаялся иметь сына и наследника.
Селия чуть слышно охнула и невольно поднесла руку к щеке, словно причиненная ей душевная боль откликнулась болью зубной.
– О нет! – вырвалось у нее.
– Но у него, к счастью, возникла одна чудесная идея, благодаря которой можно будет переписать имение на Джулию, – сказала я. – Это полностью его план, хотя и я, конечно, участвовала в его осуществлении. Мы ничего тебе не говорили, потому вообще не были уверены, что такое возможно. Но оказалось, что возможно. Гарри сможет выкупить право на наследство у нашего кузена Чарлза Лейси и переписать все права на Джулию, они с Ричардом станут сонаследниками Широкого Дола и впоследствии будут совместно им править.






