Широкий Дол Грегори Филиппа
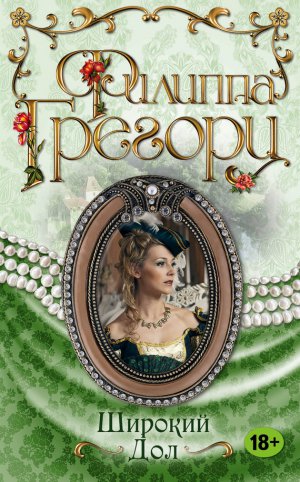
Глава одиннадцатая
Верхний этаж западного крыла, по сути дела чердак, всегда использовался как кладовая. Это было длинное, во всю длину дома, помещение с низким потолком и окнами, смотревшими и на север, на общинные земли, и на юг, на наш сад. Когда я была девочкой и бурлившая во мне энергия не находила выхода, я часто, особенно в дождливые дни, поднималась сюда, где никто не мог меня услышать, и кричала, пела, танцевала до упаду. Потолок здесь был «ломаный», повторяющий форму крыши, а окна были сделаны так низко, что мне уже в одиннадцать лет приходилось наклоняться, чтобы в них выглянуть. Раньше весь этот чердак был забит старой мебелью, изгнанной из нижних комнат, но когда я велела эту мебель отполировать и расставить у себя в западном крыле, на чердаке не осталось почти ничего, кроме старых отцовских инструментов для возни с кожей и кое-каких других его вещей.
Я всегда считала этот чердак своим убежищем и теперь тоже не хотела привлекать к нему внимания в свете того, с какой целью я намеревалась его использовать. Я сама убрала и шорный инструмент, и недоделанные седла, над которыми трудилась в свободное время, и теперь стойка для седел стояла посреди помещения, точно приготовившаяся к прыжку лошадь. Рабочие куртки отца, его сапоги, записные книжки с расчетами и планами по разведению скота и сделанные им рисунки седел я бережно сложила в сундук. На виду остались лишь отцовский охотничий нож и длинный кнут.
Затем я позвала из деревни плотника и велела ему вделать в стену два прочных крюка примерно на высоте мужского плеча и еще два почти на уровне пола. Он разворчался:
– Надеюсь, я все сделал как надо, вот только не знаю, на кой эти крюки здесь нужны? Вот и не могу сказать, мисс Беатрис, будут ли они достаточно хорошо вам служить.
– Все просто отлично, – утешила я его, осмотрев крюки, и заплатила ему вдвойне – за беспокойство и за молчание. Для него это была неплохая сделка, и он прекрасно понимал: стоит ему распустить язык, и я сразу же об этом узнаю, но тогда ему уж точно нигде в Сассексе работы не получить. Когда плотник ушел, я привязала к крюкам крепкие кожаные ремни. Помещение было просто идеальным. У камина уже стояла старая широкая козетка, и никто не заметил, что я взяла из своей комнаты парочку подсвечников. На полу вместо ковра я расстелила несколько овечьих шкур и поняла, что все готово.
Да, все было готово, но я никак не могла начать. Это вряд ли было проявлением моей сдержанности или нерешительности, но я не чувствовала в себе необходимой уверенности – а точнее, мании, – чтобы осуществить задуманное. Ведь теперь мне нужно было потакать неким весьма специфическим вкусам Гарри, которые очень отличались от моих собственных, куда более простых и естественных. Мне нужен был некий толчок, который подстегнул бы меня, заставил бы действовать. И даже то, что Селия стала слишком поздно спускаться к завтраку и не успевала налить мне кофе, и даже то, что под глазами у нее постоянно были темные круги, а на устах счастливая, как у младенца, улыбка, на меня не действовало. Я по-прежнему никаких шагов не предпринимала. Прошла уже неделя, как я была готова, но в то же время настоящей готовности в себе не чувствовала. И вот как-то за ужином Гарри сказал мне:
– Могу я поговорить с тобой, Беатрис? Ты посидишь со мной, пока я буду пить порто?
– Конечно, – спокойно ответила я и, дождавшись, когда Селия и мама выйдут из комнаты, уселась рядом с ним во главе стола. Дворецкий принес мне бокал наливки, поставил перед Гарри графин с порто и ушел.
Дом затих. Я думала о том, помнит ли Гарри другой, почти такой же вечер, когда мы с ним сидели и молчали, а вокруг мирно поскрипывал старый дом, и языки пламени вспыхивали и затухали в камине, и через несколько мнут мы буквально растворились друг в друге прямо здесь, на жестком деревянном полу… Но, заметив совершенно мальчишескую улыбку Гарри и ясный счастливый свет в его глазах, я поняла: ничего этого он не помнит, ни о чем таком больше не думает и любовью занимается теперь с законной женой в кровати сквайра Широкого Дола, а наши с ним тайные страстные свидания остались в далеком прошлом.
– Я должен рассказать тебе о том, чему сам я безумно рад, – сказал Гарри. – Впрочем, вряд ли для тебя это будет таким уж сюрпризом. Как, собственно, и для всех в нашем доме.
Я вертела в пальцах изящную ножку бокала, и голова моя была совершенно пуста.
– Доктор МакЭндрю обратился ко мне как к главе дома: он просит твоей руки, – несколько напыщенно сообщил мне Гарри, и я невольно вскинула голову, а в моих зеленых глазах полыхнуло пламя.
– И что же ты ему ответил? – Мой вопрос прозвучал резко, как выстрел, и Гарри от удивления даже стал немного заикаться.
– Ну… я, естественно, сказал «да». Понимаешь, Беатрис, я подумал… Собственно, мы все так думаем, и я был уверен, что…
Я вскочила на ноги, и тяжелое старое кресло, отлетев, оцарапало полированный пол.
– Ты дал согласие, не посоветовавшись со мной? – спросила я ледяным тоном, но мои зеленые глаза горели огнем.
– Беатрис, – мягко начал Гарри, – но ведь мы все видели, как он тебе нравится. Конечно, его профессия несколько необычна, зато он из прекрасной семьи, а его состояние… просто поражает воображение. Конечно же, я разрешил ему поговорить с тобой. Да и с чего бы я стал запрещать ему это?
– Но ему же негде жить! – взорвалась я, с трудом удерживаясь, чтобы не разрыдаться. – У него и дома-то нет! Могу я спросить, где, собственно, он собирается жить со мной?
Гарри ободряюще улыбнулся.
– Беатрис, ты вряд ли способна себе представить, насколько Джон МакЭндрю в действительности богат. Он планирует вернуться домой, в Эдинбург, где, по-моему, вполне сможет купить для тебя даже дворец Холируд[23], если у тебя вдруг возникнет такое желание. Денег на это у него наверняка хватит.
Разумом, который от гнева стал острым, как край льдины, я мгновенно ухватила самую суть, хоть и была взбешена.
– Значит, меня собираются выдать замуж, упаковать и отослать в Эдинбург! – выкрикнула я. – А как же Широкий Дол?
Гарри, явно не ожидавший от меня столь яростной вспышки гнева, примирительным тоном сказал:
– А Широкий Дол прекрасно обойдется и без тебя Беатрис, хотя ты действительно самая лучшая хозяйка поместья, какую только можно пожелать. Господь свидетель, многие сквайры тебе и в подметки не годятся. Но это не должно стоять у тебя на пути. Когда твоя жизнь и твое женское счастье позовут тебя в далекие края, например в Шотландию, ты ни в коем случае не должна оглядываться на Широкий Дол.
Если бы во мне не бушевала такая бешеная, слепящая ярость, из-за которой мне хотелось визжать, рыдать и кататься по земле, я бы, наверное, расхохоталась ему в лицо. Мне была смешна сама мысль о том, что я могу провести свою жизнь в одном из богатых и претенциозных особняков Эдинбурга только потому, что любовь к светловолосому незнакомцу заставила меня покинуть Широкий Дол. Да, подобная идея была бы смешна, когда бы… не вызывала у меня сильнейшего, прямо-таки панического ужаса.
– Кто еще знает об этой затее со сватовством? – свирепо спросила я. – Мама?
– Никто, кроме меня, – торопливо ответил Гарри. – Я решил, что прежде всего мне, конечно же, надо поговорить с тобой. Хотя, возможно, я вскользь упоминал об этом Селии. – Его губы приоткрылись в идиотской полуулыбке, и я поняла: моя возможная ссылка в Шотландию явилась темой милой супружеской болтовни в постели. – Но ни мне, ни Селии и в голову не могло прийти, Беатрис, что предложение доктора вызовет у тебя какие-то иные чувства, кроме самой искренней радости.
Его голос – спокойный, ласковый, обволакивающий, как шоколад, точно такой, каким говорят обладающие властью мужчины, которые берут женщин в жены, спят с ними и вообще пользуются ими, как им заблагорассудится, столько веков подряд, не давая им того единственного, чего женщины так давно ждут: земли, – окончательно лишил меня остатков самообладания.
– Идем со мной, – велела я Гарри и, схватив с обеденного стола подсвечник, быстро пошла по коридору. Гарри что-то удивленно воскликнул, озираясь в поисках спасения, но возможности сбежать не было, и ему пришлось последовать за мной. Проходя через холл, я заметила, что дверь в гостиную приоткрыта, а мама и Селия, тихо переговариваясь, усердно вышивают алтарный покров. Вот и пусть вышивают! – подумала я и решительно свернула к узкой и крутой лестнице, ведущей наверх. Гарри шел сзади, смущенный, но покорный. Я поднялась на второй этаж, затем на третий и стала подниматься на чердак. На лестнице было совершенно темно, и лишь подсвечник у меня в руке отбрасывал на ступени неровный мерцающий свет.
Мы остановились перед запертой дверью бывшей кладовой. Я велела Гарри подождать, вынула из кармана ключ, отперла замок, а его оставила стоять за дверью в полной темноте. Затем я поспешно сняла свое нарядное платье и переоделась в старую зеленую амазонку, которую носила в те времена, когда Гарри еще только вернулся домой из школы. А потом жарким полднем застал меня врасплох – обнаженную, в объятиях Ральфа, на полу старого мельничного амбара. Длинную череду пуговичек на плотно облегающем фигуру жакете я оставила незастегнутыми, и под жакетом от горла до пупка виднелось мое прекрасное тело. В руке я сжимала старый папин охотничий кнут – длинную плеть из черной кожи весьма хитроумного плетения, способную причинить сильную боль, с кнутовищем из черного эбенового дерева с серебряной инкрустацией.
– Входи, – сказала я таким тоном, что ослушаться Гарри не посмел.
Он толчком отворил дверь и застыл на пороге. У него просто дыхание перехватило, когда в мерцающем свете свечей он увидел меня, высокую, разгневанную, полуобнаженную. Он даже негромко охнул, заметив и мой сознательно незастегнутый жакет, и седельную стойку, и крючья на стенах, и широкий манящий диван с мягкими подушками, и пушистые овечьи шкуры на полу, заменяющие ковер.
– Иди сюда! – велела я, и Гарри вздрогнул, словно я кольнула его ножом. Потом покорно, как в трансе, он последовал за мной ко вбитым в стену крюкам и, стоило мне слегка щелкнуть кнутом, широко расставил ноги, чтобы я могла привязать его за обе щиколотки крепкими кожаными ремнями. Казалось, он начисто утратил дар речи. Затем он так же послушно раскинул руки в стороны, а я ремнями крепко привязала его за запястья – по-моему, причинив ему довольно сильную боль – к крючьям в стене.
Одним сильным рывком я до пояса разорвала на нем рубашку из тонкого полотна, обнажив его грудь, и он вздрогнул. По-прежнему держа в одной руке плеть, я свободной рукой стала бить его по щекам: по левой – по правой, по левой – по правой, а потом, точно разъяренная кошка с конюшни, острыми ногтями расцарапала ему грудь от горла до ремня, поддерживавшего штаны. Гарри обвис на ремнях и застонал. Похоже, ему действительно было больно. Вот и прекрасно! – с садистской радостью подумала я.
Старым отцовским охотничьим ножом я провела по боковым швам роскошных расшитых панталон Гарри, и они тут же превратились в лохмотья, самым жалким образом свисавшие с талии. Острым лезвием я случайно задела ему кожу на бедре и, заметив капли крови, опустилась на колени и с жадностью, точно вампир, слизнула кровь. Если бы вместе с кровью я могла до последней капли выпустить и его мужскую гордость, его мужское тщеславие, его мужскую глупость и власть, я бы это сделала! Он снова застонал и рванулся, словно желая освободиться от пут. Я немного отступила назад и одним умелым щелчком расправила кнут, так что плеть, извиваясь, поползла по полу, точно готовая укусить змея. Затем я подняла кнут и сказала голосом, звенящим от ненависти:
– Пойми, Гарри, и постарайся раз и навсегда это усвоить: я никогда не покину Широкий Дол и никогда в жизни с тобой не расстанусь. Мы всегда будем вместе. Пока ты будешь сквайром Широкого Дола, я буду рядом с тобой – до тех пор, пока мы оба ходим по этой земле. Похоже, ты уже успел позабыть об этой моей клятве, а потому я намерена тебя наказать, и теперь ты уже никогда этого не забудешь. Ты вечно будешь стремиться вновь и вновь испытать то, что испытаешь сегодня; ты будешь страстно мечтать об этом и не сможешь ни прогнать эти мечты, ни уничтожить свое пагубное стремление.
Гарри вдохнул, и мне показалось, что он хочет что-то сказать – то ли попросить не наказывать его столь жестоко, то ли, наоборот, молить меня поскорее приступить к наказанию. Я не понимала, чего он на самом деле хочет, да и не хотела понимать. И, взмахнув рукой, щелкнула кнутом.
Управляться с кнутом учил меня на конюшенном дворе отец; мне тогда было всего десять лет. При определенном умении с помощью кнута можно сорвать ягоду земляники, ничуть ее не попортив, а можно одним ударом рассечь бычью шкуру. Я довольно сильно стеганула Гарри кнутом по нежной коже под мышками и на боках, и его дрожащее тело тут же покрылось потом; потом я принялась, дразня, ласкать его, слегка касаясь кнутом горла, груди и того, что свисало у него между широко расставленными ногами.
– Ступай к верстаку, – сказала я, но, стоило мне освободить его запястья, он бесформенной грудой рухнул к моим ногам. Я, не колеблясь, совершенно равнодушно пнула его под ребра носком сапога и повторила: – Ступай к верстаку и ложись.
Он упал на верстак ничком – наверное, именно так он падал в школе на узкую жесткую кровать – и прижался щекой к гладким, отполированным временем доскам. Я привязала его к ножкам верстака – за оба запястья и обе щиколотки – и слегка прошлась кнутом по его спине, ягодицам и бедрам, так, чтобы каждое прикосновение сперва воспринималось как легчайший укус, но если это повторять, то вскоре становилось больно, а на коже вздувались розовые, жгучие рубцы.
Затем я снова отвязала Гарри, и он бессильно соскользнул на пол и, лежа в самой жалкой позе, потянулся рукой к подолу моей юбки, словно о чем-то безмолвно умоляя меня.
Распустив завязки на талии, я сбросила с себя юбку и швырнула ее Гарри. Пальцы его конвульсивно стиснули мягкий бархат, и он с глухим рыданием зарылся в него лицом. Но я разделась не полностью: на мне еще оставался короткий узкий жакет и мягкие кожаные сапожки для верховой езды.
– На спину! – безжалостно приказала я.
К этому времени Гарри уже совершенно утратил рассудок и лежал, точно выброшенный на берег кит, не в силах вырваться из ловушки собственной патологической страсти, лишенный родной стихии, совершенно здесь неуместный, беспомощный, задыхающийся, и символ его мужского достоинства непристойно торчал вверх. Я ринулась на него, точно орел-стервятник на добычу. И он тут же пронзительно и хрипло закричал, корчась от неописуемого наслаждения. Его спина выгибалась дугой, содранная плетью кожа на плечах терлась о жесткие доски пола и о мягкие овечьи шкуры. Я же оставалась холодной и сосредоточенной, но все же где-то в глубине тела испытывала не очень яркое, но все же приятное чувство удовлетворения. Я могла делать с Гарри все, что хочу, и в итоге все его тело содрогалась от запредельного, экстатического возбуждения. Его судорожные рывки становились все более исступленными, лицо было залито слезами, затем веки сомкнулись, рот приоткрылся, и он громко застонал в последнем приступе высшего восторга и освобождения. В ту же секунду я резко отпрянула от него и шлепнула ладонью по его все еще напряженному члену, словно заставляя плохо воспитанную собаку лечь. Гарри прямо-таки взвизгнул от боли – я заметила, что один из перстней нечаянно поранил нежную, туго натянутую кожицу, – и сперма, смешанная с кровью, отвратительным фонтаном брызнула на его покрытый следами кнута живот. Он три раза судорожно всхлипнул и затих, а я смотрела на его распростертое, окровавленное, как у изнасилованной девственницы, тело, и в моем ледяном взгляде доброты было не больше, чем у мраморной статуи.
На следующий день я чувствовала себя настолько усталой и измученной, что едва смогла встать с постели. Чудовищное напряжение, эмоциональное, сексуальное и физическое, вызванное необходимостью не просто полностью подчинить себе Гарри, но и жестоко истязать его, совершенно лишило меня сил. Я попросила принести завтрак мне в спальню и ела прямо в постели, да и потом все утро просидела у себя в кабинете за письменным столом, вроде бы занимаясь счетами. Но сделала я в тот день крайне мало и, честно говоря, в основном смотрела невидящими глазами в окно, но видела не чудесный розовый сад, залитый солнцем, а жутковатые картины вчерашней агонии Гарри, вызванной одновременно и болью, и связанным с ней экстатическим наслаждением.
Где-то после полудня ко мне вошла наша горничная с серебряным подносом в руках. На подносе стоял кофейник с тем крепким черным кофе, который мы с Селией привезли из Франции, и две чашки. Следом за горничной в комнату вошел Гарри. Должна признаться, он застал меня врасплох. Мне и в голову прийти не могло, что после вчерашнего у него хватит сил и мужества предъявлять какие-то претензии. Двигался он, правда, довольно скованно, но все же не настолько, чтобы каждый мог это заметить, если, конечно, не впиваться в него взглядом, как ястреб-перепелятник в свою жертву.
Горничная разлила кофе, поставила одну чашку на письменный стол рядом со мной и вышла. Оставшись с Гарри наедине, я продолжала молчать. Усталость, терзавшая меня с утра, куда-то вдруг исчезла; я была насторожена, как браконьер, который, умирая от страха, охотится в чужом лесу.
Наконец Гарри, со звоном поставив свою чашку на блюдце, сказал одно лишь слово: «Беатрис!», и в его тихом голосе слышалась и предельная усталость, и одержимость.
И в сердце моем словно разом зажгли все свечи. Он снова был моим. Снова полностью принадлежал мне. Я завоевала его и больше могла не бояться потерять свое место в Широком Доле. Я не просто совратила нашего сквайра, я вытащила наружу всю извращенность его желаний, накрепко опутав его своими сетями.
– Ты сейчас обращаешься со мной так, словно ненавидишь меня, но ведь это не так, правда, Беатрис? Ты же не можешь меня ненавидеть? – Его голос звучал как нытье уличного попрошайки, и я догадалась: именно эти интонации помогли умнице Ральфу распознать сущность моего брата. Эти интонации Гарри научился применять еще в школе, когда его кумир Стейвли обучал свое маленькое войско приносить ему в зубах убитую дичь, делать за него всю тяжелую работу, драться за него и умолять его. Да, это Стейвли научил моего брата говорить таким голосом, научил молить о боли, о побоях, а затем – о жалком вознаграждении. Если бы я знала этого Стейвли, если бы рядом со мной был Ральф, который мог бы что-то мне посоветовать, я бы скорей поняла, как мне следует поступить – простить Гарри или наказать еще сильней. Я ждала хоть какой-нибудь подсказки, и она незамедлительно последовала.
– Я был не прав, совершенно не прав, – хныкал Гарри, точно побитый хозяином щенок спаниеля. – Только, пожалуйста, больше не бей меня, Беатрис. Я исправлюсь. Я больше никогда тебя не обижу.
Мой брат, сквайр Широкого Дола, вел себя как жалкий плаксивый младенец! От отвращения у меня даже мурашки по коже поползли. И я вдруг ясно вспомнила, какое презрение было в горячих черных глазах Ральфа, когда Гарри, прижимаясь щекой к его босым ногам, ползал на коленях по грязному полу мельничного амбара. Разумеется, тогда Ральф испытывал и огромное облегчение, поняв, что наша любовная связь так и останется тайной, но выражение лица у него было примерно такое же, как у меня сейчас: как если бы Гарри был некой отвратительной, непристойной ошибкой природы, вроде трехголового теленка. Я понимала, что впереди у меня долгие годы власти над этим хнычущим сквайром, – и мучительно тосковала по Ральфу с его неприкрытым желанием доминировать, с его жадной молодой страстностью, не осложненной никакими комплексами.
– Ты вызываешь у меня отвращение! – вырвалось у меня, и это была чистая правда.
Гарри снова захныкал, сполз с хорошенького салонного кресла на ковер и, стоя передо мной на коленях, жалким голосом сказал:
– Я понимаю, понимаю, что и должен вызывать отвращение! Но что я могу с этим поделать? Наверное, меня заколдовали. Я всю жизнь чувствую себя каким-то неправильным. Ты одна можешь спасти меня, Беатрис хотя именно ты меня околдовала, в твои чары, в твои силки я попался и теперь совершенно беспомощен перед тобой. Ради бога, Беатрис, будь же ко мне милосердна!
Я улыбнулась – точнее, чуть усмехнулась жестоко, – представив себе ту новую роль, которую отвел мне Гарри в своем лихорадочном, гиперсексуальном, гиперобразованном воображении.
– Ты мой навеки, – сказала я. – И твои забавы с крошкой-женой, и твоя дружба с мужчинами, и твоя чрезмерная любовь к матери, и твой интерес к пере-устройству поместья – все это не имеет ничего общего с реальной жизнью. Реальная жизнь для тебя – это жизнь со мной, но встречи наши будут проходить в потайной комнате, о которой будем знать только ты и я. И ты будешь приходить туда, только когда я сама тебя позову, потому что ключ от этой комнаты останется у меня. И там я буду дарить тебе боль и наслаждение. Наслаждение, которое находится за пределами боли. И мы с тобой никогда, никогда не расстанемся, потому что я не желаю никуда уходить отсюда, а ты… – я улыбнулась, глядя сверху в его повернутое ко мне, совершенно белое лицо, – ты умрешь без этого наслаждения.
Гарри зарыдал и уткнулся лицом в мою юбку. Я ласково, как мать, коснулась рукой его головы, и от этого прикосновения он зарыдал еще сильнее. Тогда я, вцепившись пальцами в его длинные светлые локоны, рывком подняла его голову и заглянула ему прямо в глаза.
– Значит, отныне ты мой слуга? – спросила я шепотом острым и ломким, как льдинка.
– Да, – бесцветным голосом подтвердил он.
– Значит, отныне ты мой раб?
– Да.
– Ну, так убирайся отсюда! Ты мне надоел.
Сознательно проявив небольшую жестокость, я отвернулась к рабочему столу. Гарри поднялся на ноги и, с трудом переставляя их, поплелся к двери и уже коснулся дверной ручки, когда я окликнула его таким тоном, каким подзываю собак:
– Эй, Гарри!
Он тут же обернулся, ожидая дальнейших приказаний.
– За обедом ты будешь вести себя так, словно ничего не было. Совсем ничего, – сказала я строго. – Эта тайна поистине смертельна, и твое глупое лицо, на котором все вечно написано, ни в коем случае не должно тебя выдать, иначе ты пропал. Так что уж постарайся.
Он подобострастно кивнул – точно нищий, которому в работном доме отдают приказания, – и повернулся, чтобы уйти.
– И вот еще что, Гарри, – снова остановила его я, добавив к своему тихому голосу некую томную нотку, и сразу заметила, как сильно, почти до дрожи, напряглась его спина. – Сегодня ночью я отопру дверь в потайную комнату, и в полночь ты сможешь снова прийти ко мне.
Он бросил на меня взгляд, полный безмолвной благодарности. И я, наконец, отпустила его.
Однако проблема со сватовством Джона МакЭндрю мною так и не была решена. Собственно, проблема заключалась в том, что мне, если честно, совсем не хотелось лишаться столь приятного общения с ним. Впрочем, в определенных обстоятельствах мне придется это сделать. С другой стороны, явно стоило поискать какое-то другое решение. И одно из этих решений было совершенно очевидным: мне следовало слегка соврать ему. Сказать, что Гарри неправильно меня понял и неправильно истолковал ему мои слова, что мне очень дорога его дружба, но, как мне кажется, в качестве супругов мы друг другу не подходим. В общем, я сидела, поглощенная этими мыслями, и тупо смотрела на бумаги, которыми был завален мой рабочий стол и которые мне следовало непременно просмотреть. Бумаги были придавлены тяжелым стеклянным пресс-папье с темно-красным маком внутри. Я снова проиграла в уме всю эту сцену – возможный разговор с доктором МакЭндрю и мои спокойные, достойные сожаления по поводу того, что я отвергла его предложение, – и даже попыталась составить в уме несколько фраз, исполненных девической скромности. Но лицо мое то и дело расплывалось в улыбке. Господи, до чего все это звучало напыщенно! Такой умный и проницательный человек, как Джон МакЭндрю, тут же обо всем догадается! Нет, мне нужно найти какую-нибудь более тонкую ложь, способную навсегда отвратить его от намерения на мне жениться и увезти меня в Шотландию, как в ссылку. Вот только вряд ли мне удастся убедить его, что он нравится мне только как друг; ведь и сам он, и все вокруг прекрасно видят, что улыбка невольно расцветает у меня на губах, стоит мне его увидеть; и потом, никто другой не может развлечь меня так, как он.
Нет, я не испытывала к нему страсти; я, пожалуй, даже ни капли не была в него влюблена. Это было совсем не то, что я пережила, когда влюбилась в Гарри. Во время встреч с Джоном у меня не возникало тех чувственных желаний, которые способны были полностью подавить мой разум – как это было во время свиданий с Ральфом. И все же я не могла не улыбаться, когда думала о Джоне и о его поцелуях. Но подобные видения являлись мне не во сне – ибо он никогда, никогда мне не снился, – а средь бела дня или вечером, во время тех сладких мечтаний, которые посещали меня перед сном.
Пока я обдумывала то, что могла бы сказать ему, за окном послышался топот копыт, и мимо крыльца проехала роскошная повозка доктора МакЭндрю, запряженная парой его дорогущих коней. Повозка почему-то последовала дальше и самым нахальным образом остановилась прямо у меня под окном. Доктор весело улыбался мне со своего высокого сиденья, и мне пришлось подойти к окну и широко его распахнуть.
– Доброе утро, мисс Лейси, – сказал Джон Мак– Эндрю. – Я намерен незамедлительно вас похитить, вытащив, наконец, из-за рабочего стола. Погода сегодня настолько хороша, что просто грешно сидеть взаперти. Поедемте лучше со мной кататься.
Я колебалась. Отказаться было бы невежливо, и потом, отказ поехать на прогулку ничего бы не изменил; он разве что отсрочил бы на время очередное предложение руки и сердца, раз уж доктор так настроился на этот брак. В распахнутое окно вливались ароматы жаркого лета – отцветающих роз, левкоев, маттиол. В лесу любовно ворковали голуби, в поднебесье носились, совершая немыслимые виражи, ласточки, тренируясь и набираясь сил перед очередным долгим перелетом на юг. К тому же, подумала я, можно было бы прокатиться по окрестностям и заодно посмотреть, как крестьяне снимают дерн с полей, остававшихся под паром, готовя их к севу.
– Хорошо, я только шляпу возьму, – с улыбкой сказала я и вылетела из комнаты.
Но я не приняла во внимание реакцию мамы. Она поймала меня у лестницы и настояла, чтобы я немедленно вернулась, надела нарядное платье и не смела отправляться на прогулку с молодым человеком в домашнем утреннем платьишке. Я, естественно, разнервничалась, но мама никуда меня не пустила, позвала двух горничных, свою и мою, и разложила передо мной на кровати целую груду платьев.
– Любое, любое! – нетерпеливо воскликнула я. – Мы с доктором всего лишь собирались прокатиться по окрестным полям. Я ведь не на светский сезон в Лондон собираюсь!
– Ну и что? Ты в любом случае должна выглядеть наилучшим образом! – с необычным напором заявила мама и выбрала для меня темно-зеленое платье с изящным жакетом и пышной, летящей юбкой, утверждая, что это платье прекрасно оттенит зелень моих глаз и медовый оттенок кожи. К этому наряду она предложила мне маленькую шляпку в тон с вуалью из зеленых кружев, и я тут же пожаловалась, что от этих кружев у меня перед глазами «мушки»; на самом деле шляпка эта мне и самой очень нравилась, потому что подчеркивала красоту моих глаз и привлекала внимание к ярким улыбающимся губам. Мамина горничная быстро и красиво уложила мои волосы в пышные кольца, и мама собственноручно приколола на мне шляпку и опустила вуаль. Затем, ласково сжав обе мои руки, затянутые в перчатки, она поцеловала меня и сказала:
– Вот теперь поезжай на прогулку. Выглядишь ты просто прелестно! И я очень, очень за тебя рада!
Похоже, не только мама была уверена, что я еду с доктором МакЭндрю, чтобы он во время поездки мог сделать мне предложение. Половина домашних слуг, делая вид, что чем-то заняты, собрались на лестнице или в холле, когда я спустилась вниз, и все они кланялись мне, все улыбались, и казалось, весь Широкий Дол состоит в тайном сговоре, стремясь поскорее выдать меня замуж.
По обе стороны парадных дверей выстроились лакеи и горничные, как во время торжественного приема, и сами огромные двери были предусмотрительно распахнуты нашим дворецким, а когда Джон МакЭндрю помогал мне сесть в экипаж, в окно на нас с радостными улыбками смотрели Селия, няня и, разумеется, маленькая Джулия.
– Как торжественно вас сегодня провожают, – поддразнил меня Джон, заметив у меня на щеках нервный румянец.
– А вам следовало бы научиться ждать ответа на ваше предложение, прежде чем что-то объявлять во всеуслышание! – ядовитым тоном сказала я, от злости совершенно позабыв, что сама же устроила Гарри сцену, когда тот сообщил мне о предложении доктора.
Джон расхохотался, понимая, что я попала впросак и поэтому злюсь.
– Ну-ну, Беатрис! Нельзя ли немного повежливей? – И я, глянув на него, тоже не сумела сдержать смех, хотя это и было совершенно недопустимо – ведь, во-первых, я собиралась ему отказать, а во-вторых, все обитатели нашего дома высыпали на террасу, чтобы нас проводить, и прекрасно видели, как нежно я улыбаюсь, уезжая со своим ухажером.
Коляска быстро катила по аллее. Джон прекрасно правил своей гнедой парой; лошади были свежие и шли хорошо. Впрочем, он немного придерживал их, пуская небыстрой рысцой на нашей извилистой дорожке, но я уже предвкушала, с какой скоростью мы поедем, выбравшись на большую дорогу, ведущую в деревню. Ворота поместья были уже распахнуты настежь, и поджидавшая нас Сара Ходгет поклонилась и одарила меня многозначительной улыбкой. Я осуждающе глянула на каменный профиль Джона МакЭндрю, поскольку не только Сара, но и все ее семейство высыпало на обочину, и все они показывали на нас и радостно нам махали, полагая, что теперь хорошенькая мисс Беатрис наверняка выйдет за такого приятного молодого человека, как доктор МакЭндрю. А он повернулся ко мне с улыбкой и, ничуть не раскаиваясь, сказал:
– Клянусь, Беатрис, это не я подстроил! И перестаньте, пожалуйста, метать в меня кинжалы своих гневных взглядом. Я же ни слова никому не сказал; я поговорил только с вашим братом, причем наедине. Но, по-моему, все вокруг давно заметили, как я на вас смотрю и как вы мне улыбаетесь. Все от нас чего-то ждали, и только мы с вами оказались этим удивлены.
Я молча обдумывала слова доктора. С одной стороны, мне было неприятно, что он говорит о таких вещах столь легким и уверенным тоном, с другой стороны, я и сама хотела понять, действительно ли меня так уж застало врасплох его предложение. Он достаточно сильно удивил меня в день скачек, но сейчас я удивлялась гораздо больше – причем именно самой себе, точнее, собственному поведению. Я преспокойно сидела рядом с Джоном МакЭндрю на козлах стремительно несущейся повозки и буквально рот не закрывала от смеха; во всяком случае, пока что у меня даже и в мыслях не было ему отказывать.
Одно для меня было совершенно очевидно: я в любом случае должна наотрез отказаться уезжать из Широкого Дола. Но все-таки сперва он был должен сделать мне предложение, а во мне с каждой секундой крепла уверенность в том, что я, скорее всего, это предложение приму, а может быть, уже, собственно, и приняла. Джон МакЭндрю был достаточно умен, чтобы дать мысли о браке окончательно укорениться в моей душе, сделать ее чем-то само собой разумеющимся, ибо не желал допускать никаких шансов на отказ.
Но, когда мы оказались на дороге, ведущей в деревню, Джон повернул отнюдь не туда, а к пересечению с главной дорогой Чичестер – Лондон.
– Куда это вы собрались? – сухо осведомилась я.
– На прогулку, как и говорил, – ответил он и непринужденно прибавил: – Знаете, мне вдруг захотелось полюбоваться морем.
– Полюбоваться морем? – У меня даже дыхание перехватило. – У мамы будет приступ. Я же обещала непременно вернуться к обеду. Извините, доктор Мак-Эндрю, но креветок вам придется ловить в одиночестве!
– Э нет, – холодно возразил он. – Я сказал вашей маме, что мы в лучшем случае вернемся после чая. Так что к обеду она нас вовсе не ждет. К тому же она совершенно согласна со мной в том отношении, что молодой женщине просто вредно столько времени проводить за письменным столом, занимаясь документами.
Да уж, поняла я, в тактическом чутье Джону Мак– Эндрю не откажешь!
– Неужели моему здоровью нанесен такой страшный ущерб? – ядовитым тоном осведомилась я.
– Безусловно! – без колебаний ответил он. – Вы уже начали сутулиться.
Я не выдержала и рассмеялась.
– Знаете, доктор МакЭндрю, вы, по-моему, законченный проходимец, и я не стану иметь с вами никаких дел! Сегодня вам, может, и удалось меня похитить, но в следующий раз я буду куда осторожней.
– Ах, Беатрис! – с нежностью сказал он, улыбаясь мне. – Вы одновременно и поразительно умная девушка, и прямо-таки невероятная глупышка!
На это мне сказать было нечего, я поняла, что самым глупым образом улыбаюсь, глядя ему в глаза, и краснею.
– И я думаю, – сказал он, отпуская вожжи и позволяя паре гнедых перейти на легкий быстрый галоп, – что мы с вами чудесно проведем этот день.
И мы действительно провели этот день чудесно. Домоправительница доктора столько всего положила в его корзинку для пикника, что нам мог бы позавидовать любой лорд. Обедали мы на вершине холма, и весь Сассекс лежал у наших ног, а над нами высился божественный голубой купол небес. То, что я устроила прошлой ночью на чердаке западного крыла, как-то само собой забылось, словно ничего этого между мной и Гарри и не происходило, и я наслаждалась блаженным покоем солнечного дня и не воображала себя ни богиней, ни ведьмой. Сегодня я была самой обыкновенной хорошенькой девушкой и испытывала несказанное удовольствие от того, что мне не нужно ни перед кем притворяться, не нужно никем повелевать. После болезненного преклонения Гарри, после его униженного подобострастия уверенная, ласковая улыбка Джона МакЭндрю была мне особенно приятна, хотя он порой и бросал на меня быстрые, будто оценивающие взгляды. Но его я никогда не смогла бы представить себе ползающим у моих ног жалкой мокрой грудой сплошных угрызений совести, смешанных с патологическим сластолюбием. Я с одобрением посмотрела на него и улыбнулась, и он улыбнулся мне в ответ. Затем мы собрали то, что осталось от пикника, и поехали дальше.
До морского берега мы добрались как раз к чаю. Джон выбрал тот его участок, что был ближе всего к Широкому Долу – почти на самом юге. На этой узкой полоске земли разместилась крошечная рыбацкая деревушка в полдюжины лачуг и разбойничьего вида таверна. Когда мы остановили коляску возле этой таверны, Джон окликнул хозяина, и тот со всех ног бросился к нам, но был, по-моему, страшно удивлен нашим появлением и совершенно уверен, что в его заведении точно нет ничего достойного столь знатных господ. Впрочем, мы и сами так думали. У нас в повозке имелось все необходимое для чая – и заварка самого лучшего качества, и сахар, и сливки.
– Боюсь только, сливки, скорей всего, успели превратиться в масло, – сказал Джон МакЭндрю, расстилая на гальке коврик, чтобы я могла сесть. – Но простая деревенская девушка вроде вас наверняка и не ожидает, чтобы все получилось идеально, когда снизойдет до того, чтобы покинуть свою уютную усадьбу и посетить жалкое крестьянское жилище.
– Вы правы, – согласилась я. – А вы и разницы между сливками и маслом не почувствуете, потому что, осмелюсь заметить, вам и не доводилось пробовать настоящее масло и сливки, пока вы не пересекли границу Англии.
– Это точно! – И он тут же заговорил с сильнейшим шотландским акцентом: – Дома, в Шотландии, мы пьем исключительно асквибо!
– Асквибо? – воскликнула я. – Это еще что такое?
Его лицо омрачилось какими-то личными воспоминаниями, и он кратко пояснил:
– Это напиток. Шотландский виски. Очень крепкий. Похож на бренди, но значительно крепче. Прекрасное средство, если хочешь напиться до бесчувствия. И, к сожалению, очень многие мои соотечественники этим пользуются, желая позабыть о своих горестях. Но асквибо способен очень быстро стать хозяином человека и полностью подчинить его себе. Я знал немало таких людей, а одного из них, человека очень мне близкого и дорогого, этот напиток попросту разрушил.
– А вы его когда-нибудь пили? – спросила я, заинтригованная столь неожиданной серьезностью Джона. До сих пор таким серьезным я видела его лишь во время врачебных осмотров.
Он поморщился.
– Да, конечно. Я тоже его пил. В Шотландии. Там во многих питейных заведениях ничего иного и не подают. А в доме моего отца асквибо подают по вечерам вместо порто, и не могу сказать, чтобы я хоть раз от него отказался! Хотя, если честно, я даже немного его боюсь. – Он помолчал и как-то неуверенно посмотрел на меня, словно раздумывая, стоит ли доверять мне некую важную для него тайну. Потом вздохнул и тихо продолжил: – Когда умерла моя мать, я был на первом курсе университета. Как оказалось, это был для меня слишком тяжелый удар, и вскоре я обнаружил, что, если выпить асквибо, душевная боль на какое-то время проходит. А затем я пришел к выводу, что для хорошего самочувствия лучше всего пить все время… Мне кажется, к виски привыкаешь, как к наркотику – помните, я предупреждал вас, что нельзя злоупотреблять настойкой опия, потому что это может превратиться в дурную привычку. Я очень боюсь подобного привыкания и всегда стараюсь предостеречь от этого моих пациентов – ведь все это мне довелось испытать на себе. И теперь я легко могу выпить стакан виски вместе с отцом, но больше не возьму в рот ни капли. Алкоголь – это моя слабость, и мне всегда приходится держать себя в руках.
Я кивнула, лишь смутно понимая, о чем он говорит. Я знала одно: только что он признался мне в чем-то очень для него важном. Как раз в эту минуту из таверны появился ее хозяин; он с почтительной осторожностью нес на подносе серебряный чайник из набора Джона МакЭндрю, полный отлично заваренного индийского чая.
– Теперь я буду ждать, что на обратном пути на нас обязательно нападут бандиты, и охотиться они будут исключительно за вашими серебряными щипчиками для сахара, – весело заметила я. – Вы что, всегда путешествуете с таким набором серебряной посуды? Какое вульгарное хвастовство!
– Нет, не всегда. Только когда делаю предложение, – сказал он, и это почему-то прозвучало так неожиданно, что я вздрогнула и пролила свой чай. Даже на платье несколько капель попало.
– За ваши шутки вас следовало бы высечь кнутом! – сердито сказала я, стирая пятно салфеткой.
– Нет, нет, – сказал он, продолжая меня поддразнивать, – вы меня неправильно поняли. Хотя на вас я даже и жениться готов!
Я так расхохоталась, что Джону, спасая меня и мое платье, пришлось взять у меня чашку и поставить ее на поднос.
– Все, довольно шуток, – вдруг сказал он, становясь предельно серьезным. – Я люблю вас, Беатрис, и всем сердцем желал бы видеть вас моей женой.
Смех замер у меня на устах. Я была готова ему отказать, но слово «нет» отчего-то выговариваться не желало. И потом, я просто не могла себя заставить грубым отказом испортить такой чудесный солнечный денек. Волны сладко чмокали, набегая на гальку; чайки с криками кружили над морем. Заготовленные заранее слова отказа словно остались где-то за миллион миль от меня, хотя я прекрасно понимала, что никак не могу принять предложение Джона.
– Все дело в Широком Доле? – спросил он, когда пауза затянулась. Я быстро на него глянула, благодарная за понимание, и сказала:
– Да. Я, наверное, больше нигде и не смогла бы жить. Просто не смогла бы.
Он ласково улыбнулся, но в глубине его голубых глазах таилась обида.
– Даже если у нас с вами был бы свой дом, где вы были бы не только моей женой, но и полной хозяйкой? – спросил он. Я не ответила, и молчание мое явно длилось чересчур долго. Я понимала, что мне все-таки придется найти какие-то слова, чтобы окончательно ему отказать.
– Мне очень жаль, – начала я, – но вы правы: это действительно так. Вся моя жизнь была связана с Широким Долом, в нем ее смысл. И я вряд ли сумею найти слова, чтобы объяснить вам, как много он для меня значит. Я не могу его покинуть.
Он взял мою руку, нежно ее пожал, потом перевернул ладонью вверх, нежно поцеловал и согнул мне пальцы, словно сжимая свой поцелуй в моей горсти.
– Беатрис, – сказал он, и голос его звучал очень серьезно, почти мрачно, – я долгое время, почти целый год наблюдал за вами и понимал, что вы, скорее всего, мне откажете и предпочтете остаться дома. Но поймите: Широкий Дол принадлежит Гарри, а после него будет принадлежать его наследникам, так что вашим он никогда, никогда быть не сможет. Это дом вашего брата; это не ваш дом. И если вы когда-нибудь поссоритесь с Гарри – я понимаю, конечно, сколь невероятно это звучит, – то он сможет выбросить вас из этого дома уже назавтра, если у него возникнет такое желание. Вы сейчас находитесь там как бы по приглашению Гарри. Не имея ни малейших прав на эту усадьбу. И если ради Широкого Дола вы откажетесь выходить замуж, то откажетесь и от своего будущего дома ради того места, где вам можно оставаться лишь временно и где вы никогда не будете чувствовать себя в полной безопасности.
– Я знаю, – тихо сказала я, глядя в море и чувствуя, что от его слов лицо мое застыло, как камень. – Но это место может стать для меня и надежным, и безопасным, если я сама смогу все устроить.
– Беатрис, Широкий Дол – место действительно чудесное, совершенно особенное, но ведь вы так мало видели! В нашей стране есть и другие чудесные места, где вы и я могли бы создать свой собственный дом, который стал бы вам столь же дорог, как и Широкий Дол.
Я покачала головой и повернулась к нему.
– Как вы не понимаете – для меня это может быть только Широкий Дол! – сказала я. – Вы просто представить себе не можете, что я сделала, пытаясь отвоевать его! Я всю жизнь страстно мечтала обрести там для себя некое законное место!
Взгляд его умных проницательных глаз был прикован к моему лицу.
– Что такого вы сделали? – спросил он, услышав невнятные слова моего признания. – Что вы сделали, пытаясь отвоевать Широкий Дол? И почему это до сих пор не дает вам покоя?
Я колебалась: мне и хотелось облегчить душу и совесть, признаться этому умному, нежному, любящему меня человеку, и вместе с тем я понимала, что проще и легче привычно солгать. Мои инстинкты и мой вечно голодный острый ум предупреждали меня: не делай этого, никому ни в чем не признавайся, никому не доверяй, ни в кого не влюбляйся и ни за кого по-настоящему не выходи замуж!
– Беатрис… – сказал Джон. – Мне вы можете сказать все.
Но я молчала, хотя слова вертелись у меня на кончике языка. Я была готова все ему рассказать. И тут я заметила возле самой воды человека, похожего на пирата, такой густой, бронзовый загар покрывал его лицо и руки; и этот человек с любопытством поглядывал в нашу сторону.
– Похоже, я была права насчет ваших серебряных щипчиков, – усмехнулась я и глазами указала Джону на незнакомца. Джон воскликнул что-то неразборчивое, встал и решительно, хрустя башмаками по гальке, направился к этому загорелому парню. Они что-то сказали друг другу, и Джон, как-то неуверенно на меня оглянувшись, пошел назад; незнакомец следовал за ним, отставая на несколько шагов.
– Он вас знает, – Джон был явно растерян. – Говорит, что ему нужно что-то передать на словах мисс Лейси из Широкого Дола, но мне сказать, в чем дело, не пожелал. Может, мне отослать этого типа восвояси?
– Конечно же, нет! – с улыбкой сказала я. – А что, если он хочет сообщить мне, где найти зарытое сокровище? Вы пока пересчитайте ложечки и сложите чайные принадлежности в корзину, а я выясню, чего он хочет.
Я встала и направилась к «пирату», который низко мне поклонился. Разглядев его поближе, я решила, что он, должно быть, моряк; в нем не было ни капли тяжеловесности обычного земледельца. Его кожа была почти коричневой от загара, а в уголках глаз лучиками разбегались морщинки – так бывает у тех, кто вынужден постоянно щуриться, глядя на сверкающую поверхность воды. На нем были свободные, хлопающие на ветру штаны и башмаки, а не сапоги, как обычно у крестьян. Голова у него была повязана носовым платком, из-под которого сзади выглядывали волосы, весьма характерным образом стянутые на затылке. Настоящий бандит, решила я и осторожно ему улыбнулась.
– Что вам от меня нужно? – спросила я, уверенная, что он попросит денег или чего-нибудь в этом роде.
– Я к вам по делу, – к моему удивлению, заявил он. – По торговому делу.
Выговор у него был не местный, но определить, откуда он родом, я не сумела. Похоже, откуда-то с запада. Я уже начинала догадываться, что это за «торговое дело».
– Вы не ошиблись? – довольно резко спросила я. – Мы занимаемся сельским хозяйством, а не торговлей.
– Ну, если хотите, речь идет о контрабанде, – признался он, внимательно наблюдая за моим лицом. Я не сумела сдержать усмешки.
– А от меня-то что вы хотите? – сказала я. – Говорите скорей; у меня нет времени на беседы с мошенниками. Можете вы коротко объяснить мне, что вам нужно? Но учтите: у нас в Широком Доле законов не нарушают.
Он с улыбкой, без малейшего стыда уставился на меня и сказал:
– Конечно, мисс. Конечно же, у вас никто законов не нарушает. Но у нас есть для вас хороший дешевый чай, и сахар, и бренди.
Я с сожалением посмотрела на него и снова спросила:
– Послушайте, что вам от меня нужно?
– У нас возникли неприятности в той местности, куда мы обычно свозим свои товары, – сказал он вполголоса, настороженно посматривая в сторону Джона МакЭндрю, с явным нетерпением поджидавшего меня возле коляски. – И наш новый вожак предложил хранить товар в старой мельнице, которая расположена на вашей земле. Товар каждый раз будет задерживаться там всего на несколько дней, и вам, мисс Лейси, совершенно ничего не нужно будет об этом знать. А для вас мы будем оставлять пару симпатичных бочонков, если, конечно, вы любезно согласитесь их принять, или, может, какие-нибудь тонкие французские шелка. Вы бы оказали джентльменам большую услугу, мисс Лейси, а уж мы своих друзей никогда не забываем.
Мне не хотелось слишком сурово отчитывать этого нахального бродягу, ведь в том, о чем он просил, не было ничего необычного. Контрабандисты – джентльмены удачи, как их еще называют, – всегда приходили и уходили, когда им вздумается, по неприметным тропам среди холмов Сассекса. А те двое полицейских, которым была поручена борьба с контрабандой на всем побережье, где в море впадало множество рек и речек, ничего, разумеется, поделать с контрабандистами не могли; ночью они прятались под одеялом в постели, а днем строчили рапорты. Один из них, кстати сказать, был профессиональным поэтом и взялся за эту работу только для того, чтобы иметь достаточно времени для своих стихов. Так что мы в Сассексе имели двойную выгоду – беспошлинную торговлю контрабандным спиртным и собственную изящную поэзию. Результат поистине великолепный, хоть и несколько комичный, вызванный бесконечной путаницей в акцизных законах и раздариванием государственных должностей неумелым молодым джентльменам.
Мой отец закрывал глаза на торговлю контрабандными товарами и делал вид, что случайно пропустил мимо ушей сообщение о том, что ночью через нашу деревню проследовало полдюжины лошадей; жители деревни в таких случаях не подсматривали из-за занавесок и рот держали на замке. Джентльмены удачи и впрямь были щедры по отношению к своим друзьям, но доносчиков всегда находили и убивали.
Поскольку у меня практически не было возражений против того, чтобы контрабандисты хранили свои товары на нашей земле, я уже готова была дать этому парню разрешение, но упоминание о старой мельнице и новом вожаке показалось мне странным.
– И кто же ваш новый вожак? – спросила я.
Контрабандист подмигнул мне и туманно заметил:
– Меньше говоришь, крепче спишь. Но голова у него работает здорово. Он все загодя планирует, да и люди за него в огонь и в воду готовы. У меня, например, всегда на душе спокойней становится, стоит мне его черного коня впереди нашего войска увидеть.
Во рту у меня вдруг пересохло.
– Так это он выбрал нашу старую мельницу в качестве склада? – спросила я, чувствуя, что голос мой вот-вот сорвется, а лицо стало липким от пота.
Контрабандист с любопытством посмотрел на меня – видимо, я сильно побледнела, потому что он спросил:
– Что с вами, мисс? Вы не больны? А насчет старой мельницы это точно его идея, тут вы правы.
Я провела рукой по лбу – он был мокрым от пота.
– Нет, мне просто жарко, – пролепетала я. – Значит, ваш вожак из местных?
– По-моему, он и родился, и вырос где-то по соседству с Широким Долом, – сказал контрабандист, которому явно надоели мои вопросы. И потом, его встревожило, что у меня вдруг начали дрожать руки, а глаза потемнели от волнения. – Так что мне сказать ему, мисс?
– Скажите, что старую мельницу разрушило паводком и там теперь все по-другому, – сказала я неожиданно громко, и голос мой зазвенел от страха. – Скажите, что для него в Широком Доле места нет! Пусть ищет для своего склада другое место и другую дорогу. И пусть он не смеет даже приближаться ни ко мне, ни к моему поместью! – Я уже почти кричала. – Скажите, что мои люди никогда ему этого не позволят, потому что он для них всегда был изгоем, а я всегда была их любимицей!
От охватившего меня сильнейшего волнения колени подо мной уже подгибались, еще немного – и я бы упала, но тут сильная рука Джона обняла меня за талию, помогая мне устоять. И одного лишь его сурового взгляда хватило, чтобы молодой контрабандист поспешил убраться прочь; было слышно, как он уходит, шурша галькой и прячась за перевернутыми рыбачьими лодками.
Джон МакЭндрю, будучи настоящим профессионалом, моментально подхватил меня на руки и, точно младенца, без лишних слов запихнул в коляску. Затем вытащил из-под козел серебряную фляжку с шотландским виски и поднес мне к губам. Я с отвращением отвернулась, почувствовав сильный запах алкоголя, но доктор все-таки заставил меня сделать пару больших глотков, и виски действительно сразу подействовал: мне снова стало тепло, прекратилась паническая дрожь, и постепенно мое перепуганное сердце перестало биться, как пойманная птица. Некоторое время мы оба молчали. После пережитого приступа страха голова моя была совершенно пуста. У меня все еще было такое ощущение, словно мне среди бела дня явился жуткий призрак. Надо было, конечно, держать себя в руках и ни в коем случае не показывать, что меня страшит встреча с вожаком какой-то банды контрабандистов. Ведь этого парня, несомненно, навел на меня кто-то из мстительных браконьеров, изгнанных из Широкого Дола за свои преступления, или, может, кто-то из самых никчемных деревенских бедняков; или же кого-то из наших крестьян нужда заставила пойти служить на флот, а потом он подался в контрабандисты. Да и сам по себе этот черный конь ничего не значит. Зря я вела себя так глупо, зря поддалась панике, зря показала этому парню, как сильно я напугана.
Но и сейчас, сидя в коляске, согретая виски и теплым полуденным солнцем, я чувствовала себя невероятно уязвимой и испытывала непередаваемый страх, хотя рядом был Джон МакЭндрю, а под сиденьем в корзине лежала чудесная серебряная посуда стоимостью в сотни фунтов.
Я невольно передернулась и, глубоко вздохнув, незаметно прикусила губу и спрятала между коленями дрожащие руки, изо всех сил вонзив в ладони свои крепкие длинные ногти. Затем я с улыбкой повернулась к Джону и сказала:
– Благодарю вас! Очень глупо с моей стороны было позволить ему так меня напугать. Это ведь был самый обыкновенный контрабандист, который хотел, чтобы я позволила их шайке хранить на нашей земле свои бочонки со спиртным. Но, когда я сказала «нет», он стал мне угрожать, и я, сама не знаю почему, страшно перепугалась.
Джон МакЭндрю слушал меня внимательно и с полным пониманием кивал, но взгляд его был холоден и проницателен.
– А почему вы сказали «нет»? – спросил он. – Неужели вы так уж против контрабандистов?
– Никогда ничего против них не имела… – медленно начала я, чувствуя, как меня вновь охватывает страх; и этот страх задушил во мне всякое желание говорить правду, так что я сказала совсем не то, что собиралась: – Но я не желаю, чтобы в Широком Доле жили те, кто не в ладах с законом! Я не желаю прятать у себя предводителей бунтовщиков, уничтожающих чужую собственность! Я не хочу, чтобы по моей земле, рядом с моим домом кто-то крался в ночи. Может, сегодня они и просто контрабандисты, но кто знает, кем они станут завтра? Я не потерплю, чтобы по дороге возле моего дома ездил во главе своего войска какой-то бандит на черном коне! – Я, наконец, перестала орать и умолкла с каким-то судорожным всхлипом, пребывая в полном ужасе от собственной несдержанности. Однако я была уже не в силах ни обратить все в шутку, ни хотя бы сгладить то впечатление, которое этот приступ панического страха произвел на Джона МакЭндрю.
Его теплая рука накрыла мою руку, и он тихо, явно сочувственно спросил:
– Не хотите рассказать мне, почему вы этого так боитесь?
Я вздохнула – этот вздох был больше похож на стон – и жалким голосом ответила:
– Нет. Не хочу.
Мы еще немного посидели в молчании; лошади стояли, понурив голову; позднее солнце отливало красными и розовым тонами; над морем висели пушистые, как овечья шерсть, облака.
– Тогда я отвезу вас домой, – сказал Джон, и в его голосе я не услышала ничего, кроме нежности и терпения, и поняла, что он действительно меня любит. Любит так сильно, что готов принять на веру все, что бы я ни сделала, хотя кое-какие мои поступки и должны были бы заставить его догадаться, что я вовсе не та прямодушная и хорошенькая девочка, какой могла показаться. Он, скорее всего, догадывался, что у меня есть какая-то тайна, возможно даже преступная, но предпочел не задавать вопросов. Он просто щелкнул языком, трогая лошадей с места, и повез меня домой. Закатный свет давно сменился сумерками, когда мы, наконец, перевалили через вершину холма близ Гудвуда и двинулись дальше по окутанным сладостными ночными ароматами дорогам моего Широкого Дола, и до самого дома нас провожала молодая луна, тонким серпиком светившая в темном небе. И когда Джон МакЭндрю, остановив у крыльца коляску, приподнял меня, как ребенка, и бережно поставил на землю, я почувствовала у себя на макушке некий призрак поцелуя.
Он и потом никогда не давил на меня, не требовал объяснений. Ни разу больше он не возвращался к этому разговору в течение последних недель жаркого лета, когда сено было уже собрано в стога, зерновые сжаты, а скот отделен от молодняка и жирел на пастбищах. Теперь работы в поместье стало гораздо меньше, и высвободилось гораздо больше времени для поездок в гости, для танцев и пикников.
Если мы все вместе – Селия, Гарри, мама и я – ездили к Хейверингам, то непременно получалось, что мы с Джоном оказывались наедине где-нибудь в заросшем саду, а когда мы входили в дом, чтобы выпить чаю, моя мать и леди Хейверинг с улыбкой переглядывались. Впрочем, эта улыбка мгновенно исчезала у обеих, стоило Джону или мне прямо на кого-то из них посмотреть. А когда вечером скатывали ковры и начинались танцы и мама аккомпанировала нам на рояле, играя народные танцы и джиги, я всегда первый и последний танец танцевала с Джоном. И он всегда провожал нас до кареты и, поскольку вечера становились все прохладней, накидывал мне на плечи шаль, а иногда даже завязывал у меня на шее ее концы, слегка касаясь при этом моей щеки, бледной и нежной, как цветок в лунном свете.
Затем, с грохотом выехав с конюшенного двора, к нам подъезжали кареты, и Джон заботливо подсаживал меня, нежно сжимая на прощанье мои тонкие пальцы и как бы безмолвно говоря мне «спокойной ночи» среди всеобщего шума и громких возгласов. А потом, когда мы неспешной рысцой ехали домой, я сидела, откинувшись головой на шелковую подушку, и вспоминала теплую улыбку Джона, блеск его глаз, нежное прикосновение его руки к моей щеке; и мама, сидя рядом со мной, тоже улыбалась и выглядела удивительно спокойной.
Но это на редкость приятное и непринужденное ухаживание все же не настолько поглощало меня, чтобы я забыла о необходимости все время держать Гарри в руках, ибо только так я могла удержать в руках и Широкий Дол. По меньшей мере раз в неделю я поднималась в потайную комнату на чердаке и там бросала Гарри в бездну страха и наслаждения, мастерски водя его по жуткому, вызывающему дрожь лабиринту извращенных страстей. Чем чаще я делала это, тем меньше значения это имело для меня самой, и в итоге я стала испытывать к моему пухлому задыхающемуся брату лишь ледяное презрение.
Теперь я отлично понимала то, что прежде скрывала от меня моя полудетская страсть к Гарри. Я полагала, что вступила с ним в любовную связь, будучи совершенно свободной в своих желаниях. Но оказалось, что на самом деле я была вынуждена сделать это, я и теперь, точно рабыня, была связана по рукам и ногам. Да это, по сути дела, никогда и не было моим свободным выбором. Я тогда так сильно хотела его, потому что он был сквайром, хозяином Широкого Дола. Сам по себе он, в общем-то, не был мне нужен. К тому же, Гарри уже начал постепенно утрачивать свою внешнюю привлекательность, свой чистый и ясный юношеский облик; он довольно быстро полнел, становился все более пухлым и громоздким. Теперь это был уже не мамин «золотой мальчик», а молодой сквайр, и связь с ним определенно не имела никакого отношения к свободному выбору: сказать ему «нет» я теперь уже никак не могла. Моя безопасность и возможность сохранить за собой надежное место в Широком Доле требовали, чтобы я во что бы то ни стало держала в руках хозяина этой земли. И я платила ему ренту столь же неукоснительно, как платят ее мне наши арендаторы своими медяками, увязанными в лоскут. Только я платила иначе. Лежа на спине под его тяжелой, навалившейся на меня тушей, или расхаживая по комнате и угрожая ему странными и страшными наказаниями, я выплачивала причитающееся. И понимание этого безумно меня раздражало.
Но если Гарри давно утратил свое волшебное очарование «бога урожая», то принадлежавшая ему земля не утратила ни капли своей магической притягательности. В ту осень Широкий Дол сверкал алыми красками, как лист рябины. Летняя жара уходить не спешила, и даже в октябре я ездила с Джоном кататься, всего лишь накинув на плечи шаль. Но когда в ноябре все же начались заморозки, я обрадовалась: затвердевшая земля лучше удерживала запахи, да и на инее, по утрам покрывавшем землю, было легче различить следы лисиц. Начинался охотничий сезон, и я впервые после двух лет траура вновь села в седло и с наслаждением смотрела, как наши гончие слушаются команд молодого сквайра – точно так же они когда-то слушались команд нашего отца. Каждый день мы с Гарри проверяли собак, и все наши разговоры сводились к гунтерам и охоте на лис. Для Гарри это был первый охотничий сезон, и он очень опасался его запороть. Но его любовь к разведению породистых животных принесла плоды, и теперь у нас были самые быстрые гончие в графстве, за которыми приходилось мчаться галопом, не разбирая дороги и перепрыгивая через любые препятствия. Свора была отличная – так что наверняка найдутся желающие выехать вместе с нами на охоту и помочь справиться с гончими. Наш егерь Шоу знал о лисицах все на свете, да и я всегда была с Гарри рядом.
Глава двенадцатая
И Гарри со всем справился вполне неплохо – с помощью егеря Шоу и меня, разумеется. Наш первый выезд на охоту в октябре был поистине великолепен; он начался на общинных землях и там же закончился, завершив широкий круг по полям; добычу мы подстрелили на границе нашего парка, где лес сменяется зарослями вереска и папоротника. Это был старый лис, на которого, клянусь, мы с отцом уже когда-то охотились, но тогда ему удалось уйти от нашей медлительной и старомодной своры. Теперь лис стал на три года старше, и, хотя папы на свете больше не было, даже неумелому Гарри, у которого напрочь отсутствовало охотничье чутье, было ясно, что хитрая тварь стремится к ручью, чтобы сбить со следа собак.
– Посылай их туда, Гарри! – завопила я, перекрывая отчаянный лай собак и грохот копыт; ветер, ударив мне в лицо, уносил в сторону звук моего голоса.
Взревел охотничий рог, и лошади рванулись вперед; гончие, бешено лая, распластались над землей в последнем убийственном рывке, но старый лис, выбиваясь из сил, все еще стремился уйти, и это ему почти удалось, но на берегу ручья собаки все же его настигли. Гарри ринулся прямо в гущу скулящих голодных псов, отрезал лисий хвост и подал его мне. Я кивнула в знак благодарности и приняла окровавленный приз, не снимая перчатки. Я всегда получала первую добычу сезона с тех пор, как мне исполнилось одиннадцать и папа вымазал мне лицо отвратительной, вонючей, липкой кровью.
Мама, помнится, в ужасе охнула, увидев меня, всю перепачканную кровью после этой дикарской процедуры, и уже была готова открыто выразить свой протест, но отец строго заявил, что мыть меня ни в коем случае нельзя.
– Но от ребенка пахнет лисицей! – возмутилась мама. И голос ее, дрожащий от гнева, сорвался.
– Такова традиция, – твердо заявил отец. Традиция! Этого было вполне достаточно и для него, и для меня. Господь свидетель, я никогда не была писклявой избалованной девчонкой, но когда отец стал основанием окровавленного лисьего хвоста размазывать мне кровь по лицу, меня затошнило, и я даже слегка покачнулась в седле. Но в обморок не упала. И мыться не стала.
Я решила эту проблему по-своему: и чтобы угодить отцу – а это, честно говоря, было весьма мне свойственно, – и чтобы остаться честной перед самой собой. Отец говорил, что кровь убитого зверя, согласно традиции, нельзя смывать; она должна сама высохнуть и отвалиться. Я думала несколько часов, пока не поняла, как решить эту проблему. Тем временем кровь на моей юной физиономии успела превратиться в хрустящую корку. Я подошла к старой поилке из песчаника, устроенной возле конюшни, села возле нее на землю и стала тереться своими нежными щеками и лбом о грубые каменные стенки поилки, и в итоге мое лицо стало чистым, хотя и исцарапанным до крови.
– Ты что, все-таки вымылась, Беатрис? – строго спросил папа, когда на следующий день мы с ним встретились за завтраком.
– Нет, папочка, что вы! Корка сама отвалилась, – сказала я. – Можно мне теперь снова начать умываться?
От оглушительного, хотя и добродушного, отцовского хохота зазвенели оконные стекла и серебряные кофейные принадлежности.
– Не без твоей ли помощи, моя дорогая крошка, она «сама отвалилась»? – утирая слезы салфеткой и не в силах перестать смеяться, вопрошал он. Потом притих и, все еще посмеиваясь, сказал: – Да, да, конечно, теперь можешь мыться сколько угодно. Ты не нарушила традицию, и это хорошо. Но поступила по-своему, и это тоже хорошо, но ужасно смешно.






