Широкий Дол Грегори Филиппа
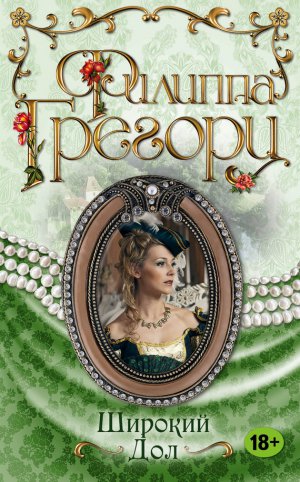
– Да, – сказала я и прибавила с умышленной жестокостью: – Я сказала ему, что решать все будет Селия. – Селия так и подскочила, словно ее кольнули ножом, и я не сумела скрыть удовлетворенного блеска своих глаз. – Ты, разумеется, сумеешь все сделать наилучшим образом, верно, Селия? Ты ведь теперь так хорошо разбираешься в жизни нашей деревни. Праздник будет недели через три, в субботу. Примерно в то же время, как и обычно. Днем раньше или позже – никакого значения не имеет. Главное, чтобы имелось достаточно еды для восьмидесяти или ста человек и чтобы еда была свежей. – После этих слов Селия, по-моему, окончательно пришла в ужас, и я, глядя на нее, не смогла подавить короткий презрительный смешок и сказала: – Извините, но у меня очень много работы. – Наклонившись, я демонстративно захлопнула окно прямо у них перед носом, на мгновение встретившись через стекло с глазами Джона. Но даже он показался мне невероятно далеким.
Я была права, предсказывая хороший урожай. Но ошиблась, думая, что он будет убран в течение трех недель. Даже при жарком солнце, делавшем, правда, работу в полдень настоящим мучением, и при дополнительной команде жнецов из работного дома мы завершили уборку лишь на второй неделе августа.
Душа моя должна была бы петь: урожай был чудесный. Мы начали жатву с новых, недавно огороженных полей, и жнецы шли широким фронтом вверх и вниз по трем покатым, выровненным склонам холмов, и звонкие сухие колосья волна за волной падали перед ними. По утрам в первые дни кое-кто еще заводил порой песню, чувствуя запах зрелой пшеницы, слушая треск сухих стеблей, падавших под серпами жнецов, и забывая, что это богатство и красота никому из работников не обещают в этом году безопасной и безбедной зимы.
– Я так люблю, когда они поют, – сказал Гарри, притормаживая коня рядом со мной после обзорной поездки по холмам.
Я-то весь день пробыла в поле. Я все свои надежды возлагала на этот урожай. Только он мог спасти Широкий Дол, и я не могла доверить его уборку никому другому.
– Я тоже, – с улыбкой сказала я. – С песней они и работают быстрее.
– Я, пожалуй, и сам мог бы взяться за серп, – сказал Гарри. – Давненько я этого не делал.
– Сегодня не стоит, – остановила я его. – На этом поле не стоит.
– Как скажешь, – сказал он, как и всегда ни о чем не догадавшись. – Нам тебя подождать? Ты приедешь к обеду?
– Нет, – ответила я – Скажи, чтобы мне оставили поесть в кабинете. Я, возможно, пробуду здесь весь день; хочу посмотреть, вернутся ли они к работе после того, как сходят домой и поедят.
Гарри кивнул и уехал. Проезжая мимо жнецов, которые как раз добрались до конца поля, он натянул поводья и остановился, глядя, как распрямляют спины, морщась от боли, те, кто страдает ревматизмом. Жнецы с усталыми и печальными лицами протерли серпы и вновь стали выстраиваться в шеренгу, точно пехотинцы. Гарри весело крикнул им: «Добрый день! Хорошего урожая!» Сомневаюсь, очень сомневаюсь, что он обратил внимание на то, что никто из них ему не ответил.
Жнецы работали до полудня, но поле было сжато едва ли наполовину, хотя двигались они совсем не так уж медленно – если бы они тянули время, я бы сразу это заметила, и они прекрасно это знали. К тому же они еще не совсем привыкли к мысли о том, что от этого урожая им ничего не достанется. Они все еще любили эту золотистую, стоящую стеной пшеницу и двигались вперед ровно и легко, каждым движением, каждым взмахом серпа выражая свою радость при виде великого плодородия этой земли. Но волны пшеницы по-прежнему катились до самого горизонта. Поле было таким огромным! Только теперь, когда большая команда жнецов проработала уже полдня, я осознала, какой огромный кусок земли я отдала под пшеницу и каким триумфом обернулся этот урожай.
Женщины, дети и старики следовали за жнецами, прижимая к себе охапки сжатой пшеницы и скручивая их жгутом в плотный сноп с тяжелой макушкой из колосьев. У женщин сохранилось куда меньше иллюзий, чем у мужчин, по поводу неожиданного взрыва плодородия на новых полях, и мне приходилось следить за ними с хищностью коршуна, поскольку они то и дело «случайно» отрывали колосья пшеницы и запихивали их в карман фартука, точно жалкие нищие. При этом они старательно поворачивались ко мне спиной, чтобы я не увидела, как они прячут традиционные милости урожая, как они, с невинным видом поглядывая вокруг, как бы случайно роняют на землю несколько стеблей пшеницы, чтобы кто-то, не обязательно сама виновница этого, смог позже, после жатвы, собрать побольше колосков.
Такова была старинная традиция Широкого Дола – и сбор колосков после жатвы всегда отличался щедростью. Земля здесь была так плодородна, пшеница вырастала такой высокой, что ни один сквайр никогда не возражал против этого невинного воровства, разве что порой слегка ворчал с улыбкой.
Но теперь все было иначе.
Теперь все должно было быть иначе.
Я выждала, когда на дороге появятся дети с кувшинами эля, с караваями хлеба и кусками сыра. Все это они принесут на обед своим родителям. Но в этом году, как я заметила, хлеб был скорее серый, испеченный с добавлением большого количества гороховой муки или толченого турнепса. И сыра никому не принесли. А в кувшинах была просто вода. Эти мужчины и женщины, работавшие весь день под палящим июльским солнцем, могли утолить свой голод только куском серого хлеба и водой. Ничего удивительного, что они выглядели такими бледными даже под слоем грязи и пота. Ничего удивительного, что перерыв на обед больше не сопровождался шутками и смехом, обменом сплетнями и раскуриванием трубок. Теперь они набивали трубки сушеными листьями боярышника. А когда, поев, ложились на спину, чтобы немного подремать, то даже молодые мужчины подкладывали руки под голову и безмолвно смотрели в небо, словно надеялись увидеть там некое будущее, которое освободит их от этой бесконечной нищеты.
И минута в минуту, ровно через полчаса я звонко крикнула: «Все, довольно! Принимайтесь снова за работу!»
Мужчины и женщины поднимались на ноги с той же готовностью, с какой свинья вылезает из любимой грязной лужи навстречу мяснику-убийце. Они гневно поглядывали на меня, и лица у них были насупленные, сердитые, но вслух никто ничего не говорил, разве что тихонько бормотал себе под нос. Солнце было уже в зените. Сидя на лошади, я чувствовала, как сильно оно припекает; от жары мои волосы завились кольцами, особенно на шее сзади, а шелковое платье насквозь промокло от пота. Жнецы, прихрамывая, согнувшись в три погибели, продолжали двигаться по полю из конца в конец, методично взмахивая серпами, но выглядели, точно больные лихорадкой, так они были бледны и так обливались потом. Да и женщины, иссушенные голодом и тревогой, казались смертельно больными.
– Пусть все соберутся вокруг меня, – сказала я не допускающим возражений тоном и выждала, пока эти несчастные встанут возле меня полукругом, покорные, как скотина. Я заметила – и неприятный холодок пробежал у меня по спине, – что все они стараются не наступать на мою тень. Когда Тобермори переступал с ноги на ногу и наша с ним тень перемещалась, вся толпа тоже перемещалась, качаясь, точно пшеница в поле, чтобы, не дай бог, моя тень ни на кого не упала.
– Выверните карманы, – смело потребовала я и уставилась на их склоненные головы – они понурились и от усталости, и от унижения, вызванного этим неожиданным, позорным приказом. – Выверните карманы, я говорю!
Толпа тупо молчала. Затем вперед вышел один из парней – он был из семьи Роджерса.
– Жнецы всегда имели право собирать колоски, – сказал он, и его молодой голос был чист и мелодичен, как звон колокола.
– Хорошо, давай посмотрим, сколько колосков у тебя в карманах, – парировала я. – Выверни их.
Он хлопнул руками по клапанам своих кожаных штанов и возмущенно сказал:
– Это право жнецов! Вы же не станете надевать намордник на быка, который идет через пшеничное поле. А мы пока еще не быки. Мы жнецы, причем умелые жнецы. И горстка зерна утром и вечером – это всегда жнецу полагалось!
– А теперь больше не полагается, – холодно возразила я. – Во всяком случае, у нас, в Широком Доле. Выверните карманы, молодой Роджерс, или я попрошу вас покинуть свой дом. Ну? Выбор за вами.
Он гневно сверкнул глазами, но я не оставила ему выхода.
– Значит, вы больше не хотите к нам по-доброму относиться, мисс Беатрис? – в отчаянии сказал он. – А ведь когда-то вы придерживались старых традиций! Но теперь стали хуже этого сборщика заказов из работного дома!
И он, приподняв клапаны карманов, вытащил оттуда дюжины две пшеничных колосков.
– Бросьте колосья на землю, – велела я. Он молча сделал так, как я сказала, и глаз на меня больше не поднял, и я догадалась: он не смотрит на меня, потому что не хочет, чтобы я увидела у него, молодого, почти взрослого мужчины, на глазах слезы.
– А теперь пусть то же самое сделают все остальные, – ровным тоном приказала я.
И они один за другим стали выходить вперед, двигаясь, как марионетки, и бросать на землю колосья пшеницы, пока передо мной на фоне этого огромного богатого поля не собралась небольшая, почти ничтожная кучка. Жалкая покража – ее хватило бы разве что на два каравая хлеба. Они надеялись использовать это зерно, чтобы сделать свой суп хоть чуточку гуще и благодаря этому немного растянуть оставшиеся у них запасы бекона. А может, хотели сварить жидкую кашку детям или покормить грудного младенца, который все плачет и плачет, поскольку у его матери нет молока. В целом, конечно, это почти ничего не могло дать деревне, а потеря для поместья составляла едва ли несколько пенсов.
– Это воровство! – твердо сказала я.
– Нет, это право жнецов! – крикнул кто-то из зад-них рядов.
– Я слышу вас, Гарри Саггет, – сказала я, не поднимая глаз и не повышая голоса, и по толпе пробежал ропот страха, потому что я мгновенно узнала того, кто попытался бросить мне вызов. – И все-таки это воровство, – повторила я. – Вы все слышали, что говорил доктор Пиерс насчет воровства: воры сразу же попадают в ад. А также вы прекрасно знаете, что, согласно закону, за воровство полагается виселица. Теперь послушайте, что скажу вам я: любой, кого я поймаю хотя бы с одним зернышком пшеницы в кармане, будет сразу передан мировому судье, а его или ее семья в ту же ночь останется без крова над головой.
Толпа вздохнула, почти простонала, но этот протяжный звук сразу же смолк.
– И никакого сбора колосков после жатвы не будет, пока команда из чичестерского работного дома не пройдет по полям и не соберет для меня все, что вы там нарочно оставите, – твердо заявила я. – Только когда поле будет убрано так, как я того хочу, вы сможете выйти и посмотреть, не осталось ли там чего.
И снова над толпой прошелестел испуганный вздох. Но что они могли мне сказать? В заднем ряду я заметила молодую женщину. Это была Салли Роуз, уже ставшая матерью, но не имевшая мужа, который мог бы зарабатывать и кормить ее и ребенка. Задрав свой жесткий передник, она закрыла им лицо и тихо плакала.
– А теперь приступайте к работе, – почти ласково сказала я. – И если не будете воровать и обманывать, вам не придется сетовать на мою несправедливость.
Услышав в моем голосе более мягкие нотки, они стали поднимать на меня глаза. Но души их были полны подозрений и тревоги, и я по-прежнему замечала, что пальцы обступивших меня людей скрещены все в том же старинном жесте, отгоняющем злые силы.
Я весь день пробыла в поле, но жнецы так и не успели до конца его обработать. Это был какой-то невероятный урожай, просто чудо какое-то, а не урожай! Впервые тронутая плугом общинная земля растила пшеницу так, словно все эти невинные, наполненные цветением вереска годы только и мечтала всколыхнуться бледно-желтыми волнами хлебов. Пшеницу, по-моему, больше никто не крал, а зрение у меня было достаточно острым, и с коня я видела почти все поле целиком. Но думать мне ни о чем не хотелось, мысли текли вяло, и на душе было холодно.
На закате, когда небо приобрело перламутровый оттенок из-за легких пушистых облачков бледно-розового и серовато-жемчужного цвета, я велела прекратить работу и подождала, пока все вытрут серпы и аккуратно сложат их на повозку. Затем мужчины надели куртки, а женщины набросили шали и устало побрели домой. Я смотрела, как они гуськом тащатся к деревне и молчат, словно слишком устали и слишком опечалены, чтобы переговариваться. Двое молодоженов, правда, шли обнявшись, но то, как он поддерживал ее, а она прильнула к его плечу, было больше похоже на сострадание, чем на любовь. Более взрослые супруги шли рядом, но на расстоянии друг от друга, как ходят обычно после долгих лет, прожитых в бесконечной нищете, после целой жизни сплошных сожалений. Я проверила, чтобы работники хорошенько закрепили за собой ограду, но не уехала, а стала смотреть, как они спускаются по тропе к деревне. Я придерживала коня, пока они окончательно не скрылись из виду, и лишь когда я осталась совсем одна среди темнеющих деревьев, я развернула Тобермори, вброд переехала Фенни и легким галопом промчалась по подъездной аллее к дому.
Душа моя была спокойна. За день было сделано много, да и урожай оказался гораздо лучше самых смелых моих ожиданий. Если удача и дальше будет мне сопутствовать, если я снова смогу стать богиней урожая и обеспечить хорошую погоду на все время жатвы – пусть хотя бы еще раз в жизни, только в этом году, – то вся затеянная нами рискованная игра будет стоить свеч.
Если я смогу расплатиться с самыми срочными долгами и сделать взносы в погашение других долгов, я также восстановлю репутацию Широкого Дола среди банкиров и финансистов. Как только они убедятся, что я способна возвращать долги, они перестанут плести против меня заговоры. Распределение между ними определенного количества денежных средств, да и сам этот поистине золотой урожай сослужат мне добрую службу и обеспечат некоторую безопасность. Эти денежные люди, подобно лисицам, убивают только слабую жертву. Они окружили Широкий Дол, полагая, что мы потерпим неудачу. Однако при первых же признаках успеха они снова будут готовы предложить мне щедрые кредиты.
Баланс между полным разорением и полной победой покоился теперь на том, успею ли я убрать зерно в амбары с помощью таких работников, недокормленных, недовольных, настроенных почти на мятеж, прежде чем погода испортится. Ведь тогда может погибнуть та пшеница, что еще будет оставаться в поле. Если я успею, то получу щедрый бонус от мистера Гилби, и Широкому Долу еще по крайней мере год ничто угрожать не будет. Ветер и небо, похоже, пока обещали назавтра ясную погоду. В общем, шансы на победу были велики.
Хотя на сердце у меня было по-прежнему тяжело; сердце мое в те дни словно превратилось в кусок тяжелого стекла, и я уже отчаялась когда-либо снова почувствовать, как оно подпрыгивает от радости; отчаялась даже просто снова ощутить себя живой. Но душа моя, по крайней мере, была спокойна. И мужество мне, как всегда, не изменяло.
Я чуть тронула поводья, и Тобермори еще ускорил свой бег; темные кусты и деревья пролетали мимо нас, как призраки, и, наконец, среди древесных стволов мелькнули огни нашего дома.
– Боже мой, как ты поздно! – сказала Селия, встречая меня, с топотом влетевшую на конюшенный двор. – Ты, наверно, забыла, что мы сегодня собирались обедать у моей мамы?
– Извини, Селия, – сказала я, соскальзывая с седла и бросая поводья конюху. – Я действительно совершенно об этом забыла.
– Я могу за тебя извиниться, если ты не хочешь ехать, потому что слишком устала, – предложила она. – Но тебе не будет скучно дома одной? – Собственно, карета уже ждала их, и Селия внимательно и с легкой тревогой вглядывалась в мое лицо. В сумеречном вечернем свете она, одетая в вечернее платье, выглядела поистине безупречно. Гарри и Джон, столь же безупречно одетые, стояли у нее за спиной.
– Ничуть, – сказала я, без малейшей любви улыбаясь им. – Как вы все великолепно выглядите! Мне после работы в поле понадобилось бы несколько часов, чтобы достигнуть подобного совершенства. Оставьте меня вместе с моей грязью дома, а завтра расскажете, как прошел этот визит.
– Если хочешь, мы можем снова послать карету – за тобой, – сказала Селия, усаживаясь и аккуратно расправляя на сиденье свое серое шелковое платье.
– Нет, нет, – поспешно ответила я. – Я действительно страшно устала и мечтаю только о том, чтобы вымыться и лечь в постель. И потом, завтра я снова должна рано встать, чтобы выйти в поле вместе со жнецами.
Селия кивнула, а Гарри, проходя мимо, наклонился и поцеловал меня в щеку.
– Спасибо тебе, моя дорогая, – сказал он. – Ты настоящая хозяйка Широкого Дола!
Я улыбнулась ему в ответ, но взгляд мой тут же стал настороженным, поскольку Джон взял меня за руку и любезно пожелал мне спокойной ночи и удачного завтрашнего дня.
– Ты выглядишь усталой, Беатрис, – сказал он, внимательно на меня глядя.
– Я невообразимо устала! – с улыбкой призналась я. – Но, надеюсь, горячая ванна приведет меня в норму. И сытный ужин. Боюсь, я бы попросту объела леди Хейверинг, если бы поехала с вами.
Улыбка, появившаяся на губах Джона, так и не добралась до его глаз; впрочем, и меня отнюдь не согрела моя безрадостная шутка.
– Да, – сказал он. – В этом году у нас действительно получается какой-то голодный сбор урожая.
Он выпустил мою руку и сел в карету вместе с Гарри и Селией, и эта странная троица в полном согласии покатила прочь. В тот вечер я их больше не видела. После того как я приложила все усилия, чтобы изгнать из своего усталого тела боль с помощью обжигающей ванны, я с наслаждением съела ужин, которого с лихвой хватило бы на двоих, и закопалась в постель, точно ежик, готовящийся к зимней спячке. Но прежде чем уснуть, я снова испытала в душе странную острую боль, вспомнив скрытые слезы в глазах молодого Роджерса. Однако боль эта быстро прошла. Ничто не могло ни тронуть, ни поколебать меня в жаркие дни этой печальной жатвы.
В последующие дни я мало видела Гарри, Селию или Джона. Начинался августовский всплеск светской жизни, а это означало пикники, праздники, ярмарки в Чичестере, летние пирушки, театральные представления и поздние балы. Для меня же август означал только сбор урожая и ничего более. Я действительно лишь однажды заметила ту веселую жизнь, которую ведет Селия, когда она потребовала лошадей, чтобы заложить карету, а я ей отказала, потому что велела всех лошадей использовать для перевозки зерна. И Селия, самая очаровательная забавница, какую видел свет, даже не нахмурившись, тут же отменила пикник и вместо него устроила у нас в саду праздник для детей. Она смеялась и танцевала в беседке среди роз, а Джон аккомпанировал ей на гитаре, и казалось, будто ей все равно, поехала она на пикник или на бал или осталась с детьми и теперь старается их развлечь. Я слышала ее смех и ее легкие шаги по деревянным полам, пока сидела за письменным столом и делала последние подсчеты, готовясь выплачивать жалованье. За окном я видела, как мой сын, Джулия и Селия, взявшись за руки, водят хоровод среди роз.
Я, впрочем, не испытывала ни малейших сожалений от того, что вынуждена сидеть в закрытом помещении, тогда как они веселятся на солнышке. Маленькие ножки Ричарда день ото дня становились все смуглее, а на его мордашке цвела россыпь веснушек, как на яйце чибиса, но я ничего не имела против того, чтобы видеть его только сквозь оконное стекло. Итогом моей тяжкой работы этим летом должно было стать то, что меня больше не охватит страх, когда я открою ящик со счетами. Под одним тяжелым стеклянным пресс-папье лежала стопка ужасающих квартальных требований от моих кредиторов, от держателей моих залоговых обязательств и от прочих людей, дававших мне в долг. Но под другим пресс-папье был листок с подсчетами будущих доходов от каждого из пшеничных полей. И каждый наполненный солнцем долгий день, пока жнецы, потея, взмахивали своими серпами, а я без движения сидела верхом на Тобермори в тени, если, конечно, мне удавалось эту тень найти, приближал Широкий Дол к вожделенному равновесию. Если сухая погода еще продержится и если на несжатых полях урожай будет столь же хорош, мы, возможно, сумеем даже получить некую прибыль.
Этим летом я, по сути дела, вела жизнь вульгарного управляющего имением, но ничего: на будущий год я постараюсь быть такой же веселой и всеми любимой, как Селия. Одно лето, всего одно лето я была вынуждена либо торчать взаперти, подсчитывая доходы, либо весь день проводить в поле, присматривая за возможными расхитителями и саботажниками. Но к следующему лету я непременно снова стану самой хорошенькой девушкой в нашем графстве. И следующим летом я сама буду всему учить Ричарда, и он будет танцевать со мной, а не с Селией. Через год я уже не буду чувствовать в своей душе этого мертвящего холода. Я снова стану веселой, счастливой и такой же легкой и простой в общении, как Селия.
В дверь тихонько постучались. Оказалось, что это Гарри, одетый, с его точки зрения, самым подходящим образом для участия в жатве. Вместо темных шелковых панталон и камзола он надел клетчатые домотканые штаны, но оставил свою рубашку из тонкого льняного полотна и блестящие кожаные сапожки для верховой езды. Он выглядел как те «селяне», которых изображают на своих картинах некоторые неважнецкие художники. По-моему, это была просто жестокая пародия на того молодого золотоволосого бога, который всего лишь три года назад привез на мельницу урожай пшеницы. Тогда округлое лицо Гарри было юным, покрытым золотистым загаром, а теперь оно стало пухлым, даже жирным, и от жары щеки его были вечно покрыты ярко-красным румянцем. Если прежде черты его лица были четкими, как у греческой статуи, то теперь профиль его расплылся, да и мясистые щеки и двойной подбородок тоже украшением не служили. И тело Гарри, тело гибкого молодого бога, теперь стало телом самого обычного человека, который к тому же выглядит старше своих лет, потому что слишком снисходительно к себе относится и обладает весьма заметным избыточным весом.
Гарри вообще утратил многое из того, что обещала его юность, в том числе пытливый, хотя и несколько книжный, ум и сообразительность. Тот Гарри, что когда-то был школяром и обладал страстной любовью к книгам и процессу познания, был несколько сбит с пути царившими в школе развратными и жестокими нравами и тем, что обнаружил в себе тягу к извращенным наслаждениям. И теперь он читал исключительно книги о сельскохозяйственных машинах и инструментах, а также всякие странные модные романы, да порой еще рассказы о всевозможных наказаниях и мучительных пытках, которые хранил в потайном ящике на чердаке.
Он был очень похож на нашу мать. И всегда старался избегать любых неприятных сцен или неприятной правды; он жаловался, что подобные вещи вызывают у него боль в груди. И всегда был готов сам воспользоваться первой же удобной ложью или принять лживые заверения других, лишь бы не сталкиваться лицом к лицу с жестокой действительностью.
Впрочем, в чем-то Гарри был похож и на меня. Мы оба были одержимыми детьми, но если я была одержимая нашей землей, Широким Долом, то для Гарри самым главным в жизни являлись его собственные удовольствия и умение оправдывать себя во всем. И он позволял себе толстеть, злоупотребляя вкусной и обильной едой и сладкой выпечкой, и все больше краснел лицом из-за чрезмерной любви к порто. А еще он стал весьма ленив и неряшлив в отношении собственного тела, потому что стремился получить наказание, дарившее ему такое острое наслаждение, а отнюдь не к чистой, свободной, равноправной любви.
И вот теперь он оделся как артист из бродячего театра в роли принца-нищего, собираясь работать бок о бок с голодными оборванными людьми, которые получают жалкие гроши. Я подумала о том, что деревенские парни, работающие сейчас в поле, вряд ли могут наскрести денег, чтобы сшить хотя бы одну приличную рубашку на всех, и вздохнула, глянув на нелепо сияющего Гарри.
– Я подумал, что, пожалуй, подъеду в поле на одной из повозок и тоже немного пожну, – с восторгом сообщил он мне, точно мальчишка. – Они ведь сейчас на Дубовом лугу работают, верно?
– Нет, – сказала я. – Там они работали два дня назад. Сейчас они на Трехвратном. Я туда позже подъеду, а ты пока можешь проследить за сбором колосков, если поедешь. Я тебе говорила, что запретила им воровать пшеницу, помнишь?
– Да, – сказал Гарри. – Ладно, я, наверное, пробуду там до обеда. А если не вернусь к трем, пришли, пожалуйста, кого-нибудь из конюхов, чтобы он привез мне поесть.
У меня мелькнула мысль, что надо бы предупредить Гарри, чтобы он был осторожен, но я позволила этой мысли угаснуть. Если ему так уж хочется изображать джентльмена-земледельца, это вряд ли сильно усугубит положение. Та горечь, что уже существует в наших отношениях с деревней, вряд ли может стать еще более горькой. И потом, я отлично помнила, что взяла на себя всю вину за те перемены, что происходят в нашем поместье. Если Гарри удастся снова завоевать сердца крестьян, если они опять увидят в нем божество урожая, это, возможно, несколько ослабит напряжение. В таком случае у них в этом году будет довольно-таки пухлое божество и далеко не такое загорелое и мускулистое, как три года назад. Но если им будет приятно, что молодой сквайр встал в один ряд с простыми жнецами, они, может быть, и работать будут немного быстрее.
Гарри плюхнулся на возок и затянул песенку, которую почему-то считал деревенской, с бесконечными припевами вроде «хэй-нонни-но!» – я лично подобной песни никогда не слышала ни от одного из местных крестьян, даже пребывавших в сильном подпитии. А когда его возок заскрипел по подъездной аллее, он, усевшись рядом с возницей, стал махать рукой Селии и детям.
Назад он вернулся уже через час, и я даже издали увидела, насколько мрачное у него лицо. Я отодвинула с сторону письмо, которое писала, и стала ждать его горестного рассказа. Вскоре громко хлопнула дверь, ведущая в западное крыло, и я ощутила волну горячего воздуха, когда Гарри без стука влетел ко мне в кабинет.
– Они меня оскорбили! – заявил он, и его нижняя губа задрожала от ярости и огорчения. – Они даже разговаривать со мной не пожелали! И не захотели петь те песни, которые мы пели всегда. Они даже не посторонились, чтобы дать мне место в ряду жнецов, а попросту вытеснили меня к самой изгороди. И ни одна девушка мне не улыбнулась! А когда я предложил: «Давайте споем, ребята!», один сказал: «Нам так мало платят, сквайр, что даже на то, чтобы дышать, не хватает, куда уж нам петь. Вы лучше сделайте так, чтобы ваша сестрица, у которой глаза как кремни, платила нам по справедливости, вот тогда мы, пожалуй, и станем петь, как эти проклятущие черные дрозды, чтобы вам удовольствие доставить. Но пока нам жрать нечего, пойте сами!»
– Кто это сказал? – быстро спросила я. – Я немедленно вышвырну его из поместья.
– Откуда же я знаю? – даже с какой-то обидой воскликнул Гарри. – В отличие от тебя, я их и друг от друга-то не отличаю, и уж совсем не знаю, как кого зовут. Они для меня все на одно лицо. Да у них и лица-то какие-то смазанные, без особенностей. Этот был довольно пожилой, но я не знаю, кто он. Зато другие наверняка знают.
– Ну да, и они, конечно, тут же мне скажут! – рассердилась я. – Ну, и что ты с ним сделал?
– Ничего! Уехал домой! – с негодованием ответил Гарри. – А что я еще мог сделать? Если уж я не могу убирать урожай в собственных полях, то уж приехать домой к обеду я точно могу. Ты думаешь, они обрадовались, что их сквайр вышел в поле и работает с ними бок о бок? Если уж они так хотят, чтобы все было по-старому, так нужно же как-то соответствовать традициям!
– Действительно, – сухо бросила я. – А что, далеко ли они продвинулись?
– Ах, да я едва успел что-то заметить! Я так расстроился! – беспомощно развел руками Гарри. – Нет, право, Беатрис, это уж слишком. Могу тебя заверить, что больше этим летом я в поле не поеду. Тебе придется самой за всем присматривать, а если тебе будет слишком тяжело, то пусть это делает Джон Брайен. Ведь недопустимо, чтобы меня, сквайра, подвергали таким оскорблениям!
– Ну, хорошо, – устало сказала я. – Ступай. Успокойся, выпей кофе с печеньем, и сразу почувствуешь себя гораздо лучше.
– Но почему они так со мной разговаривали? – снова огорченно спросил Гарри, и на его лице отчетливо проявилась работа мысли. – Разве они не понимают, что так теперь развивается весь мир?
– Похоже, что нет.
– У меня болит вот тут, в груди, когда я огорчаюсь, – сказал Гарри, и в его голосе послышались плаксивые нотки капризного ребенка. – Мне очень вредны подобные сцены. А этим людям давно пора понять, что мы делаем для них все, что можем. И работу мы даем, и благотворительностью занимаемся! Селия, например, каждую неделю тратит по нескольку фунтов на суп и хлеб для бедных. А тут еще этот праздничный обед в честь урожая! Недешево он нам обойдется. И, между прочим, никакой благодарности мы за это не получим!
– Праздничный обед? – резко спросила я. – Но в этом году я не собиралась устраивать никакого праздничного обеда.
Гарри посмотрел на меня непонимающим взглядом и сказал:
– Так ведь его Селия устраивает. Ты же сама просила ее этим заняться. Праздник состоится, как обычно, на мельнице, когда будет сжато последнее поле и в амбары уберут последний возок зерна.
– Нет! – в ужасе воскликнула я. – Гарри, этого нельзя допустить! Билл Грин и сам вот-вот разорится, так что вряд ли он будет рад, если к нему на мельницу кто-то веселиться явится. Получится еще хуже, чем на Рождество. Тут даже и предсказать ничего не возможно. И потом, это же не уборка урожая в закрома. Мы просто обмолотим зерно и отдадим его мистеру Гилби, который увезет все отсюда до последнего зернышка!
– Но ведь Селия уже все устроила, Беатрис, – попытался неловко оправдаться Гарри. – Да и я сегодня всем об этом сообщил – еще до того, как они мне пшеницу жать не позволили. Боюсь, будет только хуже, если мы теперь объявим, что никакого праздника не будет.
Я нахмурилась: это действительно было очень некстати.
– Вот уж не думала, что Селия так серьезно воспримет мои слова, – сказала я. – И все-таки праздник придется отменить.
– Как хочешь, – неуверенно сказал Гарри, – только все уже готово. И, по-моему, все собираются прийти. Так что проще это вытерпеть, чем отменять.
Я покусала кончик пальца, пребывая в глубоких раздумьях.
– Ну ладно, – сказала я. – Раз уж все готово и мельник Грин не отказался, то, полагаю, пусть праздник состоится. Только странный это будет праздник – словно на перепутье между старой жизнью и новой.
– Возможно, когда зерно будет убрано в амбары, они немного повеселеют, поедят, выпьют, вот все и получится, как в то первое чудесное лето, – мечтательно заявил мой безмозглый братец.
– Сомневаюсь, – обронила я. – Нельзя повторить дважды одно и то же лето. Да и сам Широкий Дол стал иным. И ты тоже. А я и вовсе сама себя не узнаю. – Я помолчала, чувствуя, как печально звучит мой голос. – В общем, договорились. Раз все уже готово, пусть они собираются и празднуют. А мы можем уехать совсем рано – особенно если возникнут неприятности.
Гарри, слегка утешившись, ушел, чтобы пере-одеться и выпить кофе; теперь он был вполне способен излить свои переживания вечно сочувствующей ему Селии. Но она повела себя несколько неожиданно: подстрекаемая суровым взглядом Джона, она высказала предположение, что люди, возможно, не вели бы себя так грубо, если бы не были доведены до отчаяния. Гарри тут же надменно заявил, махая перед ней своим пухлым пальцем:
– Ну, вот что, Селия! Ты уж позволь, пожалуйста, нам с Беатрис управлять имением так, как мы считаем нужным. Если в деревне кому-то придется потуже затянуть пояс, то особого вреда от этого не будет. Только аппетита прибавится к устроенному тобой праздничному обеду! Поверь, мы с Беатрис в этом лучше разбираемся.
Селия уже открыла рот, чтобы ему ответить, но бросила из-под ресниц быстрый взгляд на Джона и передумала. Они теперь прекрасно понимали друг друга даже без слов. Теперь участие в споре взял на себя Джон, понимая, что Селия не может столь откровенно бросить Гарри вызов; она и так уже преступила черту дозволенного приличиями.
– А ведь Селия права, Гарри, – спокойно сказал Джон, пряча свое неприязненное отношение к моему брату и одновременно желая заставить его понять причину того, почему они с Селией так обеспокоены. – Мы с Селией в последнее время часто бываем в деревне, – сказал он, и я чувствовала в его голосе прежнюю властность и уверенность. – Мы установили там некий порядок, согласно которому продукты, которые мы туда привозим, распределяются прежде всего среди тех, у кого есть больные дети, и среди стариков, а уж потом что-то получают и все прочие. Однако – и это совершенно очевидно – мы не в силах по-настоящему помочь этим людям, пока в Широком Доле не будет найдено некое долгосрочное решение возникшей в деревне нищеты.
– Никто же не отрицает, – сказал Гарри, – что сейчас для всех, кто зависит от земли, настали трудные времена. – И он, сунув в рот еще одно печенье, принялся решительно его жевать.
– В деревне не просто «трудные времена», – терпеливо продолжал Джон. – Там скоро начнут умирать от голода, и смертей будет много, если ничего не предпринять. Те продукты, которые привозим мы, способны поддержать лишь несколько отдельных семей, но там голодает гораздо больше людей, и мы не можем помочь им всем.
– А все потому, что они упорно продолжают плодиться и заводить огромные семьи, – холодно заметила я. – Они рожают детей, понятия не имея, как будут их содержать. А вы двое только поощряете их стремление жить в раю для дураков. Пока вы даете им пищу, они никогда не поймут, как на самом деле устроен мир.
Джон сурово на меня глянул.
– Как устроен твой мир, Беатрис, – сказал он с неким неприязненным любопытством. – Твой мир, в котором ты способна сотни лет пользоваться трудом целой деревни, а потом вдруг разом отказать ей в какой бы то ни было поддержке, оставив на жалованье только двух умелых работников.
Я промолчала.
– В твоем мире, Беатрис, ничто не мешает женщинам без конца беременеть и плодить нищету, однако там бастарды знатных господ ходят в шелках и могут даже надеяться на богатое наследство, а вполне законные дети бедняков ходят раздетыми и голодными.
Я прекрасно поняла его намек на тех двух бастардов, рожденных от кровосмесительной связи, что живут в этом доме, и опять промолчала, но бросила убийственный взгляд на Гарри, который, облизывая масляные пальцы, во все глаза смотрел на Джона.
– Ничего удивительного, что они не способны понять, как на самом деле устроен мир, – сказал Джон, – потому что этот мир, твой мир, Беатрис, даже меня ставит в тупик. Я никогда не видел такого чудесного места, как Широкий Дол, хотя немало путешествовал по Англии и Шотландии, и менее чем за год это поместье перестало быть одним из самых преуспевающих, самых благополучных в графстве и оказалось в руках кредиторов, а крестьяне, живущие на его земле, попросту голодают. Так какой же мир более реален? Тот чудесный, который ты унаследовала от отца, или тот кошмарный, который ты создала собственными руками?
– Ну-ну, довольно, – сказал Гарри, все же заметив мой отчаянный взгляд. – Нет смысла винить во всем одну Беатрис. В конце концов, мы теперь ведем хозяйство так же, как и все остальные. И, разумеется, хотим получать от своей земли максимальный доход. Беатрис просто воспользовалась самыми очевидными методами хозяйствования.
– А мне кажется, что даже при современных методах хозяйствования выбор все-таки существует, – сказал Джон по-прежнему спокойно и холодно. Его поведение вообще вызывало во мне глухую ярость – он держался так, словно вел научный диспут в университетской аудитории. Я отошла к камину, оперлась одной рукой о каминную полку и молча наблюдала за ним. – Существует выбор между тем, что назвать самым важным в жизни – желание заработать как можно больше или попытку жить так, чтобы не причинять вреда другим людям и, может быть, даже сделать жизнь этих других людей чуточку лучше. Ты и Беатрис – прости меня, Гарри, – похоже, склонны получать прибыль любой ценой. И мне это определенно не нравится.
И Джон так посмотрел на Гарри и на меня, словно только что вскрыл ланцетом гниющую рану. От его слов я почувствовала себя грязной и мерзкой, но с нарочито подчеркнутым вздохом сказала:
– Ей-богу, Джон, для сына набоба твои моральные требования слишком высоки. А твои обвинения в адрес тех, кто стремится получить прибыль, звучат просто нелепо! Ты, конечно, можешь позволить себе роскошь угрызений совести, потому что всю грязную работу за тебя сделает кто-то другой; кто-то другой заработает для тебя и деньги, и благополучие. Ты с рождения являлся наследником огромного состояния, так что богатство тебе презирать довольно легко.
– У меня действительно было огромное состояние, – поправил он меня, блеснув глазами. – И тебе, Беатрис, лучше благословлять Бога за то, что я действительно презираю богатство. Потому что его у меня больше нет.
Селия вскочила и явно хотела выбежать из комнаты, потом взяла себя в руки и, повернувшись к Гарри, печально сказала:
– Все мы, похоже, говорим о разных вещах и даже ссоримся, а между тем дела в деревне идут все хуже и хуже. Гарри, я умоляю тебя: останови эту бесконечную погоню за прибылью! По крайней мере, дай этим несчастным беднякам возможность купить здесь зерно по приемлемой цене. Всем прекрасно известно, что скупать зерно по дороге к рынку, чтобы повысить цену, – это нехорошо. Ваш отец никогда этого не делал. И вы обещали, что никогда этого делать не будете. Прошу вас, умоляю: продайте жителям деревни какое-то количество пшеницы!
– Довольно, Селия! – сказал Гарри, полагаясь на уже испытанное оружие – громкоголосые, но пустые угрозы. – Ты что, пытаешься обвинить меня в том, что я нарушил данное отцу слово? Ты ставишь под сомнение мою честь?
– О нет! – воскликнула она. – Вот только…
– Все, хватит! – рявкнул Гарри, выходя из себя. – Беатрис ведет хозяйство так, как мы оба считаем нужным. И я на будущий год отправлюсь убирать урожай вместе со всеми, когда деревенские перестанут на нас дуться. И давай прекратим этот разговор.
Селия опустила глаза, и я заметила одинокую слезинку, подобно дождевой капле скатившуюся на серебряную крышку кофейника. Но больше она ничего не сказала. И Джон, лишь взглянув с сочувствием на ее поникшее лицо, тоже больше ничего говорить не стал. Я еще немного выждала, убедилась, что нам удалось-таки заставить их замолчать, а потом вернулась к себе в кабинет. Мне еще нужно было поработать.
Наконец-то перспектива вырисовывалась более светлая. Поля убирали гораздо быстрее, чем когда-либо раньше, и я каждый день выезжала туда, охваченная лихорадкой нетерпения, мечтая поскорее все закончить.
Но впереди я чувствовала не только возможность большой прибыли и освобождения от кредиторов, но и приближение грозы. В воздухе отчетливо чувствовалось какое-то неприятное покалывание, хотя небо по-прежнему было совершенно безоблачным, более ясного неба и представить себе было невозможно. И все же я чувствовала, как где-то за горизонтом собираются черные тучи. Собираются против меня.
Дни стояли жаркие. Жара была даже чрезмерной. Это была не та яркая первая жара начала лета, а жара душная, угрожающая. Шею Тобермори покрывали полосы засохшего пота, даже когда он стоял в тени, а зловредные мухи роями вились у него над головой. Люди, работавшие в полях, страдали от этой духоты безмерно, один из жнецов даже упал в обморок – это был Джо Смит, сын старого Джайлса. Причем упал он на редкость неудачно – прямо на свой серп. Ряд жнецов сразу рассыпался; люди бросились к нему, и я тоже подъехала поближе. Рана была нехорошая, почти до кости.
– Я пошлю за хирургом в Чичестер, – великодушно пообещала я. – Пусть Марджери Томпсон пока перевяжет рану, а я пошлю за доктором, и он ее зашьет.
Джо посмотрел на меня. Его лицо было белым от шока; темные глаза затуманила острая боль.
– Я бы предпочел, чтобы рану мне зашил доктор МакЭндрю, мисс Беатрис, – смущенно сказал он. – Если можно, конечно.
– В таком случае полезайте в повозку, – сказала я, внезапно раздражаясь, – и вас отвезут прямо в усадьбу. Надеюсь, ваш любимый доктор МакЭндрю сейчас дома. Если же его нет, если он отправился творить свои добрые дела в деревне, вы сможете посидеть на конюшенном дворе и подождать его. Надеюсь, вы не истечете кровью, пока его дожидаетесь.
И я, пришпорив Тобермори, резко развернулась и снова отъехала в облюбованную мной полоску тени у изгороди. Оттуда мне было видно, как люди помогают Джо сесть в повозку. Ему повезло: Джон был в саду и сразу увидел его, как только повозка въехала на конюшенный двор. Разумеется, он все сделал бесплатно и так умело, что Джо уже через два дня снова вышел в поле собирать колоски. Эта история послужила еще одним доказательством мастерства Джона. И еще одной причиной любви к нему всех этих людей. А у меня появился еще один враг.
Теперь я со всех сторон была окружена врагами. Я целый день работала в поле, где было полно мужчин, которые меня ненавидели, и женщин, которые меня боялись. А ночью лишь одна дверь отделяла меня от того человека, который желал моей смерти. И я, просыпаясь на рассвете, знала, что где-то там, в холмах, таится еще один мой страшный враг, который задумал погубить меня, который уже готов за мной прийти.
И природа, похоже, тоже меня ненавидела. Жара все держалась, и ветра не было совсем. Пшеничные стебли уже не звенели, когда их срезали серпом, а едва шуршали. И вокруг царила какая-то неестественная тишина. Мужчины не разговаривали; женщины не пели, и даже маленькие дети, помогавшие вязать снопы, говорили шепотом или молча играли поодаль, а когда я на Тобермори подъезжала к ним поближе, они в ужасе шарахались от меня, раскрывая в безмолвном крике рот и показывая черные гнилые зубы. А потом растворялись где-то за зеленой изгородью в гуще травы, точно больные лисята.
В такую жару даже птицы не пели. Можно было подумать, они примолкли, разделяя с Широким Долом его горе, усугубленное этим жутким пеклом. Лишь на рассвете, в зловещих отблесках зари, или в серых, исполненных тревоги, вечерних сумерках птицы принимались петь, но голоса их звучали, точно визг побитой собаки.
Да и солнечный свет казался мне иным, каким-то зловещим. Я уже готова была поверить, что меня и впрямь подводят мои глаза, да и все остальные органы чувств тоже, заставляя меня бояться грозы именно тогда, когда солнечная тихая погода мне отчаянно необходима. Но если я могла и не доверять покалыванию собственной кожи на вспотевшей спине и запаху влаги в тяжелом воздухе, то спутать с чем-то эту чрезмерную яркость неба было невозможно. Эта яркость резала глаза. Это был не тот густо-голубой с желтоватым отливом спокойный цвет августа, это была какая-то пронзительная голубизна, в глубине которой таилась темная болезненная сердцевина, придавая небу пурпурный оттенок. Солнце выглядело, как страшная кровавая рана, и утром открыв глаза, я каждый раз невольно вздрагивала, взглянув на него. Носить длинное, с многочисленными нижними юбками платье тоже было тяжело, и я с отвращением натягивала его на себя. Небо дышало жаром; земля под ногами была твердой, как железо; невыносимый зной вытянул из нее всю влагу. Река Фенни так обмелела и съежилась, что из окна моей спальни больше не было слышно ее журчания; а там, где она протекала через деревню, от нее несло помоями и навозом. Собственное тело тоже казалось мне совершенно обезвоженным и сухим, как прошлогодний листок, как пустая раковина, в которой давно уже умерло то маленькое влажное существо, что там обычно обитает.
Так что я постоянно торопила жнецов. Каждое утро я первой появлялась в поле и последней его покидала. Я погоняла жнецов, точно ленивую захудалую лошаденку, и они бы, наверно, готовы были начать брыкаться, если б осмелились. Но они не осмеливались. И стоило им остановиться, чтобы утереть пот со лба или смахнуть с глаз его разъедающие капли, как тут же раздавался мой окрик: «За работу, за работу! Не останавливаться!» И они снова со стоном хватались за серпы; ручки серпов были скользкими от пота и натирали мозоли даже на их привычных жестких ладонях. Жнецы даже шепотом не произносили ни слова, проклиная меня; у них попросту не хватало на это дыхания. Они работали так, словно их единственной целью было поскорее покончить с этой жуткой работой, убрать урожай и встретить зиму, которая принесет им голод, холод и быструю смерть.
А я сидела верхом на исходящем потом Тобермори, и лицо мое было бледным от напряжения; я смотрела на этих людей из-под полей шляпы, не затенявшей мне глаза, и понимала: то же страстное желание живет и в моей душе. Я смертельно устала. Устала без конца следить за несчастными жнецами и погонять их. Устала заставлять себя делать это. Устала от того внутреннего голоса, который уверенно, размеренно и твердо, как похоронный колокол, твердил мне: «Все напрасно. Напрасно. Напрасно». Но, похоже, даже эти слова уже не имели ни малейшего смысла.
Впрочем, жатва была почти закончена. Снопы стояли в полях, ожидая вывоза. Люди, хватая ртом воздух, бессильно падали на землю в безвоздушной тени под оградой. Женщины и старики, что вязали снопы, тоже почти закончили свою работу, но мужчины смотрели на своих согнутых в три погибели жен и престарелых родителей безжизненными, погасшими глазами, не имея сил им помочь.
Марджери Томпсон – та самая, что была у викария, когда Джон спас Ричарду жизнь, – уже закончила работу и присела под изгородью на краю поля. Я следила за ней из-под ресниц, потому что внимание мое вдруг привлекло нечто, сильно меня встревожившее. Марджери крутила в руках стебли пшеницы, лежавшие у нее на коленях, и что-то явно из них плела. Это была еще одна традиция Широкого Дола – последний сноп, самый последний в собранном урожае, плели в виде соломенной куколки, пшеничного младенца. Сплетенная самой мудрой из старух, такая куколка как бы становилась главным символом урожая. И я каждое лето дарила свои ленты, чтобы замкнуть тот волшебный круг, что в восприятии крестьян как бы соединял меня с новым урожаем. Я не раз видела раньше пшеничную куколку «мисс Беатрис», победоносно восседавшую на груде снопов. А в тот год, когда Гарри сам привез урожай в амбары, пшеничная куколка была похожей на него, хотя и выглядела несколько непристойно: вместо рубашки на ней была какая-то тряпка, а между сплетенными из соломы ногами торчал толстый колос пшеницы, самым непристойным образом изображавший возбужденный мужской член. Все вокруг прямо-таки ревели от хохота, а Гарри потом, ухмыляясь, забрал эту куколку, унес домой и спрятал, чтобы мама не увидела. Те куколки, которые делали для меня, я развешивала по стенам своего кабинета в качестве доказательства, если я вдруг начну забывать, что мир документов, долгов и деловых отношений – это всего лишь кажущаяся жизнь, а настоящий мир – это пшеница в поле и богиня плодородия земель Широкого Дола.
Традиция, связанная с пшеничными куколками, как-то ускользнула от моего внимания – слишком уж меня занимали всевозможные денежные проблемы, – но, глядя, как движутся ловкие пальцы пожилой женщины, умело переплетающие стебли пшеницы, я вдруг почувствовала, что сердце мое сжимается от дурных предчувствий. Что-то подсказывало мне, что меня ожидает новый кошмар, что против меня, возможно, пущены в ход некие колдовские чары.
Облака наконец-то перестали прятаться. Они не только появились на небе, но и стали собираться на горизонте пышными грудами, затмевая неверный солнечный свет и вызывая преждевременное ощущение сумерек. Впрочем, думала я, облака и так повременили достаточно и теперь я спасена. Как только благополучно прибудут повозки мистера Гилби и зерно Широкого Дола будет отправлено на самый богатый рынок в мире, дождь может лить сколько угодно, может хоть всю деревню смыть, хоть весь Широкий Дол, ибо мне тогда будет уже все равно. Я сделала все, что могла и должна была сделать, и теперь меня мало волновала грядущая буря, даже если этот ливень меня утопит.
Тобермори вздрогнул на ветру – не потому, что ветер был таким уж холодным; собственно, в нем по-прежнему не было ни капли свежести, зато отчетливо чувствовалась угроза. Этот ветер был таким горячим, словно дул прямиком из Индии, неся с собой черную магию этой далекой и опасной страны. Марджери Томпсон, держа пшеничную куколку на коленях, что-то бормотала, тетешкала ее, как младенца, и тихонько смеялась как бы про себя. Остальные, закончив вязать снопы, с любопытством на нее поглядывали. Снопы были уже сложены в центре поля в несколько неустойчивую пирамиду, и теперь нужно было лишь посадить на вершину этой пирамиды пшеничную куколку и отметить этим конец жатвы.
– Ну, вот и готово! – воскликнула Марджери и так ловко подбросила куколку, что та уселась ровно на самый верх пирамиды. Жнецы стали подходить ближе; их словно притягивал к себе этот старинный символ урожая; в руках они по-прежнему держали свои острые серпы.
Собственно, главное развлечение заключалось в том, чтобы с некоторого расстояния бросить в груду снопов свой серп, стараясь проткнуть им пшеничную куколку. Это удалось Биллу Форрестеру. Он усталой походкой подошел к пирамиде, чтобы забрать этот приз и принести его ко мне. Но как только куколка оказалась у него в руках, он вдруг покраснел до корней волос и отшвырнул ее под ноги другому жнецу, стоявшему рядом. Так они швыряли куколку, точно футбольный мяч, от одного к другому, пока чья-то умелая рука – не знаю уж чья – не направила вращающуюся в воздухе куколку прямо ко мне. Тобермори испуганно шарахнулся, а я, крепко держа поводья одной рукой, на лету поймала куколку, не успев подумать, что, возможно, было бы лучше дать ей упасть на землю.
Собственно, пшеничных куколок было две. Две совокупляющиеся фигурки. То самое чудовище с двумя спинами, которое почудилось тогда нашей матери в гостиной перед камином. Шея одной из куколок была повязана куском серой ленты, когда-то выпрошенной у меня, а торс второй был обмотан льняной тряпкой, изображавшей рубашку Гарри. У его фигурки между ногами торчал точно такой же колос пшеницы, как и четыре года назад, но если тогда это воспринималось как удачная, хотя и несколько грубоватая шутка, то теперь выглядело совершенно непристойно. К тому же этот фаллический символ был засунут между соломенными ногами второй куколки, изображавшей меня. Значит, наша тайна вышла наружу и теперь была обнародована.
Но не в виде сплетни, думала я, потрясенная, оцепеневшая от ужаса, продолжая держать в руках этих чудовищных куколок, умело сплетенных из доброй пшеницы Широкого Дола. Мне казалось, что от этих фигурок исходит нестерпимая вонь. Они являли собой нечто большее, чем простое желание посплетничать о грязных тайнах господ. Это было сделано специально. По зрелом размышлении. И заключенный в этом намек был похож на ядовитый дым, легко проникающий повсюду и угрожающий здоровью. А еще он был похож на глухие раскаты неумолимо приближающегося грома. Марджери Томпсон, эта умная старая женщина, внутренним слухом услышав эти грозовые раскаты, создала такое оружие, которое попало точно в цель. Правда сама ей открылась, сама, по собственной доброй воле заявила о себе. А Марджери просто учуяла запах этой правды, ту вонь похоти и инцеста, что так и вилась возле моих юбок. Эту вонь давно уже почувствовала моя мать; ее неосознанно боялась Селия; и вот деревенская старуха выразила открывшуюся ей страшную истину, создав этих куколок из чудесной пшеницы Широкого Дола и показав всем, что в нашем поместье и в нашем мире все идет не так, как надо.
Я разорвала изящно сделанные фигурки на куски и бросила их на землю, под копыта Тобермори.
– Вы все вызываете у меня отвращение! – сказала я, глядя куда-то поверх их голов, в воздух, становившийся все более плотным. – Вы – просто свинячье дерьмо и заслуживаете, чтобы с вами обращались, как со свиньями, потому что даже мысли у вас свинские. Если до сих пор я вас терпела и старалась обращаться с вами по-человечески, то теперь этому пришел конец. Теперь у меня не осталось к вам вообще никаких чувств. И если отныне между нами война, то тем лучше. Я в ближайшее же время огорожу все общинные земли и сотру с лица земли вашу деревню. Я очищу от вас свое поместье. И на моей чистой, хорошей земле будут расти чистые злаки, потому что там больше не будет ни ваших вонючих лачуг, ни ваших ужасных детей, ни ваших грязных мыслей.
Мужчины, понурившись, снова уселись на землю, и лишь женщины остались стоять, вздыхая, как ели, когда первое дыхание бури колышет их колючие ветви. Но никто не плакал, не просил у меня прощения. Этот раскаленный воздух, казалось, иссушил все души, высосал все силы, вздымая над землей маленькие смертоносные предгрозовые смерчи.
– А теперь ступайте отсюда, – сказала я, и голос мой, полный ненависти, прозвучал как-то надтреснуто из-за предельной усталости. К тому же горло у меня совершенно пересохло. – Идите и помните: когда я сегодня приду на праздник урожая, тот мужчина, который не снимет передо мной шапку и не поклонится мне, и та женщина, которая забудет сделать передо мной книксен, в тот же миг лишатся заработка, дома и работы.
Женщины снова завздыхали, как лес, охваченный лесным пожаром, когда огонь, точно любовник, лижет стволы молодой поросли, а вершины больших деревьев трепещут, взывая о помощи.
А я, развернув Тобермори, поехала прочь, оставив их стоять на жнивье. К груде снопов уже с грохотом направлялись первые повозки, и на передней я заметила Джона Брайена.
– Я уезжаю, мне нужно переодеться, – сказала я ему. – Я позже приеду прямо на мельницу.
– Боюсь, во время праздника могут быть неприятности, – осторожно предупредил он меня. Его городское лицо чужака, вечно выглядевшее немного испуганным на этой земле, как-то странно осунулось и в чересчур рано наступивших, предгрозовых сумерках казалось желтовато-зеленым. Я услышала треск, резкий, как от костра, вспыхнувшего в сухом папоротнике, и лицо Брайена внезапно ярко высветила белым мощная молния, вспыхнувшая где-то за линией горизонта в холмах.
– Неприятности всегда могут быть, – устало сказала я. – И всегда можно арестовать парочку молодых парней или повесить какого-нибудь старика. Они могут даже бунт нам устроить, но мы всегда его потушим. Сегодня и до конца молотьбы охранять мое зерно будут люди из Чичестера. Да и мистер Гилби пришлет вместе с возами свою охрану. Так что деревенских злоумышленников я не боюсь. А завтра мы с вами поговорим о том, что всех их следует вышвырнуть из деревни, а саму деревню сжечь. Я больше не желаю видеть этих людей на своей земле. Они мне больше не нужны.
Глаза Брайена, похожие на глаза ласки, так и сверкнули в предвкушении возможности применить силу против тех, кого он презирал.
– Мы с вами еще увидимся на мельнице, – сказала я. – А теперь постарайтесь поскорей убрать пшеницу в амбары. Я думаю, дождь пойдет еще не сразу, но уж когда он начнется, это будет настоящая буря.
Брайен кивнул и щелкнул кнутом, но торопить лошадей пока не требовалось. Я была права насчет дождя. Он действительно решил пока повременить, и я, усталая, ехала домой, с трудом вдыхая раскаленный воздух. У меня было такое ощущение, словно кто-то зажал мне рот горячей влажной губкой, и если бы у меня была возможность вздохнуть, я бы стала во весь голос звать на помощь.
В доме тоже все было залито странным, предгрозовым светом. Гостиная казалась зеленой, как морские глубины, а лицо Селии – белым, как белый коралл. Этакая утонувшая девственница. Ее глаза на смертельно бледном лице были как темно-коричневые дыры, и когда она наливала мне чай, руки у нее сильно дрожали.
– Что с тобой? – спросила я.
– Я и сама никак не пойму, – сказала Селия и даже попыталась рассмеяться, но ее серебристый смех на этот раз прозвучал неприятно резко. Джон, не сводивший глаз с ее напряженного лица, тут же встрепенулся и спросил:
– Ты плохо себя чувствуешь?
– Да нет, – сказала Селия, – я думаю, все дело в этой ужасной погоде, в этом постоянном ощущении надвигающейся грозы, которая все никак не начнется, и это ожидание становится просто мучительным. На меня словно что-то давит, мне то жарко, то холодно и пробирает озноб. Я сегодня ездила в деревню, и там все очень и очень плохо. Некоторые женщины, похоже, меня попросту избегали. Я совершенно уверена: у нас будут большие неприятности из-за вывоза зерна, Беатрис. Угроза прямо-таки висит в воздухе – даже страшно становится. И потом, меня не покидает ощущение, словно вот-вот случится нечто поистине ужасное…
– Пойдет дождь, вот что случится, – сухо бросила я, чтобы прервать этот поток неуместных фантазий. – Настоящий ливень. Мне кажется, на праздник нам лучше поехать в карете, а не в открытом ландо.
Селия кивнула.
– Да, я уже велела приготовить карету, – сказала она. – Ты, конечно, потрясающе умеешь предсказывать погоду, Беатрис, но для того, чтобы почувствовать приближение такой грозы, твое умение, пожалуй, не требуется. У меня, например, уже несколько дней все тело покалывает, как у кошки, когда ее против шерсти гладят. Но грозы я боюсь гораздо меньше, чем тех настроений, которые царят в деревне.
– Ну что ж, а я пока что, пожалуй, успокою свои нервы, приняв ванну и надев свежее платье, – сказала я с притворным равнодушием. Но я постоянно чувствовала взгляд Джона и знала: он заметил, как потемнели мои глаза после пророчеств Селии. – А потом нам, наверное, уже пора будет ехать. Как по-твоему, Селия, когда нам лучше туда прибыть? Зерно свезут в амбары, я думаю, уже в течение часа.
– Как только ты сама будешь готова, – несколько рассеянно ответила мне Селия, и в тот же момент над вершинами холмов глухо прокатился гром, а потом вспышка молнии, такая яркая, что стало больно глазам, осветила комнату странным синим сиянием и погасла, оставив нас моргать глазами в кажущейся кромешной темноте. Селия даже подпрыгнула от неожиданности и засмеялась, но в ее смехе явственно слышались истерические нотки.
– Тогда я потороплюсь, – сказала я. Но двигаться быстро у меня просто не было сил. Да и воздух казался каким-то чересчур плотным, наполненным бесчисленными отзвуками и каким-то тайным смыслом. А еще в этом воздухе чувствовалась вонь того недавнего ужаса, к которому я даже мысленно не могла заставить себя повернуться лицом. Я медленно проплыла в этом густом воздухе к дверям и даже попыталась улыбнуться всем на прощанье, но у меня вышла не улыбка, а какой-то неловкий оскал. Да и взгляд остался мертвым, холодным. Джон встал и, открывая передо мной дверь, случайно коснулся моей руки.
– Ты же холодная как лед! – удивленно воскликнул он с явной профессиональной заинтересованностью, хотя в голосе его, как и всегда в последнее время, слышалась легкая неприязнь. – Нет ли у тебя температуры, Беатрис? Или, может, ты тоже грозы боишься? И тоже чувствуешь напряжение и ненависть, что буквально разлита в воздухе вокруг нас?
– Нет, я просто устала, – с трудом промолвила я. – У меня такое ощущение, словно я всю жизнь только и делала, что занималась уборкой пшеницы. Я ведь много дней подряд от зари до зари проводила в поле, тогда как ты и Селия посиживали себе в гостиной, плели против меня интриги и пили чай, оплаченный моими трудами. Ну, а мне приходилось тем временем торчать на солнцепеке, пытаясь спасти Широкий Дол. Впрочем, я не жду ни благодарности, ни того, что кто-то поймет, как это нелегко.
– Погоди, – наконец оторвался от блюда с печеньем Гарри, – ты же знаешь, Беатрис, почему я не могу тебе помогать. Они меня ни в грош не ставят, их поведение просто оскорбительно, а я не могу терпеть оскорбления!
Мои губы изогнулись в презрительной улыбке.
– Да и зачем тебе терпеть оскорбления, Гарри, – сказала я. – Я все сделаю и все вытерплю – вместо всех вас! – И перед моим мысленным взором вновь возникли те оскорбительно непристойные соломенные куколки, у одной из которых так вызывающе торчал мужской член, сделанный из толстого пшеничного колоса. А мастерски переданное страстное объятие создавало ощущение, словно эти соломенные любовники катаются по постели в приступе извращенной страсти и вот-вот свалятся с нее в момент наивысшего экстаза. – А теперь я просто устала, – сказала я, словно ставя точку. – Пожалуйста, извините меня. Сейчас пойду и попросту смою с себя и усталость, и дурное настроение.
Но зря я надеялась, что кто-то станет, как обычно, носить мне горячую воду из кухни. Все слуги, разумеется, знали, что на мельнице уже начинается празднество, а потому на кухне не осталось никого; причем все они ушли, не сказав мне ни слова, не спросив разрешения. Повариха, оказывается, вообще взяла выходной и вместе со Страйдом уехала в Чичестер, взяв мою двуколку. В итоге обслуживать меня пришлось одной Люси, и она горько жаловалась, что каждое ведро горячей воды ей приходится тащить по двум пролетам лестницы и трем коридорам.
– Довольно, Люси, – наконец сказала я ей, вновь чувствуя себя отдохнувшей и приободрившейся. – А теперь повторите, пожалуйста, кто из слуг остался в доме?
– Только камердинеры, горничная леди Лейси и я, – ответила Люси. – Все остальные ушли на мельницу. И обеда нет. Вам приготовлен только легкий холодный ужин.
Я кивнула. В прежние времена домашние слуги всегда участвовали в любом празднике или развлечении, которые устраивались в деревне. Именно они, кстати, обычно выпрашивали разрешение занять наш выгон для всяких спортивных игр. Но теперь эти легкие и простые договоренности, лишенные каких бы то ни было расчетов, остались в прошлом.
– Хорошо, значит, я всех лишу жалованья за этот день, – сказала я, когда Люси, набросив мне на плечи полотенце, вынула у меня из волос шпильки и принялась расчесывать длинные волнистые пряди. Глядя на нее в зеркало, я заметила, что она кивнула, но глаза ее смотрели холодно.
– Я так и знала, что вы это сделаете, – сказала она. – И они это знали. Вот и пошли отпрашиваться у леди Лейси, а она им сказала, что они могут быть свободны.
Я посмотрела ей прямо в глаза и не отводила своего сурового взгляда, пока она не потупилась.
– Предупредите их, Люси, что меня лучше не злить, – сказала я ровным тоном. – Я устала от непослушания – и на поле, и в доме. И если они будут продолжать в том же духе, то пусть пеняют на себя. На свете хватает слуг, которые ищут место, а я больше не питаю особой привязанности к тем, кто родился и вырос в Широком Доле.
Теперь Люси смотрела только на мои отливающие медью, шелковистые волосы, расчесывая их медленными, ровными движениями. Затем, ловко перехватив волосы одной рукой, она скрутила их и уложила пышным мягким узлом на макушке.
– Красавица! – каким-то ворчливым тоном признала она. Я посмотрела на себя в зеркало. Да, я действительно была прелестна. Дни, проведенные в поле, позолотили мою кожу, придав ей чудесный медовый оттенок; после ванны из моего лица ушли усталость и напряжение, и я снова стала очаровательной двадцатилетней девушкой с нежным румянцем на щеках и россыпью очаровательных крошечных веснушек на скулах и вокруг носа. Загар прекрасно оттенял мои зеленые глаза, и они сверкали ярче обычного. Волосы, слегка выгоревшие на солнце, отливали бронзой, локоны, обрамлявшие лицо, стали и вовсе золотисто-рыжими.
– Да, – с холодным достоинством согласилась я, ибо нельзя было не признать физическую безупречность того, что отражалось в зеркале, и сказала: – Я надену зеленое шелковое платье. – Я встала из-за туалетного столика, нарочно уронив влажное полотенце на пол, чтобы Люси пришлось нагнуться и поднять его. – Меня уже тошнит от серого и черного. И потом, на мельнице ведь никого из приличных господ не будет.
Люси принесла из гардеробной мое зеленое платье-сак. Корсаж, суживающийся книзу, спереди туго перетягивался поясом, а широкие полы и задняя часть юбки свободно летели сзади.
– Хорошо, – удовлетворенно заметила я, туго перепоясавшись лентами корсажа, – только здесь дышать нечем. Откройте окно, Люси.
Она распахнула окно, но снаружи в комнату хлынул горячий и влажный воздух, точно из носика кипящего чайника. Я даже застонала невольно.
– Ох, хоть бы скорей эта погода переменилась! – вырвалось у меня. – Воздух просто горло обжигает. Даже двигаться трудно. И все вокруг кажется каким-то страшно тяжелым!
Люси без малейшего сочувствия глянула на меня и сказала:
– Да уж, эта жара и на детей плохо действует. Няня мастера Ричарда спрашивала, не зайдете ли вы в детскую, когда переоденетесь. Мальчик беспокойно себя ведет, капризничает. Она говорит, что у него, наверное, зубик режется.
Я пожала плечами. Только что надетое шелковое платье уже успело нагреться и прилипнуть к телу.
– Попросите мистера МакЭндрю к нему зайти, – сказала я. – А мне еще нужно подготовиться к поездке на мельницу. Мистер МакЭндрю лучше меня знает, что в таких случаях делать. Да и Ричард его любит.
Я снова встретилась в зеркале с глазами Люси и мгновенно прочла в них приговор той женщине, что не желает даже зайти к своему ребенку, который нездоров и зовет ее.
– Ох, перестаньте, Люси! – устало сказала я. – Просто скажите мистеру МакЭндрю, чтобы он сразу же поднялся в детскую, а потом возвращайтесь и напудрите мне волосы.
Она послушалась и ушла, а я отошла к окну, пытаясь вдохнуть хоть глоток свежего воздуха. Розы в саду утратили свои чудесные оттенки. Я уж и припомнить не могла, как прелестно выглядел наш розарий до того, как над нами сомкнулась эта кошмарная мгла. Зеленая трава на выгоне казалась серой и какой-то призрачной. Алые розы выглядели зелеными и больными. Брюхо грозовой тучи нависло уже над крышей дома, и я, задрав голову, посмотрела на пурпурные края облаков, кипевших над верхним краем этой тучи, вызывая нечто родственное клаустрофобии. Этот могучий облачный купол простирался от вершин холмов до начала общинных земель, и в его своде не было ни одного просвета, ни одной щели, в которую мог бы проникнуть солнечный луч или глоток воздуха. Единственное, что ярко освещало землю, – это некий занавес из неустанно сверкавших молний, после которых раздавался такой оглушительный треск грома, словно это ломался пополам хребет Широкого Дола, не выдержав тяжести моих планов. Белые вспышки молний слепили глаза, вызывая легкое головокружение; оно так и не прошло, когда Люси напудрила мне волосы и подала шаль.
– Нет, шаль я, пожалуй, брать не буду, слишком жарко, – сказала я. Даже простое прикосновение к шерстяной ткани тут же вызвало у меня желание почесаться, и я снова вся взмокла.
– Вид у вас какой-то нездоровый, – холодно заметила Люси. Чувствовалось, что в ее душе теперь не осталось никаких теплых чувств ко мне. Я могла умирать, но она бы и бровью не повела.
– Я прекрасно себя чувствую, – столь же холодно ответила я. – Спасибо, Люси, вы можете идти. Сегодня вечером вы мне больше не понадобитесь. Вы, горничная леди Лейси и все остальные тоже намерены сегодня на мельницу пойти?
– Если разрешите, – сказала она, и я услышала в ее голосе откровенный вызов.






