Широкий Дол Грегори Филиппа
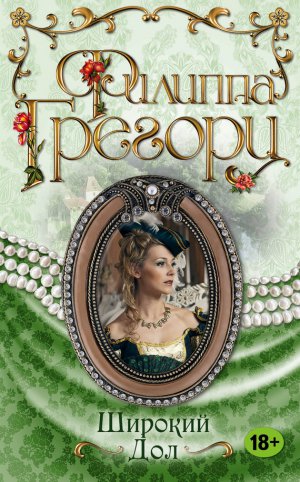
Взгляд Джона, устремленный на меня, был каким-то странным, далеким.
– Это не я тебя проклинаю, Беатрис, – сказал он. – Твое проклятье в тебе самой. По какой бы дороге ты ни пошла, тебя поджидает там затаившаяся змея. И если вскоре за тобой придет смерть, если тебя постигнет полный крах, то случится это, потому что смерть и разрушение – единственное, что ты знаешь, единственное, что ты готовишь для тех, кто тебя окружает. Даже когда ты думаешь, что действуешь во имя будущего, во имя Ричарда, во имя счастливой жизни, у тебя все равно получается нечто смертоносное – гибель людей в твоей деревне и опустошение твоей земли.
В приступе внезапной ярости я хлестнула Тобермори по морде, и он тут же взвился на дыбы – этому старому трюку я сама его когда-то научила, – передним копытом ударив Джона в плечо так, что он отлетел к дверям. Впрочем, было видно, что особого вреда этот удар ему не нанес. Я пришпорила Тобермори, и мы с грохотом помчались по аллее – казалось, я снова принимаю участие в соревновании с Джоном, только на этот раз мой соперник пользуется иным оружием: острым словом и проницательным предвидением. И мне стало жаль, что это уже не тот Джон, который когда-то так стремился выиграть в соревновании со мной, потому что очень меня любил.
Тобермори был в прекрасном настроении и страшно рад, что его вывели из конюшни, да и я была рада вновь сидеть в седле, а не в двуколке. Солнечный свет был золотистым, как шампанское, и так приятно было ощущать его на лице. Я чувствовала, что даже разрумянилась от радости, когда Тобермори рысцой про-мчался мимо прекрасных новых полей пшеницы на склонах холма. Птицы распевали вовсю, предаваясь летнему любовному безумию; где-то высоко в холмах перекликалась пара кукушек – казалось, это играет на дудочке маленький ребенок, неумело зажимая отверстия пальчиками. Жаворонки с пением взмывали высоко в летнее небо, от земли исходил теплый соблазнительный аромат зреющей травы и полевых цветов. Широкий Дол был вечен. Широкий Дол был таким же, как всегда.
Но я, увы, больше не была прежней. Я ехала верхом, как городская девушка на прогулке, и видела все, что мне нужно было увидеть, все, зачем я сюда поехала. Но увиденное почти ничего мне не говорило. Эти поля не хотели разговаривать со мной. Увиденное не пело в моем сердце. Не звучало подобно чистому звону колокола. Не звало, как зовет одна влюбленная кукушка другую. Не щебетало нежным голосом жаворонка. Да, все это было вечным, вечно прекрасным, вечно желанным. Но во мне все это больше не нуждалось. Я ехала по своей земле, как чужая. Я ехала верхом на моем Тобермори, но вела себя как человек, который только что научился ездить верхом. Я не дышала с ним в унисон. Когда я шептала его имя, он не прядал ушами, словно желая получше меня расслышать. И седло подо мной казалось каким-то жестким и неудобным, и поводья были слишком широкими для моих тонких рук. Мы с Тобермори двигались не как единое существо, получеловек-полулошадь, которому ни о чем не нужно задумываться. И копыта моего коня не впечатывались в эту землю так, как впечатывается Фенни в свое русло. Мы не были частью этой земли. Мы просто по ней ехали.
И на новые пшеничные поля я смотрела с осознанным вниманием и заботой, потому что знала: я больше уже не могу, опираясь только на инстинкт, определить, здоровы ли эти посевы. Я ехала вдоль бесконечной, уходящей вдаль ограды, когда вдруг увидела дыру, сквозь которую овцы запросто могли бы пролезть внутрь и уничтожить будущий урожай. Я привязала Тобермори к дереву, соскользнула с седла и подтащила к этому пролому здоровенную ветку. Опытным глазом поглядев на нее, я поняла: ветка не даст овцам пройти, дело сделано. Но ветка все-таки оказалась слишком тяжелой, и я вдруг почувствовала страшную усталость.
Я еще немного проехалась рысцой по холмам и спустилась вниз, оказавшись на деревенской дороге, в своем отупелом от усталости состоянии совершенно позабыв, что не была в деревне почти целый месяц. С тех пор, как получила ту подлую угрозу в виде «подарков» ко дню рождения. Деревенские ведь наверняка знают, что весь пол у нас в гостиной во время торжественного завтрака был усыпан мелкими кремешками; наши слуги, приходя на выходные домой, не преминули распространить такую замечательную сплетню. И в деревне наверняка знают, что мисс Беатрис в итоге ушла к себе, спотыкаясь, как старуха, а потом свалилась без чувств и несколько недель не вставала с постели. Я вовсе не собиралась возвращаться домой через деревню, просто Тобермори по привычке свернул на эту дорогу, а я отвлеклась и вовремя его не остановила. Но я все же решила продолжить путь, свободно держа поводья и решив про себя: пусть только кто-нибудь осмелится мне угрожать! Ведь сумела же я заставить Люси умолкнуть и даже просить прощения, когда она осмелилась нагло себя вести, а ведь тогда я еще только-только поднялась с постели после болезни. И все же быть на земле Широкого Дола и не чувствовать себя дома – нет, это было ужасно, это высасывало из меня последние силы! Плечи мои поникли, но спину я по-прежнему держала прямо, когда-то всегда учил меня мой отец. И голова моя была гордо поднята, но пальцы, сжимавшие поводья, онемели от напряжения. И Тобермори, чувствуя во мне эту перемену, ступал осторожно, выбирая путь и нервно прядая ушами.
Эта тропа спускалась прямо в деревню мимо церковного кладбища, мимо той полоски земли, которую тут называли «уголком мисс Беатрис» – с двумя, всего лишь двумя могилами самоубийц за всю долгую историю Широкого Дола. Кто-то положил свежие цветы на оба маленьких холмика. Но на них не было ни надгробного камня, ни креста. Хотя бы деревянного. Доктор Пиерс не позволил бы этого. Когда об этих могилах станет некому заботиться и цветы будут забывать туда приносить, они станут почти незаметны. А потом, возможно, просто исчезнут. И тогда здесь, наверное, перестанут называть эти две небольшие кучки земли моим именем.
Мы свернули налево, мимо церкви, и поехали по дороге. Я то ли ожидала, то ли боялась какого-то знака от деревенских, но думала об этом с каким-то тупым равнодушием. Да, собственно, что еще они могли мне сделать? Они давно уже перестали меня любить; они давно уже научились меня ненавидеть, но не осмеливались предпринять против меня ничего реального; все это были только скрытые угрозы и какая-то детская жестокость. В принципе, я могла бы ездить по деревенской улице хоть каждый день, и если бы они попробовали сделать хоть что-то неприятное мне, то я могла стереть с лица земли всю деревню. Я могла сжечь их дома, лишив их крыши над головой. И они это знали.
Пока Тобермори шагал по деревенской улице, одна из женщин, половшая жалкую грядку овощей у себя в огородике, подняла голову, с первого взгляда узнала и моего прекрасного гунтера, и мою очаровательную серую амазонку и тут же, подхватив ребенка, исчезла за дверью дома. Дверь хлопнула так, словно кто-то вскрикнул, а затем я отчетливо услышала, как изнутри поспешно задвинули засов. И словно для того, чтобы отвлечь меня от столь прямого проявления невежливости – хотя я и так знала, как зовут эту нахалку, ее имя было Бетти Майлс, – последовала целая череда упреждающих хлопаний дверью. Люди, сидя без света возле своих маленьких окошек, возле холодных очагов над полупустыми кастрюлями и без гроша в кармане, увидели, как я еду по деревенской улице, услышали топот копыт Тобермори и встали, подошли к двери и хорошенько хлопнули ею раза два-три, словно говоря: двери этой деревни передо мной закрыты. И здесь меня тоже принимать не желали.
Я направила Тобермори к дому и остановилась лишь однажды, на минутку, чтобы взглянуть на огромное поле пшеницы, раскинувшееся там, где когда-то были общинные земли. Словно по какому-то волшебству под бледно-зеленым покрывалом начинавшей колоситься пшеницы проступали еле заметные пограничные отметины. Эти две долины еще сохранили свои очертания, хотя и не очень четкие. В том месте, где когда-то высился знаменитый огромный дуб и где после того, как его выкорчевали, осталась глубокая яма, все еще виднелось нечто вроде провала. И от этого места тянулись две тонкие бороздки – две бывшие широкие, утоптанные тропы, – уходившие наверх, в холмы, где вереск уже набирал бутоны и буйно зеленели папоротники. Своим усталым, но все еще ясным умом я понимала, что яму, оставшуюся от дуба, и эти тропы просто плохо засыпали – а все потому, что меня там не было и некому было проверить, как выполнена работа. Но я не сомневалась, что еще пара лет, и плуг сотрет все следы того, что эта земля когда-то была открыта для всех и всеми была любима и ею свободно пользовались все жители деревни.
Но мне – когда я ехала верхом на своем гунтере, изящно одетая, в хорошенькой шляпке, которая очень мне шла, – казалось, что я смогу распахивать и засеивать это поле хоть каждый год в течение тысячи лет, но любому сразу будет видно, где была та тропа, по которой деревенские дети гоняли своих гусей, а где стоял большой дуб, на котором влюбленные вырезали свои имена.
Руки мои вдруг стали какими-то невероятно тяжелыми, и я, с трудом приподнимая их, повернула Тобермори, и мы рысцой направились к дому. Стоял чудесный летний полдень – теплый, полный луговых ароматов и жужжания насекомых. Мое шелковое платье трепетало на ветру. Тобермори, почувствовав, что я ослабила поводья, тут же сменил рысь на легкий галоп. Но я, подскакивая в седле, чувствовала себя деревяшкой, в груди которой вместо сердца замороженный камень.
Только Гарри был рад моему возвращению, добродушный глупец. Когда я вошла, все пили чай в гостиной, и я принялась судорожно откалывать от волос шляпку, потому что она вдруг показалась мне слишком тесной.
– Как это приятно, что ты вновь разъезжаешь верхом по всему поместью! – воскликнул Гарри. Впрочем, голос его звучал несколько приглушенно, потому что он только что откусил огромный кусок кекса с фруктами.
Селия, явно встревоженная моей бледностью, внимательно на меня посмотрела, и я заметила, как они с Джоном переглянулись и Джон окинул меня профессионально оценивающим, нелюбящим взглядом.
– Выпей чаю, – сказала Селия, жестом прося Джона позвонить слугам. – Ты выглядишь усталой. Я прикажу принести еще чашку.
– Я совсем не устала и прекрасно себя чувствую, – с некоторым нетерпением ответила я. – Но ты была совершенно права, Селия: похоже, у нас и впрямь будет отличный урожай. Если лето будет хорошим, то мы наверняка сможем рассчитаться со многими долгами.
Говоря это, я осторожно глянула из-под ресниц на Джона. Вид у него был насмешливый. Не было сомнений, да я, собственно, и раньше об этом догадывалась, что деньги семейства МакЭндрю позволили ему купить все тайны наших юристов и купцов. Только Джон, единственный из них троих, знал, что за одно лето нам ни за что не выплатить все свои долги. Минимум четыре или пять удачных лет подряд – вот тогда, может быть, что-то и получилось бы. Да только разве бывает пять лет подряд хорошая погода, особенно если от этого зависит твое выживание? В какой-то степени выплата долгов Широкого Дола напоминала бег на месте – как бывает в страшном сне, когда ты бежишь изо всех сил и не можешь убежать от неумолимо приближающейся к тебе угрозы.
– Прекрасно! – воскликнул Гарри, искренне обрадованный моим заявлением. – Но еще больше я рад тому, что ты снова на ногах и уже включилась в работу. Знаешь, Беатрис, мне бы хотелось, чтобы именно ты на следующей неделе провезла по пшеничным полям этого лондонского торговца зерном.
Я предостерегающе нахмурилась, но было уже поздно: Гарри все испортил.
– Лондонского торговца зерном? – быстро переспросил Джон. – А что ему здесь понадобилось? Я думал, вы свой урожай перекупщикам не продаете.
– Не продаем, – тут же сказала я. – Никогда раньше не продавали. Но этот мистер Гилби написал нам, что находится неподалеку и хотел бы взглянуть на наши поля, чтобы получить общее впечатление от того, какого качества пшеница в Сассексе.
Гарри открыл было рот, чтобы возразить мне, но я так на него глянула, что он тут же снова его закрыл. Впрочем, Джону и этого было достаточно. Он посмотрел на Селию – без слов, но с таким выражением, что лучше бы он прямо в лицо назвал меня лгуньей.
– Мне кажется, Гарри, – тихо, словно пробуя почву, сказала Селия, – было бы лучше, если бы вы с ним не встречались. Ведь если он предложит уж очень хорошую цену, ты не сможешь удержаться от соблазна, хотя ты сам всегда говорил, что выращенная здесь пшеница должна быть здесь же и продана, и смолота.
– Я знаю, дорогая, – нетерпеливо возразил Гарри, – но нужно идти в ногу со временем! Сейчас в Широком Доле хозяйство ведется так же, как и повсюду, так что старые идеи насчет продажи на местном рынке дешевого зерна для бедных в деловом отношении вряд ли имеют смысл.
– И потом, вряд ли эта тема подходит для разговора в гостиной, – аккуратно вставила я. – Селия, можно мне еще чаю? Погода такая теплая, что мне все время хочется пить. И, кстати, нет ли там печенья с сахарной глазурью?
Селия стала наливать мне чай, но по ее лицу было видно, что свою главную мысль она еще не высказала. Джон стоял у камина, внимательно глядя то на Гарри, то на меня. В его взгляде было сдержанное любопытство, словно мы представляли собой некие интересные образчики для его медицинских исследований, хоть и были, с его точки зрения, весьма неприятными представителями низшей ступени животного мира.
– Значит, зерно вы ему продавать не будете? – спокойно спросил он, прекрасно зная, что мы вынуждены это сделать. Мне просто необходимо было продать зерно – причем любому, кто предложит наивысшую цену. Я должна была, наконец, хоть немного расчистить эту груду долгов.
– Нет, – твердо ответила я. – Или, в крайнем случае, мы продадим лишь самую малую часть урожая. Скажем, ту пшеницу, что будет выращена на новых полях; ее, так или иначе, в прошлом году на рынке не было. Против этого ведь не может быть возражений, не так ли? Было бы просто безумием наводнить рынок Мидхёрста зерном и тем самым в итоге сбить на него цену.
– Вот как? – с преувеличенным интересом сказал Джон. – А я-то думал, что после такой зимы, которую пришлось пережить беднякам, вы будете рады дать им возможность этим летом купить дешевое зерно.
– О да! – воскликнула Селия. – Пожалуйста, сделайте так! Если урожай будет хороший, то пусть его излишки пойдут в пользу бедных! Гарри! Беатрис! Джон правильно говорит: в деревне с таким трудом пережили эту зиму. Но я уверена, что всего один хороший урожай – и наша деревня снова оживет, и люди там повеселеют.
Я молча пила чай. В конце концов, Селия – жена Гарри, а Гарри клялся мне, что не потерпит, чтобы в наши дела вмешивались такие плохо осведомленные и сентиментальные люди, как она. Гарри смущенно пошаркал ногами и посмотрел на меня в поисках поддержки. Я тоже посмотрела на него в упор своими зелеными глазами, не мигая, как кошка; этим взглядом я требовала, чтобы он немедленно прекратил столь несвоевременные проявления христианского милосердия со стороны Селии.
– Дорогая, я не намерен сейчас это обсуждать, – несколько неуверенно заявил Гарри. – Вы с Джоном совершенно справедливо беспокоитесь о бедных; меня тоже тревожит их судьба. И я совсем не хочу, чтобы люди в моей деревне ходили голодными. Но если эти люди настолько непредусмотрительны, что женятся и без конца плодят детей, заводя огромные семьи, не зная, как будут их содержать, они вряд ли могут ожидать, что им продадут дешевую пшеницу. Разумеется, голода в Широком Доле не будет. Но я не могу содержать целую деревню и одновременно должным образом вести собственное хозяйство.
– А что значит «должным образом»? – быстро спросил Джон.
– Ох, давайте сменим тему! – весело сказала я. – Наш сквайр сказал свое слово. И потом, с приходом лета в деревне гораздо меньше трудностей. Давайте лучше поговорим о чем-нибудь приятном. Может быть, пригласить гостей или устроить еще какое-то развлечение? Ведь лето уже наступило. Я, например, мечтаю свозить Ричарда к морю. Может быть, нам устроить поездку с пикником?
Селия все еще явно хотела высказаться, но вид у нее был неуверенный; она не могла и не хотела идти на открытую конфронтацию с Гарри. В итоге тема была благополучно закрыта, но я заметила, как жестко посмотрел на меня Джон, и поняла, что он продолжит выяснять мои дальнейшие планы и постарается непременно продемонстрировать всем, что каждое мое слово – ложь. Но, лишившись поддержки Селии, он ничего предпринять не мог. Просто сидел и молча наблюдал за моим лицом. Его взгляд смягчался лишь на мгновение, когда он смотрел на Селию.
После этого разговора я приложила все усилия к тому, чтобы Селии и Джона не было в поместье в тот день, когда я ожидала мистера Гилби. Я напомнила Селии, что обоим детям срочно необходимы новые башмачки, и не забыла сказать о том, что наш деревенский сапожник использует для детской обуви слишком грубую кожу – мы-то с Гарри в детстве преспокойно носили сшитые им башмаки, но Селия считала, что такие башмаки совершенно не подходят для нашей маленькой принцессы. Короче говоря, мы с Селией решили взять обоих детей с собой в Чичестер и там спокойно походить с ними по магазинам. Наши мужья тоже собирались с нами поехать. Но в самый последний момент я притворилась, будто у меня страшно разболелась голова; я даже слезу пустила и вскоре с огромным удовлетворением увидела, как трое взрослых и двое детей сели в карету и покатили по подъездной аллее. Прибытия мистера Гилби я ожидала не ранее чем через час.
Он оказался пунктуален, а мне нравится это качество. Но это было единственное, что мне в нем понравилось. Это был хрупкий человечек, явный горожанин, одетый весьма опрятно, даже почти щегольски. На нем был отлично сшитый редингот, белоснежная сорочка и высокие сапоги, так ярко начищенные, что в них, когда он мне кланялся, отражалось его лицо. А кланялся он часто. Ему тоже было известно, что Широкий Дол никогда прежде не продавал пшеницу «на корню», когда она еще только зреет в полях, а также что пшеницу здесь в первую очередь всегда предлагали своим людям, справедливо полагая, что именно благодаря их труду она стала такой высокой, горделивой и золотистой. Он знал, что все прежние, несколько надменные, сквайры Широкого Дола недолюбливали лондонских купцов, подозревая их в возможном обмане. Действительно, эти умные и хитрые денежные люди запросто могли обвести вокруг пальца честного человека и разорить его, а также отлично умели блефовать, выманивая деньги у земледельцев. Кроме того, я боялась, что и ему, и половине столицы хорошо известно, что наше поместье заложено-перезаложено; что наши счета и закладные находятся в руках мистера Льюэлина, банкиров и еще двоих лондонских купцов; что мы вынуждены иметь дело с людьми, которых всегда презирали, ибо угодили в ловушку бесконечных долгов и закладных. Мистер Гилби знал все это не хуже меня, но и тени подобной осведомленности не мелькнуло на его гладком бледном лице, когда он помогал мне сесть в двуколку.
Пока мы ехали по аллее, он все время озирался, словно прикидывая в уме стоимость нашего парка и леса, видневшегося далеко за оградой и за бывшими лугами, на которых теперь не было ни цветочка. Теперь они совершенно утратили былые очертания; земля там до горизонта была покрыта высокой зеленой пшеницей.
– Все это? – с некоторым изумлением спросил мистер Гилби.
– Да, – кратко ответила я и, взяв вожжи в одну руку и не снимая перчатки, пальцем обвела широкий полукруг на карте поместья, лежавшей на сиденье между нами.
Мистер Гилби кивнул и попросил меня остановить двуколку. Я осталась сидеть в ней, глядя, как он идет по нашему полю, точно хозяин; как берет в горсть зеленые колосья и снова их отпускает; как, собрав в ладонь несколько незрелых зерен, бросает их в рот и жует, точно задумчивая саранча, которую я по собственной глупости к себе пригласила. Я понимала, что единственный способ не показать своего отвращения ни на лице, ни в голосе – это постараться быть такой же холодной и бескровной, как сам мистер Гилби. Впрочем, это было нетрудно. Мне было так больно от того, что я сама привела какого-то купца на ту землю, на которую, как поклялся мой отец, ни один из этих «деловых людей» никогда не ступит, что внутри я совершенно застыла, превратилась в ледышку. Я испытывала холод, леденящий холод, хотя полуденное солнце жарко светило, да и одета я была в амазонку с длинной юбкой и жакет.
– Хорошо, – одобрительно заметил мистер Гилби, снова садясь в двуколку. – Отличная пшеница! Многообещающая. Хотя это дело весьма ненадежное – покупать урожай на корню. Вы должны сделать мне определенные скидки, миссис МакЭндрю, ведь я рискую.
– Справедливо, – вежливо ответила я. – Не хотите ли теперь посмотреть нижние поля?
Он кивнул в знак согласия, и я повезла его дальше по верховой тропе к подножию холмов. Плантация молодых деревьев слева от нас выглядела просто великолепно, но я старалась даже не смотреть туда, испытывая какое-то сосущее чувство вины. Вода и земля Широкого Дола кормили эти чудесные юные раскидистые сосны, но они больше Широкому Долу не принадлежали. Они принадлежал мистеру Льюэлину. Этот прекрасный, широким полукругом раскинувшийся молодой лес, который с такой любовью и гордостью выращивал мой отец, уже не мог служить нам источником будущего благополучия, бесконечным запасом строительного материала и дров. Он больше не был нашим. Он был продан на корню, как и пшеница, еще до того, как эти деревья созрели и достигли должных размеров. И вот теперь я продавала на корню пшеницу, когда та еще зеленела в поле. Казалось, ничто здесь больше не принадлежит Широкому Долу. Ни эти деревья. Ни эта пшеница. Ни даже я сама.
Мистер Гилби снова вылез из двуколки и прошелся по краю пшеничного поля. На этих северных склонах пшеница созревала позднее, и крошечные бледно-зеленые зернышки в недозрелой оболочке, которые он отправил себе в рот, были не крупней зернышек риса.
– Хорошо, – снова сказал он. – Но дело все же очень рискованное. Очень.
Качество нашей пшеницы и возможные шансы на то, что урожай отчасти вполне может быть испорчен плохой погодой, были его основными темами весь тот долгий полдень, пока я потела, ожидая его на кучерском месте, и дрожала от ужаса, который постоянно жил теперь в моем сердце.
Он ходил по моим полям и смотрел в мое небо так, словно мог бы купить заодно и его – так сказать, скопом. Несомненно, и это голубое небо, и эти горячие белые облачка на нем тоже были «хороши, но связаны с риском».
Мистеру Гилби захотелось осмотреть и те поля, что были на общинной земле, и нам пришлось проехать через деревню. Я бы предпочла поехать через лес, но мост возле мельницы был давно снесен паводком, а объездного пути для двуколки не было. На этот раз при звуках копыт моей лошади не хлопнула ни одна дверь, но в деревне царило такое безмолвие, словно все ее жители, заперев свои дома, разом отправились бродяжничать.
– Тихое место, – сказал мистер Гилби. Похоже, эта неземная тишина проникла даже в его голову-копилку.
– О да, – сухо подтвердила я. – Но деревня отнюдь не пуста, можете быть уверены.
– У вас неприятности с крестьянами? – Он с пониманием посмотрел на меня, вздернув черную бровь. – Не желают приспосабливаться к новым порядкам, да? Ничему не хотят учиться?
– Да, – кратко ответила я.
– Плохо дело, – пробормотал он. – А сено в стогах они у вас тут не жгут? Посевы в полях не портят? На амбары не нападают?
– Нет, у нас никогда ничего подобного не происходило и не произойдет, – твердо заявила я. – Они, конечно, жалуются на жизнь, но ведут себя достаточно тихо.
– Это хорошо, – сказал он. – Но все равно риск большой.
– В чем же тут риск? – спросила я, пуская Соррела рысью, поскольку мы уже миновали зловеще пустынную деревенскую улицу.
– Риск очень большой, – подтвердил он. – Вы просто не поверите, сколько у меня бывает неприятностей, пока я везу зерно по сельским дорогам в Лондон. Бывает, и матери с детьми поперек дороги ложатся прямо под колеса повозок. А отцы семейств тем временем окружают повозки и осыпают возчиков проклятиями – словно несчастные возчики в чем-то виноваты! Раза два я и сам этой разъяренной толпе попадался. И однажды мне пришлось продать им пол-воза зерна по рыночной цене, только чтобы они меня пропустили!
– У нас здесь ничего подобного нет, – твердо сказала я, и по спине у меня пробежал суеверный холодок.
– О да, – сказал он. – В Сассексе пока спокойно. Пока.
Мы въехали на конюшенный двор, и я провела мистера Гилби в свой кабинет.
– Приятная комната, – сказал он, озираясь и словно оценивая мою мебель.
– Благодарю вас, – поблагодарила я и позвонила, чтобы принесли чай.
Пока не явился Страйд с подносом, мистер Гилби слонялся возле моих книжных шкафов, с одобрением обследуя красные кожаные переплеты. Он даже коснулся ладонью стола для уплаты ренты и ради эксперимента разок повернул его, проверяя, легко ли он вращается. Он трогал резные спинки стульев и кресел, шаркал подошвами по густому ворсу моего однотонного ковра. Даже когда он сел пить чай, его глаза так и шныряли по комнате, то выглядывая в окно, где пели птицы и жужжали над розами пчелы в саду, то посматривая на дверь из полированного ореха, или на мой письменный стол, или на мой большой сейф. Его явно впечатлили уют и элегантность этой комнаты, обставленной старинной мебелью, которой сотни лет.
– Вот мое предложение, – сказал он, нацарапав что-то на клочке бумаги. – Я не стану с вами торговаться, миссис МакЭндрю. Вы слишком хорошая хозяйка и сами знаете цену своего зерна. Пшеница выглядит прекрасно, но дело очень рискованное. Мне понравились ваши поля, но мне совсем не понравилась та дорога, что ведет от вашей деревни к Лондону. Там слишком много мест, где можно ожидать неприятностей от тех, кто полагает, что разбирается в сельском хозяйстве лучше, чем сами хозяева этой земли. Да, мне понравилась ваша пшеница, но мне не понравилась ваша деревня, миссис МакЭндрю. Вот почему я считаю, что это дело хорошее, но весьма рискованное. Соответственно, это отражается и на предлагаемой мною цене.
Я кивнула и посмотрела на цифры, нацарапанные на бумажке. Это было меньше, чем я надеялась получить, причем гораздо меньше. Но это было в три раза больше, чем мы получили бы на рынке в Мидхёрсте, и в два раза больше, чем мы получили бы в Чичестере. Что еще важнее – мистер Гилби был готов заплатить мне прямо сейчас, а не через шесть недель, когда пшеница созреет. Я надеялась, наши буферные посевы смогут тогда принести нам еще небольшой дополнительный доход. Сейф возле моего письменного стола был почти пуст, а проценты я должна была выплатить уже в июле. Разумеется, я не смогла бы отказать этому типу, как бы мне этого ни хотелось. Но его упоминание о тенистых местах на лесной дороге и том безмолвии, что царило в нашей деревне, вызвало у меня внутреннюю дрожь.
Мы никогда раньше не продавали зерно втайне от наших людей; но если мистер Гилби думает, что эти люди могут пойти против меня, могут напрямую угрожать мне, тогда я колебаться не стану. Я сделаю все, чтобы спасти эту землю для меня и моего сына – спасти любым способом. Я вовсе не хотела обрекать своих людей на голод; я вовсе не хотела заставлять их страдать. Но им придется сыграть свою роль в завоевании Широкого Дола для моего Ричарда. И когда Ричард станет здесь сквайром, тогда все поймут, что я не зря уплатила такую жестокую цену – цену моего страха и их голода и смертей.
Хотя, честно говоря, слушая, как мистер Гилби говорит о густых зарослях вдоль дороги и разгневанных людях, которые останавливают обозы с зерном, я испытывала такой слепой ужас, что могла бы, наверное, заставить всю деревню умирать с голода. Где-то здесь, поблизости от Широкого Дола, прятался со своей бандой Браковщик. Он уже угрожал мне в прошлом году. А в этом году он прислал мне эту пороховницу, ясно сказав этим, что мою усадьбу ждет пожар. Что выбраковка неугодных ему господ начнется с меня. И я сказала себе: мне безразлична судьба тех, кто готов помогать Браковщику, кто готов его поддержать или даже указать ему путь к нашей усадьбе и сказать: «Забирай ее! Она больше не наша любимая мисс Беатрис!» И пока Браковщик находился неподалеку от моих владений, пока он был намерен поквитаться со мной, я бы предпочла иметь деньги в сундучке, чем пшеницу в поле или зерно в амбарах. Золото он сжечь не сможет. Он не сможет напасть на меня, пока я нахожусь здесь, в полной безопасности, в этом кабинете, обставленном дедовской мебелью.
– Я согласна, – сказала я совершенно спокойно.
– Вот и хорошо, – кивнул мистер Гилби. – Через пару дней вы получите из моего банка проект договора и чек. Вы хотите сами убрать урожай?
– Да, – сказала я. – Но повозки за ним лучше прислать вам. У нас просто нет ни такого количества телег, ни такого количества лошадей, чтобы везти все это в Лондон.
– Хорошо, – снова сказал он и подал мне свою мягкую руку, желая обменяться рукопожатием в честь заключенной сделки. – Красивые у вас здесь места, миссис МакЭндрю, – сказал он, беря в руки свою шляпу и перчатки. Я с улыбкой кивнула, а он продолжал: – Я присматриваю для себя похожее имение. – Я удивленно приподняла бровь, но ничего не сказала. Я знала, что именно так происходит в тех графствах, что ближе к Лондону, но я не думала, что и Сассекс так быстро пострадает от этих городских торгашей, скупающих чужие поместья и воображающих себя настоящими сквайрами. Эти люди развращали сельских жителей городскими нравами. Они не понимали ни тех ценностей, что веками создавались в той или иной местности, ни живущих там людей. Они бестолково вели хозяйство и губили землю, не давая ей отдохнуть. Они портили целые деревни, то увозя слуг с собой в Лондон, то отсылая их обратно. Они жили на земле, которая была чужда их душе. Они покупали и продавали землю, точно материю – штуками. Они нигде не имели корней, а потому могли продавать и покупать землю где угодно.
– Если вы когда-нибудь решите расстаться с Широким Долом… – начал мистер Гилби, пытаясь завязать разговор на новую тему.
У меня екнуло сердце.
– С Широким Долом? – воскликнула я, моментально разъяряясь. – Широкий Дол никогда не будет продан!
Он кивнул с извиняющейся улыбкой на лице.
– Извините, я должен был сразу это понять. Но мне показалось, что если вы продаете лес и пшеницу на корню, то, возможно, готовитесь продать и все поместье. Если вы все же надумаете продавать, то я бы дал вам очень хорошую цену. Действительно очень хорошую. Лучшей никто не даст, уверяю вас. У меня создалось впечатление, что у поместья слишком много долгов, и я подумал…
– Пока что мы прекрасно со всем справляемся, – сказала я. Голос мой слегка дрожал от сдерживаемого гнева. – И я скорее стану полным банкротом, чем расстанусь с этим поместьем. Это наследие семьи Лейси, мистер Гилби! У меня есть сын и племянница, которые будут править поместьем после меня. Они здесь живут, мистер Гилби, и я никогда не продам их дом! Я никогда не продам свой собственный дом!
– Нет, конечно же, нет, – миролюбиво сказал он. – Но если вы вдруг передумаете… Если мистер Льюэлин, например, будет вынужден отказать вам в праве выкупа закладной вследствие просрочки…
– Он этого не сделает, – сказала я с уверенностью, которой не чувствовала. Интересно, какие разговоры ведутся насчет Широкого Дола среди этих денежных людей? Что, если они возьмут нас в кольцо и, лишив нас права выкупа, отвоюют один из самых крупных призов в Сассексе? Неужели сведения о моих заимствованиях втихую распространились по соответствующим кругам Лондона и теперь несколько дельцов подсчитывают, сколько месяцев мне потребуется, чтобы потерпеть полный крах? Неужели какой-то торговец зерном, мистер Гилби, знает о делах мистера Льюэлина, занимающегося куплей и продажей земельных участков и леса? А ведь мистер Льюэлин даже живет на противоположном конце Лондона! – Но даже если он это сделает, у меня найдутся и другие средства. Я из семьи МакЭндрю, – сказала я.
– Разумеется, – сказал мистер Гилби, и по его черным глазам я поняла: он знает и то, что деньги Мак-Эндрю теперь для меня недоступны. Он, возможно, знает даже то, что эти деньги теперь работают против меня. – Мне, пожалуй, пора. Желаю вам всего наилучшего. – И он удалился, не прибавив больше ни слова.
Он ушел, а я так и сидела, оцепенев от ужаса. Было достаточно плохо уже то, что этот Браковщик и прочие отщепенцы, находящиеся вне закона, что-то явно против меня замышляют и просто ждут подходящего момента. Но если члены моей собственной семьи – те люди, что спят на льняных простынях и едят с серебряных тарелок, – вступили в заговор против меня, тогда я действительно пропала. Если лондонские дельцы с суровыми лицами знают о растущей груде моих долгов и о моем пустом сейфе, тогда и Широкий Дол, и я оказались в весьма трудном положении. Я не подумала о том, что все эти денежные люди, возможно, хорошо знакомы друг с другом. Я забыла, что мужчины любят собираться в своих маленьких клубах и обсуждать свои дела тесным кружком; любят порой и затравить кого-то одного из своей же стаи. Одинокая, живя почти в изоляции от внешнего мира, я не сознавала, что вокруг существует множество глаз, которые внимательно за мной наблюдают, и ушей, которые чутко прислушиваются к первым же звукам колебания с моей стороны. И эти люди обмениваются понимающими улыбками, услышав, как один мой тяжкий долг сменяется другим и нет ни малейшей надежды на то, что я сумею самостоятельно от этих долгов освободиться.
Я могла бы сразиться с ними, чувствуя за спиной былое богатство и благополучие Широкого Дола, опираясь на жителей своей деревни, которые меня любят и скорее согласятся работать даром, чем допустят, чтобы я проиграла сражение с какими-то жадными чужаками. Или же я могла бы сразиться с разъяренными крестьянами, которые плохо делают свою работу. Но я не могла сражаться с теми и другими одновременно и надеяться на победу. И пока я разрушала деревню и нападала на бедняков, те другие, богатые и благополучные, нападали на меня и разрушали мое благосостояние и мое поместье. Мне со всех сторон грозила опасность: с одной стороны мрачно затаившаяся деревня, с другой – кольцо кредиторов, связанных друг с другом тайной порукой. И в центре всего этого – точно кость между двумя грызущимися собаками – был Широкий Дол. А я больше уже ничего не чувствовала; я утратила свою любовь к Широкому Долу.
Я даже негромко застонала, столько горя и усталости на меня навалилось. Положив руки на письменный стол, а голову на руки, я сидела так до тех пор, пока летний вечер не сменился серыми сумерками, а летучие мыши за высокими окнами не начали зигзагами метаться в вечернем небе, ловя насекомых. Где-то в лесу запел соловей. А я мечтала только об отдыхе.
А вот Селию я зря не приняла во внимание. Вообще-то я никогда по-настоящему не принимала ее во внимание, и совершенно напрасно. Она вошла ко мне в кабинет, как только они вернулись из города. Даже не вошла, а влетела, на ходу снимая шляпу и даже ни разу не взглянув в зеркало, висевшее над камином, чтобы убедиться, что у нее не растрепались волосы.
– Мы, проезжая по аллее, разминулись с дилижансом, в котором сидел некий незнакомый нам джентльмен, – сказала она. – Кто это был, Беатрис?
Я сделала вид, что страшно занята бумагами, лежавшими у меня на столе, и удивленно вскинула на нее глаза, словно желая сказать, что нахожу ее любопытство неуместным. Но Селия глаз не отвела. И на ее хорошеньких губках не возникло даже призрака улыбки.
– Кто это был? – снова спросила она.
– Один человек. Он приезжал посмотреть наших лошадей, – храбро соврала я. – Его интересует жеребенок от Тобермори и Беллы. Похоже, слава гунтеров Широкого Дола остается прежней.
– Нет, это неправда, – спокойно возразила Селия. – Это был некий мистер Гилби, лондонский торговец зерном. Я остановила карету и поговорила с ним.
Я покраснела от раздражения, но старалась пока сдерживаться.
– Ах, этот! – сказала я. – Я думала, ты имела в виду другого джентльмена. У меня сегодня днем было два гостя. Мистер Гилби действительно уехал последним.
– Он сообщил мне, что купил нашу пшеницу на корню, пока она еще в поле, – сказала Селия, словно не слыша моих лживых объяснений. – Он говорит, что ты надеешься опередить всех и самым незаконным образом поднять цены на местном рынке.
Я улыбнулась и встала из-за письменного стола. Я знала, что в моих глазах нет ни капли тепла, да и у Селии лицо застыло, как каменное.
– Послушай, Селия, но ведь тебя вряд ли учили разбираться в подобных делах, не так ли? – сказала я. – Управлять поместьем, особенно таким большим, как Широкий Дол, – задача очень сложная, и, по-моему, раньше ты к этим вопросам почти не проявляла интереса. И теперь тебе, пожалуй, уже слишком поздно начинать вмешиваться в то, как я управляю поместьем.
– Ты права, что упрекаешь меня. Я действительно слишком мало знаю, да и вела себя чересчур беззаботно, – сказала она. Она дышала часто-часто, а ее лицо и шею уже начал заливать румянец. Селия вообще легко краснела по любому поводу. – Наверное, это огромный недостаток нашего общества – что знатные дамы почти ничего не знают о том, как живут бедные люди. Я всю жизнь провела в сельской местности, но ты права: я действительно совсем не разбираюсь в хозяйстве и плохо представляю себе его финансовую основу.
Я попыталась прервать ее, но она мне не позволила.
– Я жила в раю для дураков, – сказала она. – Я тратила деньги, не задумываясь о том, откуда они берутся, не зная, кто на самом деле их заработал!
Селия вдруг умолкла, и я двинулась к звонку, словно желая, чтобы нам принесли чай. Но тут она снова заговорила.
– Меня воспитывали так, чтобы навсегда сохранить у меня некое детское представление о жизни, – сказала она тихо, словно разговаривая с самой собой. – Меня воспитывали, как младенца, который ест вкусную кашку, но не сознает, что кто-то ее приготовил, смешал с молоком и подал ему в хорошенькой мисочке. Я тратила деньги Широкого Дола, не сознавая, что эти деньги получены благодаря труду бедных.
– Не только, – возразила я ей. – Ты бы лучше поговорила с Гарри – он с удовольствием расскажет тебе о разных теориях политической экономии. А мы просто фермеры, земледельцы. Не торговцы и не промышленники. И наше благосостояние зависит от земли, от ее естественного плодородия, от природы.
Селия нетерпеливо отмахнулась от этого аргумента и, словно припечатав ладонью столешницу, воскликнула:
– Ты же прекрасно знаешь, что это неправда, Беатрис! Вот за этим столом ты каждый месяц принимаешь у людей деньги. Они платят нам, потому что мы владеем этой землей. Но если эту землю предоставить самой себе, на ней будут расти только сорные травы и полевые цветы. Мы, безусловно, что-то вкладываем в нее, как и любые торговцы что-то вкладывают в свой товар; и мы платим людям, чтобы те на нас работали, как и владелец шахты, например, платит шахтерам.
Я стояла и молчала. Во мне росло беспокойство. Селия невероятно переменилась с тех пор, как была застенчивой девочкой, с интересом наблюдавшей за жнецами и красневшей, стоило Гарри на нее посмотреть.
– Но владелец шахты платит горнякам лишь малую долю того, что они заработали, – медленно продолжала Селия, словно на ходу вслух формулируя свои мысли. – Затем он с большой выгодой продаст то, что они добыли в шахте, и оставит всю прибыль себе. Именно поэтому он богат, а они бедны.
– Нет, – сказала я. – Ты не понимаешь деловых отношений. Владелец шахты должен также покупать оборудование, должен выплачивать проценты по займам и, кроме того, должен получить что-то взамен сделанных им ранее капиталовложений. Если шахта не будет давать прибыли, тогда он вложит свои деньги во что-то другое, и его рабочие вообще никаких денег не получат.
Честные глаза Селии смотрели мне прямо в лицо, и она вдруг улыбнулась, словно мои слова были просто шуткой.
– Ох, Беатрис, какая все это чепуха! – И она рассмеялась своим серебристым смехом. – Именно так и Гарри говорит! Именно так говорится и в его книгах! Но мне все же казалось, что ты более других должна понимать, что все это чепуха! Все те, кто придумал эту теорию, кто пишет, что человеку необходимо получать дополнительную выгоду, люди богатые. И этим богатым людям очень хочется доказать, что все их доходы оправданны и законны. Именно поэтому сотни людей пишут тысячи книг и старательно всем объясняют, почему одни ходят голодными, а другие становятся все богаче и богаче. Они вынуждены писать все это, потому что не желают видеть то, что у них под носом. И не желают признавать, что никакого оправдания у них нет.
Я беспокойно переступила с ноги на ногу, но она смотрела в окно мимо меня.
– Почему человеку, который вкладывает только свои деньги, полагается гарантированный доход, а у человека, который вкладывает собственный труд и даже собственную жизнь, нет даже гарантированного жалованья? – сказала она. – И почему человек, который может вложить деньги, получает значительно больше, чем тот, кто вкладывает свой труд, причем трудится порой на пределе своих сил и возможностей от зари до зари? Если бы они оба получали равное вознаграждение, то – даже после выплаты всех долгов и покупки нового оборудования – шахтеры должны были бы жить в таких же роскошных домах и есть такую же пищу, что и владельцы шахт. Но ведь этого нет! Шахтеры живут, как животные, в грязи и нищете, и часто голодают, тогда как владельцы шахт живут как князья, причем вдали и от этих безобразных шахт, и от шахтерской нищеты.
Я с энтузиазмом закивала:
– Да-да, у шахтеров условия действительно ужасные! И мне рассказывали, что в шахтах очень опасно!
Карие глаза Селии блеснули; она заметила мою неловкую попытку сменить тему и смело заявила:
– У нас тоже ничуть не лучше! Батраки трудятся весь день, а зарабатывают меньше шиллинга. Я вот совсем не работаю, и все же у меня есть содержание – двести фунтов в квартал. А ведь я не предпринимаю никаких рискованных операций с капиталом и не покупаю новое оборудование. Я получаю эти деньги просто потому, что принадлежу к обществу избранных, достаточно богатых людей. Разве это справедливо, Беатрис? Разве в этом есть какая-то логика? Это просто даже как-то нехорошо – так жить!
Я снова плюхнулась в отцовское кресло и подтащила к себе ворох бумаг. Я уже позабыла, что и сама когда-то считала, что этому миру пора бы перемениться. Я уже позабыла, как однажды молодой бедняк убедил меня, что только те, кто понимает и любит землю, и должны быть ее хозяевами, и только им следует принимать решения относительно использования земли.
– Ты права, Селия, это мерзкий мир, – улыбаясь, сказала я, – согласимся на этом и давай закончим наш разговор. Ничего хорошего, если тебе станут платить жалованье батрака. Даже если у нас тут возникнет республика всеобщего благосостояния, как у левеллеров[30], это все равно ничего не изменит. «Всеобщее благосостояние» Широкого Дола по-прежнему будет зависеть от внешнего мира. – Я побарабанила пальцами по ящику, где хранились счета, которые нужно было оплатить в этом месяце. Стук был глухой: ящик был набит доверху. – И этот внешний мир всей своей силой противостоит Широкому Долу и устанавливает ту скорость, с которой повсеместно происходят перемены.
– Продай землю, – вдруг сказала Селия.
Я уставилась на нее, открыв рот.
– Что?
– Да, продай, – повторила она. – Гарри говорит, что вы наделали слишком много долгов, чтобы выкупить право на наследование и расплатиться с юристами, и теперь у вас нет выбора – остается только гнаться за дополнительной прибылью, ведя хозяйство на новый манер. Освободись от долгов, Беатрис, и продай землю. Тогда тебе больше не придется заставлять голодать жителей деревни и разрушать жизнь самого Широкого Дола.
– Как ты не понимаешь, Селия! – взорвалась я. – Я никогда, никогда не стану продавать земли Широкого Дола! До тех пор, пока я управляю этим поместьем, я этого не сделаю! Ни один землевладелец никогда по собственной воле не расстается с землей – только если его вынудят крайние обстоятельства. И я из этих людей последняя; я даже в самом крайнем случае не стану продавать наши земли!
Селия встала, подошла к моему письменному столу и остановилась напротив меня, опершись руками о столешницу.
– У Широкого Дола есть две великие силы, – с яростью начала она, глядя на меня сверху вниз. – Плодородная земля и люди, которые ради семьи Лейси готовы работать, не жалея живота своего. И одна из этих сил практически исчерпана во имя той безумной схемы, которой вы с Гарри так привержены. Пусть это будет земля, Беатрис. Продай какую-то ее часть – сколько нужно, чтобы покрыть долги, – и снова будешь свободна, снова восстановишь прежние отношения со своими людьми. Не с помощью закона, а с помощью доброго слова и заботы.
– Селия, – прервала я ее, – ты снова не понимаешь. В этом году мы во что бы то ни стало должны получить максимально возможный доход. Но даже если бы это не было нам так необходимо, нам все равно пришлось бы начать хозяйствовать по-новому. Чем меньше мы платим работникам, тем больше наша прибыль. Это естественно, что каждый землевладелец хочет получить как можно большую прибыль. Каждый землевладелец, каждый купец, каждый деловой человек пытается заплатить как можно меньше своим работникам, чтобы самому получить как можно больше.
Селия медленно выпрямилась и кивнула, словно, наконец, все поняла, но лицо ее сильно побледнело. Потом она молча повернулась и двинулась к двери.
– А как насчет твоего содержания? – спросила я, желая ее помучить. – И твоих земель, полученных в качестве приданого? Может, ты хочешь, чтобы я выплатила твое содержание беднякам из работного дома? Или объявила парочку твоих полей «полями всеобщего благоденствия»?
Селия снова вернулась к моему столу, и я с удивлением увидела у нее на глазах слезы.
– Я и так трачу все мое содержание на еду и одежду для жителей деревни, – с непередаваемой грустью сказала она. – И Джон тоже отдает на эти цели все деньги, которые присылает ему отец; и доктор Пиерс вносит примерно такую же сумму. Мы все время покупали продукты, которые раздавали женщинам, покупали одежду для детей и топливо для стариков. Из того, что ты мне выплачиваешь, я трачу на это каждый грош. Джон и доктор Пиерс поступают так же. – Плечи ее совсем поникли, и она безнадежным тоном продолжала: – Впрочем, можно было бы и не беспокоиться. Наши попытки похожи на ту плотину, которую построил Гарри – помнишь, ее еще унесло первым же весенним паводком? Милосердие хорошо в небольших количествах – когда у людей есть работа, когда деревня процветает. Но когда хозяин земли выступает против своих арендаторов, как это делаешь ты, Беатрис, когда работодатели платят работникам убийственно мало, то никакая благотворительность и милосердие людей не спасут. Все, что мы делаем, лишь продлевает этим людям страдания, ибо они умирают от нужды. В лучшем случае мы пытаемся сохранить детей для следующего хозяина Широкого Дола, чтобы эти дети покорно на него работали и были согласны получать за свой труд жалкие гроши. Матери этих детей говорят, что не могут понять, зачем они родили их. И я тоже не могу этого понять. Это отвратительный мир, а вы с Гарри и ваши политические экономы его защищаете! Все мы прекрасно понимаем, что должно быть по-другому, и все же вы этому сопротивляетесь. И ты, Беатрис, и Гарри, и все богатые люди. Все вы этот отвратительный мир поддерживаете!
Она немного выждала, надеясь, что я стану отвечать на это горестное обвинение, потом молча повернулась и вышла из комнаты. Я закусила губу; во рту был какой-то противный, кислый вкус. Посидев так минутку, я открыла переполненный счетами ящик стола, вытащила их все оттуда и снова принялась перебирать их.
Новость о проданной на корню пшенице быстро разнеслась по Широкому Долу, и визит ко мне Селии оказался просто первым из тех, которые мне пришлось вытерпеть. На ее вопросы было, пожалуй, ответить трудней всего, потому что теперь она меня совершенно не боялась, а ее честные карие глаза умели так смотреть на меня, словно она не может поверить тому, что видит.
Со вторым моим визитером справиться оказалось легче. Это был доктор Пиерс, деревенский викарий. Он вошел ко мне в кабинет с извинениями за то, что потревожил, и объяснил это тем, что чрезвычайно встревожен услышанной новостью.
Он, разумеется, прекрасно знал, кто платит церковную десятину, а потому очень старался не обидеть меня, но все же был буквально до безумия, почти как Селия, встревожен той нищетой, которую каждый день собственными глазами видел в деревне. Он не мог, как Гарри и я, попросту обходить деревню стороной. Он там жил, но даже его дом и обнесенный высоким забором сад не могли служить ему убежищем, когда он слышал, как дети на деревенской улице плачут от голода – ведь эта улица проходила как раз под окнами его дома.
– Я надеюсь, вы не сочтете, что я перехожу некие дозволенные границы, – нервно сказал он. – Я и сам весьма отрицательно воспринимаю всякого рода непредусмотрительность. Никто из тех, кто знает меня и моих друзей, ни на мгновение бы не усомнился в том, что я должным образом отношусь и к беднякам, и к необходимости повсеместно соблюдать дисциплину. Однако мне совершенно необходимо поговорить с вами, миссис МакЭндрю. Речь пойдет об этой проданной пшенице…
Я улыбнулась, сознавая свою власть над ним, и предложила:
– Ну, так говорите же. И я сделаю все, что смогу.
– В деревне говорят, что вся пшеница уже продана, – сказал он, глядя на меня и ожидая подтверждающего кивка. – Говорят, все зерно, все повозки до одной, будут отправлены в Лондон. – Я снова кивнула. – В деревне этим страшно обеспокоены; люди просто не знают, где им теперь купить зерно, чтобы смолоть муку и иметь возможность печь себе хлеб.
– На рынке в Мидхёрсте, я полагаю, – холодно ответила я.
– Миссис МакЭндрю, это приведет к мятежу! – воскликнул викарий. – Из трех основных поставщиков зерна два – ваше поместье и поместье Хейверингов – продают зерно на сторону, в Лондон. Одно лишь маленькое поместье Титеринг собирается продавать его на местном рынке в Мидхёрсте. А ведь зерно понадобится сотням семей, и того количества, которое производит Титеринг, людям попросту не хватит.
Я пожала плечами и поморщилась.
– Значит, им придется отправиться в Петуорт или в Чичестер.
– Неужели нельзя это остановить? – Голос доктора Пиерса дрогнул, его всегда вежливо улыбающееся лицо горожанина было искажено откровенным беспокойством, даже страхом. – Ведь деревня в последнее время стала совершенно иной. Вы возвели ограждения, и деревня словно душу свою потеряла. Неужели нельзя убрать эти изгороди и восстановить общинные земли? Когда я сюда приехал, я только и слышал буквально от каждого, что никто не знает эту землю лучше вас, что никто не любит ее так, как вы, что вы – это сердце Широкого Дола. А теперь все говорят, что вы забыли и все свои знания, и всю свою любовь; забыли, что эти люди – ваши люди. Неужели нельзя все это восстановить, вернуть, чтобы все было как прежде?
Я холодно на него посмотрела; он тоже находился по ту сторону невидимой стеклянной стены, которая теперь отделяла меня ото всех.
– Нет, – сказала я. – Слишком поздно. В этом году им придется покупать зерно по высокой цене или же обходиться вовсе без зерна. Вы можете сказать им, что на будущий год все будет гораздо лучше, но в этом году Широкий Дол просто вынужден продавать зерно на лондонском рынке. Если Широкий Дол не сможет нормально развиваться и процветать, от этого всем будет только хуже. И они это прекрасно понимают. Обеспечивая процветание Широкого Дола, я обеспечиваю и их собственное процветание. Мир так уж устроен: бедным неплохо живется только в том случае, если богатые процветают. Если бедняки хотят есть, богачи должны богатеть. К сожалению, таков наш мир. А в настоящее время дела в Широком Доле далеко не так благополучны, чтобы все мы чувствовали себя в безопасности.
Доктор Пиерс кивнул. Роскошные обеды в Оксфорде с богатыми друзьями и родственниками-землевладельцами, выезды на охоту, танцы и балы – таким был когда-то его мир. Он тоже был одним из тех, кто искренне верит, что мир становится лучше, когда богатые богатеют. И он тоже прочел сотню умных книг, написанных исключительно для того, чтобы это доказать. Он и сам мечтал увеличить церковную десятину за счет продажи той пшеницы, которая будет выращена на новых полях. Он, как и я, принадлежал к классу богатых. И при всем беспокойстве глаза у него заблестели при виде той картины, которую перед ним изобразила я – того естественного и неизбежного процесса, во время которого мы, богатые, только выигрываем, выигрываем и выигрываем, и никто не может нас ни обвинить в этом, ни обыграть нас.
– Вот только дети… – слабым голосом промямлил доктор Пиерс.
– Я знаю, – сказала я и, сунув руку в ящик своего стола, вытащила гинею. – Вот, купите детям какие-нибудь игрушки, или сласти, или немного еды.
– У них такие маленькие гробики, – продолжал он тихо, словно не слыша меня и разговаривая с самим собой. – Отцы обычно несут такой гробик сами – он ведь такой легкий. Помощь им не нужна. Потому что эти дети умирают от голода и весят не больше, чем новорожденные. А ручки и ножки у них как сухие веточки. Когда такой гробик опускают в могилу, она такая маленькая…
Я довольно громко шлепнула по столу пачкой бумаг, чтобы напомнить викарию, где он находится. Он на меня не смотрел. Он смотрел в окно, но вряд ли видел бутоны чайных роз и пышные грозди душистой белой сирени.
– У вас есть ко мне что-то еще? – резко спросила я. Он вздрогнул и потянулся за шляпой.
– Нет, – сказал он. – Простите, что побеспокоил. – И он без малейшей тени упрека поцеловал мне руку и удалился.
Хорош герой и защитник бедняков! Я смотрела, как его лоснящийся коренастый конь иноходью удаляется по аллее, покачивая округлым крупом. Ничего удивительного, что крестьяне мечтают о настоящем мстителе. Мечтают, чтобы этот человек скакал впереди на лихом коне, точно сам дьявол, и был способен повести бедняков в атаку на сытых богачей, которые ездят на хорошо откормленных конях, едят изысканные кушанья и пьют самые лучшие вина. Пока этот любящий уют и комфорт викарий, послушный слуга своих господ, пытается наладить отношения между мной и жителями деревни, они имеют весьма ненадежную защиту. Они, должно быть, думают – а на самом деле им бы давно уже следовало это понять, – что весь этот мир против них. Что для меня и таких, как я – для людей, которые едят четыре раза в день, – бедные существуют, только чтобы работать. А если для них нет работы, тогда им незачем и жить.
В дверь постучали, и в комнату вошла няня Ричарда.
– Вы хотите повидать мастера Ричарда до обеда? – спросила она.
– Нет, – устало ответила я. – Вы лучше погуляйте с ним в саду, тогда я смогу хоть из окна на него посмотреть.
Она кивнула, и через несколько минут я уже видела, как она наклоняется над моим сыном, помогая ему переходить от одного яркого куста роз к другому, и терпеливо поднимает с земли очередной розовый лепесток и дает ему, а потом с упреком вынимает этот лепесток у него изо рта.
Толстое оконное стекло в моем кабинете заглушало почти все звуки. Я едва слышала звонкий голосок моего сына, но совсем не могла разобрать слов, которые он с таким трудом пытается произнести, чтобы выразить свою радость по поводу камешков под ногами, яркого лепестка у него в руке и солнечного света на его мордашке. Когда смотришь сквозь такое толстое стекло, кажется, что пейзаж лишился всех своих красок. А мелкие пузырьки и щербинки в стекле делали Ричарда и его няню как бы еще более далекими, словно это было не оконное стекло, а линза подзорной трубы, повернутая не той стороной. Я все смотрела на своего сына, и мне казалось, что он с каждой минутой все больше уменьшается, все дальше и дальше отодвигается от меня, превращаясь в далекую маленькую фигурку абстрактного мальчика, залитого солнечным светом. Слишком далекую, чтобы я могла признать в этой фигурке собственного сына. И голоса его я больше уже совсем не слышала.
Глава девятнадцатая
Новости, которые доктор Пиерс принес в деревню, только подтвердили страхи крестьян, и когда мы подъехали к церкви в летних платьях из шелка и атласа, их лица показались мне столь же насупленными, как обычно. Селия и я шли впереди, направляясь к нашей фамильной скамье, и шлейфы наших платьев шуршали по полу центрального нефа. Следом за нами шли Гарри и Джон, а также две няни с детьми. Джулия шла сама, только очень медленно и все время самым непредсказуемым образом сворачивая куда-то в сторону, а Ричарда несла на руках миссис Остин.
Итак, я шла по церкви, шурша серым шелковым платьем, и на голове у меня была новая атласная шляпа с широким шелковым бантом под подбородком, но я все время испытывала какое-то легкое беспокойство – так шумит ветерок в верхушках сосен даже в безветренный летний день. Я скосила глаза в одну сторону, потом в другую, и от того, что я увидела, у меня перехватило дыхание. Я прямо-таки похолодела от ужаса.
Вдоль всего прохода были выставлены мозолистые руки крестьян. Едва услышав стук моих каблучков по каменному полу церкви, все они тут же скрестили пальцы, защищая себя от нечистой силы – указательный палец сверху большого. Это считалось самой надежной защитой от ведьмы – тайный знак креста, который можно было исполнить хоть одной рукой, хоть обеими. Я шла изящной, легкой походкой, высоко подняв голову, мимо этих бесчисленных рук, пальцы которых были сложены в языческом жесте. Но больше я не смотрела ни направо, ни налево, чувствуя, что их ненависть и страх тянутся следом за мной, точно шлейф бального платья.
Как только я оказалась в нашей фамильной ложе и за нами закрылась спасительная дверь, я сразу же села так, чтобы снизу был виден только серый верх моей шелковой шляпы. Я скорчилась, уронив голову на руки, словно молилась, но на самом деле никому я не молилась – просто пыталась охладить пылающий лоб, прижимая к нему ледяные пальцы; пыталась изгнать из своей души воспоминания об этих честных мозолистых руках, об этом тайном знаке креста, которым крестьяне хотели от меня защититься, отогнать от себя то зло, которое, как им казалось, я несу в себе.
Доктор Пиерс прочел хорошую проповедь. Я слушала с каменным лицом. Для проповеди он выбрал весьма двусмысленное библейское наставление о необходимости подчиниться воле Кесаря и сделал из этого убедительный вывод о том, что следует всегда оставаться в согласии с правящими властями – как бы эти власти ни поступали с собственным народом. Сомневаюсь, что хоть кто-то из прихожан его слушал. В церкви стоял непрекращающийся шум, потому что очень многие кашляли, и этот сухой кашель, безусловно, означал чахотку. Кашляли и дети – задыхаясь, давясь мокротой, точно все они были больны плевритом. У задней стены непрерывно плакал какой-то голодный младенец – тоненьким унылым плачем. Даже в своей собственной церкви, уютной, украшенной богатыми панелями, с мягкими подушками на сиденьях, нам не было покоя. Даже когда викарий сказал, неуверенно глядя на Гарри и на меня, что, согласно слову Господа, мы всегда можем поступать так, как нам нравится, мне легче не стало.
После заключительного псалма я снова прошла по центральному нефу к выходу и на каждом шагу ощущала равнодушно-презрительные взгляды крестьян, но все же заметила, что на Селию, шедшую на полшага впереди, кое-кто поглядывает с искренней теплотой. Мы давно уже не задерживались на церковном дворе, чтобы поздороваться с арендаторами. Эта традиция себя исчерпала. Но когда мы уже шли к карете, я краем глаза заметила коренастую фигуру нашего мельника, Билла Грина, который выбежал из дверей церкви и бросился нам наперерез.
– Мисс Беатрис! – крикнул он и тут же прибавил: – Добрый день, сквайр, леди Лейси, доктор Мак-Эндрю, – словно вспомнив о хороших манерах и о том, что сперва нужно поздороваться. Я уже садилась в карету, когда передо мной вновь возникло его встревоженное лицо. – Мисс Беатрис, мне необходимо поговорить с вами. Могу я сегодня прийти в усадьбу?
– В воскресенье? – удивилась я, неодобрительно приподняв бровь.
– Я заходил много раз в будние дни, но вы были слишком заняты и никого из деревенских не принимали, – сказал толстый мельник, чуть задыхаясь. – Но мне очень нужно сказать вам кое-что важное, мисс Беатрис.
Из дверей церкви начали выходить прихожане; все они с любопытством поглядывали на мельника, чье обычно веселое лицо выглядело сейчас так, словно его вот-вот хватит удар. Одной рукой держась за дверцу кареты, он умолял меня уделить ему хотя бы несколько минут.
– Ну, хорошо, – согласилась я, подталкиваемая своей новой неприязнью к деревенским беднякам, которые, собравшись толпой у дверей церкви, пялились на меня. – Приходите в усадьбу сегодня к трем часам.
– Благодарю вас, – сказал мельник и с легким поклоном отступил назад. И я вдруг заметила, что его пухлые щеки как-то странно обвисли, а яркий румянец сменился желтоватой, нездоровой бледностью.
Мне совершенно не требовалось, чтобы еще и он пришел и сообщил мне о каком-нибудь очередном несчастье. Я предвидела этот визит давным-давно, еще с тех пор, как мы с Гарри решили не продавать свое зерно на местном рынке.
– Это меня погубит, мисс Беатрис, – в отчаянии заявил мельник Грин, явившись в назначенный час. – Если у жителей деревни не будет зерна, им нечего будет принести на мельницу. Если ваши арендаторы тоже продадут всю свою пшеницу на корню, им моя мельница тоже будет не нужна. А если вы весь урожай отправите за пределы нашего графства, то мне попросту негде будет купить зерно, чтобы смолоть его и поставить муку тем булочникам, которые ее всегда у меня покупают.
Я кивнула. Я сидела за письменным столом, поглядывая в окно, распахнутое прямо в цветущий розовый сад. Двое моих детей играли на лужайке, следом за ними ходили Джон и Селия, наблюдая за тем, как няня Ричарда пытается прогуляться с ним по тропе, ведущей в лес. Кремовый зонтик Селии был точно эхо чайных роз, маргариток и редких белых маков. Я усадила мельника Грина за круглый стол для приема ренты и приказала принести ему стакан некрепкого пива, но пиво так и осталось стоять возле него нетронутым. Он вертелся на стуле в разные стороны, точно блохастый пес. Он был гордый человек и хороший хозяин, да и дела у него до сих пор шли в гору, но сейчас он был охвачен паникой, видя, как рушатся все его планы, как с трудом завоеванное благополучие уплывает от него, точно вода под колесом мельницы.
– Мисс Беатрис, если вы не хотите, чтобы мельница, построенная еще вашим дедушкой, простаивала, если вам не все равно, есть ли еда у бедняков в вашей деревне, если вы хотите, чтобы здесь вообще продолжалась жизнь, вы непременно должны оставить хоть немного зерна для продажи на местном рынке! – выпалил он в полном отчаянии. – Мисс Беатрис, у нас в семье кроме меня и жены трое парней, и все трое теперь трудятся в работном доме за гроши. Денег они в дом приносят совсем мало, зато стыда на них обрушивается – не оберешься. Если мы потеряем мельницу, нам только работный дом и останется, ведь мы тогда останемся и без крова, и без гроша в кармане.
Я снова кивнула, по-прежнему глядя в сад. Джон и Селия дошли уже до калитки, ведущей в лес, и терпеливо повернули обратно: детям гораздо лучше было бегать по мягкой траве выгона на своих еще неустойчивых ножках. Я видела, как Селия кивнула и верхушка ее шляпы закачалась, словно соглашаясь с ней, а Джон рассмеялся, откинув голову и глядя на нее. Слышать их я, разумеется, не могла, хотя окно было открыто. Но меня по-прежнему окружала та стеклянная стена, которая давала мне возможность с полным равнодушием смотреть, как мой сын учится ходить, держась за руку другой женщины. Эта стена также позволяла мне говорить хорошему человеку, старому другу нашей семьи, что ему действительно придется отправиться в работный дом и умереть в нищете и печали, потому что мои намерения столь же незыблемы и крепки, как мельничные жернова. Эта стена позволяла мне напрямик заявить мельнику Грину, что и он, и все прочие бьющиеся в нищете и отчаянии деревенские бедняки будут сокрушены, стерты в пыль ради того, чтобы один маленький мальчик, который сегодня только учится ходить, смог ездить по этой земле как хозяин, сидя высоко в седле.
– Мисс Беатрис, вы помните урожай, что был три года назад? – вдруг спросил Билл Грин. – Вы помните, как вы отдыхали у нас во дворе, пока мы готовили праздничный ужин? Как вы сидели на солнышке целый час, слушая, как вращается мельничное колесо и воркуют голуби? А помните, как по улице с пением проехали возы со снопами, как вы распахнули перед ними двери амбара, а наш сквайр, такой молодой и красивый, сидел высоко на снопах?
Я улыбнулась, с грустью вспоминая все это, и невольно кивнула.
– Да, – с нежностью сказала я. – Конечно. Это было такое чудесное лето! А какой тогда был урожай!
– Вы тогда любили нашу землю, – с тайным упреком сказал Билл Грин, – и все в деревне готовы были жизнь положить за одну лишь вашу улыбку. И в тот год, и в предыдущий вас считали богиней здешних мест, мисс Беатрис. А потом вас словно кто-то заколдовал, и все пошло не так. Неправильно. Совершенно неправильно!
Я молча кивнула. У меня под рукой была целая куча документов, которые свидетельствовали о том, что все действительно идет неправильно. Что мы на пути к полному разорению. Что мы приближаемся к нему столь же уверенно и неуклонно, как к нам приближается Браковщик. Я прямо-таки чувствовала в летнем воздухе легкий запах дыма. Кредиторы старались заранее выставить свои счета: они все знали. И я тоже знала. Широкий Дол задыхался от долгов, и кредиторы чуяли его крах, как лошади чуют надвигающуюся грозу. Как я чуяла запах того дыма.
– Так сделайте, чтобы все снова было правильно! – страстно и умоляюще прошептал Билл Грин. – Постарайтесь, мисс Беатрис! Приложите все свои усилия! Вернитесь к нам, вернитесь к этой земле! Сделайте так, чтобы снова все было правильно!
Я смотрела на него пустыми глазами, в глубине души страстно мечтая о возвращении на землю, о возвращении к старым способам хозяйствования. Но лицо мое оставалось застывшим и твердым, как мельничные жернова, а глаза были столь же холодны, как глубокий мельничный пруд.
– Слишком поздно, – сухо сказала я. – Зерно уже продано. Мне за него уже заплатили. Сделка заключена, и я ничего не могу переменить. Увы, в наши дни именно так ведутся дела, мельник Грин. Я понимаю, вам действительно грозит разорение. Но если я не буду поступать так же, как прочие землевладельцы, я тоже буду разорена. Не я выбираю тех, кто управляет нашим миром. Но я должна отыскать в этом мире свой путь.
Мельник тряхнул головой, точно борец, получивший неожиданный, оглушивший его удар.
– Мисс Беатрис! – сказал он. – Это на вас не похоже. Это вы не своим голосом говорите. Вы всегда стояли за старые обычаи. За старые добрые традиции, когда и крестьяне, и хозяева вместе трудились, когда людям платили по справедливости и у них было немножко земли, и выходной день, и возможность сохранить собственную гордость.
Я кивнула.
– Да, я стояла за старые традиции, – сказала я. – Но мир меняется, вот и мне пришлось перемениться.
– Так вот каковы вы, знатные господа! – воскликнул с неожиданной горечью мельник. – Никогда не скажете просто: «Да, я это сделал, потому что мне нужно как можно больше денег, и я непременно их получу, чего бы это ни стоило беднякам». Всегда говорите: «Таков новый мир». Но мир таков, каковы вы и другие знатные господа вроде вас. Вы решаете, каким быть этому миру, мисс Беатрис! Все вы – земле-владельцы, сквайры и лорды – делаете мир таким, каким хотите сами, а потом оправдываетесь: «Я, мол, ничего не могу поделать, таков наш мир!» Словно мир не по вашему желанию стал таким.
Я согласно кивнула, потому что он был прав, и холодно сказала:
– Ну что ж, Билл Грин, в таком случае вы можете поступать, как вам угодно, а я выбираю благосостояние Широкого Дола. Я хочу, чтобы моему сыну и мисс Джулии было что получить в наследство. И даже если это будет вам стоить вашей мельницы, даже если деревне это будет стоить жизни, я все равно буду поступать так. Аминь.
– Аминь, – невольно повторил мельник, словно все еще не мог понять смысл моих слов. Потом, как слепой, пошарил рукой в поисках своей шляпы – это была его воскресная шляпа – и надел ее на голову. На пиве, оставшемся нетронутым, уже осела вся пена, и оно выглядело каким-то неприятно мутным.
– Всего хорошего, мисс Беатрис, – сказал он отрешенно, словно уже вновь погрузился в печальные думы о своей мельнице.
– Всего хорошего, мельник Грин, – ответила я, понимая, что титула «мельник» ему долго не удержать.
Он вышел из моего кабинета, точно полумертвый. Беззвучно, безмолвно, не веря тому, что услышал.
Его серая в яблоках кобыла была привязана снаружи; он тяжело вскочил в седло, по-прежнему пребывая во власти своих мрачных размышлений, и проехал мимо моего окна. Затем я увидела, что Джон окликнул его – он и Селия как раз входили в садовую калитку, – и мельник Грин машинально приподнял свою шляпу, услышав, что к нему обращается знатный господин, но я сомневаюсь, что он что-либо еще понял. Его лошадь легкой иноходью двинулась по аллее; мельник почти опустил поводья и слегка подпрыгивал в седле. Он вез домой трагические вести. Сегодня в хорошеньком солнечном домике Билла Грина будут слезы; воскресный обед будет испорчен.
Джон и Селия были вынуждены тащиться по дорожкам с той же скоростью, что и малыши, а потому не скоро еще добрались до террасы и подошли к окнам моего кабинета. Селия, правда, чуть помедлила, чтобы посмотреть, отвлекла ли няня Джулию, которая подбирала на дорожке острые камешки, пытаясь сунуть их в рот.
– Чего хотел мельник Грин? – спросил Джон, стоя за открытым окном, словно дела поместья самым непосредственным образом его касались.
– Мы решали, как устроить обед по случаю урожая, – смело соврала я.
– Он проделал такой долгий путь в воскресенье, чтобы прикинуть, каким должен быть обед, который его жена сама столько лет подряд устраивала? – насмешливо спросил Джон.






