Широкий Дол Грегори Филиппа
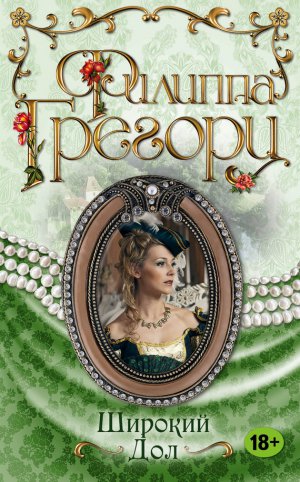
И теперь, когда я, сидя в седле под суровым солнцем поздней осени, думала: как же много времени прошло с той смешной сцены за завтраком и с тех пор, как отец любил меня! Я приняла отрезанный лисий хвост, и запах теплой крови заставил все эти воспоминания разом обрушиться на меня, вызвав сожаления о том, что все это в прошлом, все это давно утрачено.
– Отлично прокатились, мисс Лейси! – воскликнул юный Джордж Хейверинг, сводный брат Селии.
– Да, правда, – улыбнулась я.
– А как вы замечательно ездите верхом! – продолжал он, с восторгом на меня глядя. – Я за вами просто угнаться не мог! А когда вы перемахнули через изгородь, я даже глаза закрыл. Мне казалось, что там ветки слишком низко растут и непременно вышибут вас из седла!
Я рассмеялась, вспомнив этот прыжок.
– Если честно, я тоже глаза закрыла! – призналась я. – Я была так увлечена погоней, что совсем забыла об осторожности, вот и направила Тобермори прямо на изгородь, а дерева и вовсе не заметила. Когда я поняла, как низко свисают его ветви, было уже поздно что-то предпринимать, так что пришлось просто пригнуться пониже и надеяться на удачу. Правда, мы там еле проскочили, меня даже веткой по спине царапнуло.
– Я слышал, вы и в скачках участвовали, – сказал Джордж, кланяясь подъехавшему к нам Джону Мак– Эндрю. Солнце, казалось, стало светить мне с новой, неожиданной теплотой, когда мы с Джоном улыбнулись друг другу.
– Это было просто дружеское состязание, – сказала я, – хотя доктор МакЭндрю и участвовал в нем ради большого приза.
Юный ясноглазый Джордж с удивлением смотрел то на меня, то на Джона.
– Я надеюсь, вы не проиграли ему Тобермори! – воскликнул он.
– Нет, – сказала я, улыбаясь Джону МакЭндрю предназначенной лишь ему одному улыбкой. – Но больше я никогда не стану держать пари вслепую с нашим милым доктором.
Джордж рассмеялся и наконец-то оставил нас наедине, а сам поехал поздравлять Гарри с успешной охотой. Но Джон начал разговор как врач, а отнюдь не как влюбленный мужчина.
– Вам нехорошо? – сразу спросил он. – Вы что-то слишком бледны.
– Нет, мне хорошо, я чувствую себя просто прекрасно, – сказала я, стараясь подкрепить свою ложь улыбкой, потому что, даже произнося эти слова, я испытывала тошноту и головокружение.
– Я же отлично вижу, что это не так, – довольно резко возразил Джон, спешился и повелительным жестом протянул ко мне руки. Я пожала плечами и соскользнула с седла в его объятия, позволив ему бережно усадить меня на ствол упавшего дерева. Стоило мне сесть, и я сразу почувствовала себя лучше. Я с наслаждением вдыхала холодный осенний воздух, в котором чувствовался острый возбуждающий аромат палой листвы, не замечая, что Джон наблюдает за мной.
– Что с вами? – снова спросил он, не выпуская моей руки и осторожно нащупывая мой пульс.
– О, ничего страшного, – сказала я и вырвала у него руку. – Я не могу себе позволить еженедельные консультации у вас, доктор, это слишком дорого. Просто меня до сих пор тошнит после того, как вчера вечером я попробовала молодое вино из нашего винограда – мы ведь собрали свой первый урожай, вот я и решила попробовать. Честно говоря, это вино на вкус в точности как уксус; такой виноград нужно выращивать на одном из островов Западной Индии, чтобы он стал достаточно сладким. Чтобы вырастить его здесь, нужно целое состояние, а вино из него вызвало у меня жесточайшую головную боль, и, по-моему, это еще не все потери, которые мы из-за него понесли; я думаю, оно и на печени моей сказалось не лучшим образом.
Джон как ни в чем не бывало рассмеялся в ответ на мою мрачную шутку и оставил меня в покое. Он даже тактично отъехал от меня, чтобы дать мне отдышаться, и принялся болтать с кем-то из охотников. А я с наслаждением вытянула ноги и прислонилась спиной к толстой ветке.
Я, разумеется, лгала, хотя вчера мы действительно пили страшно неудачное, кислое вино, которым Гарри так гордился. Но отнюдь не вино было причиной тошноты, головокружения и тяжести в обеих грудях. Я снова была беременна и по утрам чувствовала себя просто отвратительно; но еще хуже, пожалуй, мне становилось от мыслей о том, что же теперь будет. Так что мне пришлось собрать все свое мужество, чтобы улыбаться и шутить с Гарри, Джорджем Хейверингом и Джоном. У меня просто в глазах темнело, стоило мне подумать о том зловредном семени, что укоренилось во мне.
Я ничуть не удивилась тому, что юного Джорджа так напугал мой прыжок через изгородь во время погони за лисицей. Ведь я нарочно так гнала коня, надеясь упасть. Мне казалось, что хорошего удара о землю будет достаточно, чтобы вытряхнуть из меня этого паразита; и пусть бы это вызвало у меня сильное кровотечение, зато я снова чувствовала бы себя чистой и целостной. Но, во-первых, Тобермори был слишком надежным конем и выдерживал любую скачку, а во-вторых, и сама я была слишком хорошей наездницей. Во время погони за старым лисом я предприняла несколько попыток упасть и совершила несколько поистине невероятных прыжков, но у меня так ничего и не вышло; и теперь я сидела под холодным осенним солнышком на упавшем дереве, точно усталая Диана-охотница, столь же очаровательная и столь же девственно-невинная с виду, однако уже второй месяц беременная. Меня охватила ярость по поводу собственной плодовитости; от этой ярости во рту у меня пересыхало сильней, чем от не оставляющей меня тошноты. Почему я так легко беременею, а Селия, эта идеальная жена, поистине заслуживающая всех радостей материнства, вынуждена играть лишь роль приемной матери для моего кукушонка? Вернув рабское обожание Гарри, я создала себе новую проблему. Этот проклятый зародыш явно ничуть не пострадал во время устроенной мною адской скачки, так что, скорее всего, на свет появится такой же здоровый и крепкий ребенок, как Джулия. Мне не повезло, я не сумела упасть даже во время этого перехватывавшего дыхание, опасного, сумасшедшего галопа, значит, остается только один выход: принять какое-нибудь жуткое, отвратительное крестьянское зелье и потом, скрипя зубами от боли, в одиночестве вытерпеть все последствия этого.
Впрочем, знахарку, способную составить подобное зелье, придется еще поискать. После исчезновения из деревни Мег, матери Ральфа, у нас не осталось ни одной такой, которая достаточно хорошо владела бы подобным искусством, находящимся на грани преступления. По иронии судьбы, найти такую женщину мне подсказала Мэри, хорошенькая дочка мисс Ходгет. Я притворилась, будто мне нужно любовное зелье, хотя Мэри и казалась девушкой, которой подобный напиток совершенно ни к чему; мое чутье меня не обмануло: она действительно знала такую старуху. Эта знахарка проживала в ветхой лачуге на общинных землях в поместье Хейверингов.
Я неплохо знала деревенскую жизнь и была готова к тому, что увижу, но жилище этой старой ведьмы превзошло все мои ожидания. Оно было куда хуже нашего стойла для свиней: земляной пол, стены, сложенные из не слишком аккуратно вырезанных кусков торфа, законопаченные мхом и сухими листьями папоротника, кровля из веток, присыпанных сверху толстым слоем мха и торфа. Едва успев войти – низко пригнувшись, чтобы не задеть за притолоку, – я поняла, что совершила ошибку, придя сюда. Я совершенно не верила, что эта карга способна помочь мне. Но больше мне пойти было некуда. Когда я объяснила, что мне нужно, старая ведьма вытащила некий каменный сосуд, заткнутый грязной тряпицей, спрятала среди своих лохмотьев несколько серебряных шиллингов, которые я бросила на пол, и подала этот сосуд мне. Я несла его домой с такой осторожностью, словно в нем был страшный яд, а потом в тиши своей спальни отпила столько зелья, сколько мне велела старуха.
Все вышло именно так, как я и боялась. Мне было плохо всю ночь, а потом меня весь день рвало, у меня разыгрался понос, но никакого зародыша из меня так и не вышло. Он был по-прежнему там, в моем чреве! И мы были абсолютно неразделимы. Я была измучена мыслями о ненужной беременности, и двумя сутками непрерывной рвоты, но все же снова села на коня и поехала в ту же грязную лачугу, чтобы выяснить, что еще может сделать со мной старая ведьма.
Разумеется, она ничем не смогла мне помочь – разве что вызвала очередной приступ рвоты. После чего предложила мне прибегнуть к иному способу и, приблизив свой мерзкий рот к моему уху, шепотом заверила меня, что это будет почти совсем не больно и длинный и узкий прямой нож, осторожно всунутый в мое нутро, уж точно освободит меня от кошмарного зародыша. Но я решила, что с меня довольно, справедливо подозревая, что ради денег старая карга так и будет продолжать свои попытки, пока зародыш впрямь не умрет – или не умру я сама. Я больше не верила в ее зелья, которые она варила в своей грязной лачуге из растолченных и смешанных сухих сорняков, которые называла «целебными травами». Но еще более я не доверяла тому ржавому ножу, который она мне продемонстрировала. В общем, я от нее ушла и лишь через четыре дня – столько мне потребовалось, чтобы хоть немного прийти в себя и снова начать мыслить ясно, – приступила к обдумыванию иных способов решения данной проблемы.
В первую очередь я, разумеется, подумала о Селии. О моей дорогой маленькой Селии, такой нежной и такой любящей. Я хорошо помнила, как она сразу приняла Джулию и сразу всем сердцем ее полюбила. Вполне возможно, она была бы рада и еще одному ребенку. Настроение у меня поднялось, и на лице даже появился некий намек на улыбку. А почему бы и нет? Ведь это еще один шанс для моего будущего ребенка оказаться в колыбели наследника поместья. Разумеется, если бы я могла избежать этой беременности, я бы это сделала. Если бы я смогла ее прервать, я бы тоже это сделала. Но ребенок удержался во мне, несмотря ни на что; он явно был намерен появиться на свет и обрести возможность унаследовать эту землю – или, по крайней мере, самый лучший ее кусок.
На этот раз я вела себя осторожнее. Мой покой уже был ощутимо нарушен, а гордость – уязвлена, когда я родила эту никому не нужную девчонку. Но больше я решила никогда не преклоняться перед собственным, отвратительно пухнущим телом, видя в его новых очертаниях надежный залог своего будущего. И все же я не могла сдержать победоносную улыбку – мне казалось, что если в прошлый раз я родила девочку, то теперь у меня гораздо больше шансов родить сына. Ведь должны же были мы с моим братцем хоть раз зачать нечто стоящее!
Но ждать было нельзя. Зачатие произошло в сентябре, а сейчас была уже середина октября. Я должна была обо всем рассказать Селии и вместе с ней отыскать причину для нашего скорейшего отъезда из Широкого Дола. Я подозвала одного из грумов, следовавшего за охотниками с запасным конем, и он, почтительно приподняв шапку, подсадил меня в седло. Я попросила его передать сквайру, что я очень устала и решила уехать домой, ни с кем не попрощавшись.
Но я не учла проницательности Джона. Нет, он не потребовал ни прощальных слов, ни объяснений, но когда я, уезжая, оглянулась, то заметила, что Джон верхом на Сиферне стоит в стороне от остальных охотников, собравшихся кружком под облетевшими деревьями и передающих друг другу серебряные фляжки. Не обращая внимания на громкие разговоры и смех, на рвущихся с поводков собак, Джон Мак-Эндрю задумчиво смотрел мне вслед, и в наклоне его головы была не слепая покорность влюбленного, а суровость профессионала, пытающегося решить некую задачу. Сознавая это, я невольно села прямее и снова подумала о том, что нам с Селией придется поторопиться. Ах, как это будет мучительно – снова куда-то ехать, пускаться в странствия! Да и организовать эту поездку будет нелегко. И все же Широкий Дол, где за мной пристально следят глаза умницы-доктора, – это не самое безопасное место для хранения какой бы то ни было тайны.
Я выждала, когда можно будет подольше остаться с Селией наедине, и после обеда попросила ее зайти ко мне в кабинет и помочь мне выбрать парчу для платья. Горничная подала нам туда черный чай, поставив поднос прямо на мой круглый стол для сбора ренты, и Селия с улыбкой подивилась тому, как странно выглядит этот хорошенький красный фарфоровый сервиз среди тяжелой, явно мужской мебели.
– Ну, я же здесь работаю, – извиняющимся тоном пояснила я. – Если бы я пустила арендаторов или крестьян к себе в гостиную, они бы попросту переломали там стулья и натащили грязи на ковер.
– Я просто не знаю, как ты успеваешь со всем этим справляться, – в ужасе прошептала Селия, глядя на груду гроссбухов на моем письменном столе. – По-моему, очень трудно понять, откуда деньги берутся и куда они уходят! И это так скучно!
– Согласна, это и впрямь довольно трудно и не слишком весело, – с легкостью солгала я, – но я делаю это с удовольствием, ведь этим я освобождаю Гарри от подобных забот. Но знаешь, Селия, я ведь на самом деле попросила тебя зайти, потому что мне нужно было серьезно поговорить с тобой наедине.
Взгляд ее карих бархатных глаз сразу стал озабоченным.
– Конечно, Беатрис, – сказала она. – А что с тобой случилось?
– Не со мной, а с тобой, – твердо заявила я. – Я, собственно, вот что хотела тебе сказать, моя дорогая: мы с тобой уже четыре месяца как вернулись, и почти два месяца ты спишь в одной комнате с Гарри. Неужели ты до сих пор не почувствовала… ничего особенного? Каких-либо признаков беременности, например?
Селия покраснела, как маков цвет, и потупилась. Затем, глядя на свои нервно переплетенные пальцы своих рук, лежавших на коленях, тихо сказала:
– Нет, никаких таких признаков я не замечала, Беатрис. И не могу понять, почему их нет.
– А ты вполне здорова? – спросила я с преувеличенной заботой.
– Мне кажется, да, – с несчастным видом ответила она. – И все же я, похоже, не в состоянии зачать дитя. Гарри ничего мне не говорит, но я знаю: он наверняка думает о наследнике. Мама сказала, чтобы я ела побольше соли, я так и сделала, но и это ничего не изменило. А хуже всего то, что мы с тобой обе знаем: я ведь и Джулию-то не сама родила. Я замужем уже целый год, но ребенка зачать до сих пор не сумела.
Я наморщила лоб, якобы пытаясь понять причину этого, и, ласково посмотрев на Селию, предложила:
– Так, может, тебе следовало бы посоветоваться с врачом, дорогая? С Джоном МакЭндрю или, если для тебя так лучше, с кем-то из лондонских специалистов?
– Но как же я могу обратиться к врачу?! – воскликнула Селия. – Ведь он первым делом спросит, как мне, в таком случае, удалось зачать первого ребенка! Как я скажу, что никакого первого ребенка у меня не было? Как – если у нас подрастает Джулия и Гарри считает ее своей дочерью?
– Ох, Селия! – сказала я. – Именно этого я больше всего и боялась. Но что же нам теперь делать?
– Я просто не представляю, что тут можно сделать, – обреченным тоном сказала она и вытащила из карманчика своего крошечного шелкового передничка крошечный кружевной платочек. Этим лоскутком она попыталась вытереть мокрое от слез лицо и даже изобразила улыбку, но ее нижняя губа предательски дрожала, как у обиженного ребенка.
– Я все время молюсь, – тихо сказала она, – но Он мои молитвы не слышит. И мне не дает покоя ужасная мысль о том, что из-за моей… неспособности Широкий Дол перейдет к вашим кузенам. Если бы я знала, что окажусь для Гарри такой плохой женой, я бы никогда за него не вышла и избавила бы его от подобного разочарования!
Она с трудом подавила рыдание и умолкла, прижимая к губам кружевной платочек.
– Я так мало знаю о подобных вещах, – помолчав, сказала она. – И у мамы я спросить не могу. Но ведь год – это еще не очень долго, верно, Беатрис? Может быть, мне пока просто не везет?
– Вряд ли, – возразила я, ибо все ее надежды следовало сокрушить в зародыше. – Насколько я знаю, у большинства женщин беременность наступает именно в первый год замужества. И поскольку у тебя до сих пор зачатия не произошло, то, по-моему, это вообще вряд ли когда-нибудь случится.
Я дала ей время передохнуть, поскольку она опять принялась утирать слезы своим платочком и совсем повесила голову под тяжестью вынесенного мной приговора. Затем я решила все же протянуть ей лучик надежды.
– А что, если я возьму и снова забеременею, а потом мы с тобой уедем отсюда, и я рожу для тебя еще одного ребенка? – Я сделала вид, будто размышляю вслух.
Селия так и уставилась на меня полными слез глазами; она даже ухитрилась улыбнуться, воскликнув:
– Нет, Беатрис, иногда ты меня просто поражаешь!
– Ну и что? – нетерпеливо отмахнулась я. – Я же о тебе думаю! О тебе и о Гарри. Если бы я, например, была обручена или даже замужем, я с радостью, да-да, с радостью разрешила бы самую ужасную твою проблему, подарив тебе ребенка.
– Нет! – сказала она, решительно тряхнув головой. – Нет, ничего из этого не получится. Не может получиться. И потом, это же совершенно невозможно устроить.
– Это все детали, – пренебрежительно бросила я, едва сдерживая нетерпение. – Если я говорю, что устроить это вполне возможно, значит, я смогу это устроить. Разве для тебя не было бы великим облегчением, если бы ты смогла привезти в Широкий Дол еще одного ребенка? А вдруг это был бы мальчик? Тогда ты подарила бы Гарри наследника!
Она смотрела на меня с сомнением, но в глубине ее глаз я видела проблеск надежды и слабой уверенности в том, что все это действительно возможно.
– Неужели ты говоришь все это серьезно, Беатрис? – спросила она.
– Неужели ты думаешь, что я способна шутить, когда твоя жизнь и твой брак переживают такой опасный кризис? – Я специально выбирала такие слова, способные оглушить ее, вызвать отчаяние и страх перед сложившейся ситуацией. – Я же вижу, как ты несчастна; вижу, как нервничает Гарри. И я прекрасно понимаю, что в итоге Широкий Дол у нашей семьи отнимут и передадут каким-то дальним родственникам. Конечно же, я совершенно серьезна.
Селия встала, подошла ко мне и сзади крепко меня обняла, а потом, перегнувшись через спинку моего стула, прижалась своей мокрой от слез щекой к моей горячей щеке.
– Какая ты добрая, Беатрис! – потрясенно прошептала она. – Какая великодушная! Какая любящая! И как это похоже на тебя с твоей замечательной добротой.
– Да? – сказала я. – Значит, мы можем попробовать?
– Нет, – тихо и печально ответила она. – Не можем.
Я резко повернулась к ней. Лицо ее было печально, но, несмотря на печаль, выглядела она решительной.
– Я не смогу, Беатрис, – призналась она. – Ты забыла, что для осуществления подобного обмана мне придется лгать Гарри. Придется принести в дом моего мужа ребенка другого мужчины. Это было бы таким же предательством, как если бы я впервые легла с Гарри в постель, не будучи девственницей. Нет, Беатрис, я не смогу это сделать.
– Но ведь ты уже один раз это сделала, – грубо заметила я, и Селия поморщилась, словно я ударила ее.
– Да, сделала, – сказала она. – И поступила неправильно. Меня страшило супружество, я очень беспокоилась из-за тебя, и все это заставило меня совершить поистине ужасный грех. Я обманула своего мужа, который мне теперь дороже всего на свете. Я не должна была так поступать, и порой мне кажется, что я наказана за это не только тем, что живу с сознанием собственного греха, но и тем, что обречена на бесплодие. Я, конечно, пытаюсь как-то приспособиться. Я действительно люблю мою драгоценную Джулию, как родную дочь; я дала себе слово никогда, сколько буду жива, не лгать Гарри; и все же я твердо знаю: я не должна была тогда так поступать; и я никогда больше ничего подобного не сделаю, сколь бы сильно ни было искушение. – Селия глубоко вздохнула, снова утерлась своим кружевным лоскутком и снова заговорила: – Ты так добра, так великодушна, Беатрис. И то, что ты предлагаешь мне подобный выход, так на тебя похоже – о себе ты совершенно не думаешь, ты заботишься исключительно обо мне. Вот только на этот раз твое великодушие ни к чему. Такой поступок не стал бы великим и щедрым даром, но, напротив, привел бы меня к чудовищной ошибке.
Я пыталась кивать и сочувственно улыбаться, но чувствовала, что лицо мое будто окаменело. К горлу подступала волна панического ужаса перед этой нежелательной беременностью, а вместе с нею – и приступ тошноты. Этот растущий во мне ребенок не желал ни умирать, ни быть отданным кому-то! А какой позор обрушится на меня, когда я буду вынуждена во всем признаться! Как тогда поступят мать и Гарри? Скорее всего, меня попросту отправят куда-нибудь подальше от родного дома. Засунут в первый попавшийся жалкий городишко, устроят любой фиктивный брак, лишь бы на пальце у меня красовалось обручальное кольцо! И я буду заперта там на всю жизнь, и ничто не будет связывать меня с Широким Долом, кроме разве что крохотной ежемесячной пенсии. И я буду вынуждена каждое утро просыпаться под грохот повозок и карет, спешащих на рынок, а не под пение птиц в моем родном саду, и мой милый дом будет далеко-далеко от меня. И солнце, дающее силу колосьям в полях, будет светить в мои грязные окна, но даже его тепло я буду ощущать совсем иначе, чем в Широком Доле. И дождь, что будет стекать по стеклам моего провинциального домишка, будет не таким сладким, как тот, что заполняет все впадины и пруды вдоль нашей быстрой Фенни, и той сладкой воды мне никогда больше пить не доведется. Нет, этого мне не вынести! Это стало бы моим концом!
Я посмотрела на Селию – такую хрупкую в своем сиреневом шелковом платье – и поняла, что ненавижу ее за эту упрямую нравственность, за тайное, без лишних слов, четкое деление поступков на правильные и неправильные, за стойкое сопротивление тому, что так нужно мне. Она была бесплодна, а мне оставалось лишь страстно мечтать об этом, ничего в жизни не осложняющем состоянии. Она была замужем, она променяла свою независимость и свободу на полную зависимость от мужа и жалкие гроши, которые ежеквартально выдаются ей на карманные расходы. Но она была под такой защитой! Ей ничто не грозило! Никто не смог бы выгнать ее отсюда! Селия даже умрет в спальне сквайра Широкого Дола, а я – хотя я гораздо больше люблю эту землю, нуждаюсь в ней, страстно о ней мечтаю! – умру от жестокой ностальгии в жалкой маленькой комнатушке и буду похоронена на чужбине, где даже не пахнет домом.
Я поняла, что, если Селия немедленно не уберется из моего кабинета, я разревусь прямо перед ней.
– Боже мой! – воскликнула я. – Мы с тобой совсем заболтались! Ты только посмотри, который час! Джулия наверняка плачет и зовет тебя.
Это был самый надежный спусковой крючок в мире. Селия тут же вскочила и ринулась к двери. До чего же легка была походка у этой маленькой моралистки! Конечно, ведь ее вечная печаль не давала ощущения неприятной тяжести в животе! Хотя своей душераздирающей совестливостью она разрушила все мои планы, перекрыла мне единственный путь к спасению. И теперь я погибла.
Рухнув на колени возле огромного резного кресла, ранее принадлежавшего моему отцу, сквайру Широкого Дола, я положила голову на сиденье и закрыла руками лицо. Потом неловко села, опираясь спиной об это твердое ореховое кресло, и, наконец, дала волю рыданиям. Я чувствовала себя совершенно одинокой и пребывала в полном отчаянии.
Заслышав на подъездной аллее далекий топот конских копыт, я подняла голову и прислушалась. И через минуту, к моему ужасу, под окном кабинета появился Джон МакЭндрю на своем прекрасном серебристом арабском скакуне. Сидя высоко в седле, Джон прекрасно видел меня – на полу, в измятом платье, с красными заплаканными глазами, которые я тщетно прикрывала рукой. Веселая улыбка мгновенно сползла с его лица; он направил Сиферна в сторону конюшни, окликнул кого-то из конюхов и спрыгнул с седла. Я слышала, как скрипнула дверь, ведущая в западное крыло – через нее работники обычно приходили ко мне за своим жалованьем, – и Джон без стука вошел в кабинет. Еще через мгновение я оказалась в его объятиях.
Мне следовало бы оттолкнуть его и убежать в спальню. Или хотя бы отвернуться от него к окну и сказать холодным тоном, что у меня болит голова, или дурное настроение, или еще что-нибудь. Но я ничего этого не сделала. Я прямо-таки вцепилась обеими руками в лацканы его редингота и от души выплакалась на его широком, уютном плече.
– Ох, Джон, – хлюпая носом, говорила я, – как хорошо, что вы здесь!
И он, мудрый и нежный любовник, ни о чем не стал меня расспрашивать и лишь бормотал негромко всякие глупости, утешая меня: «Ну-ну, перестань, моя маленькая. Хватит, детка, не плачь».
С тех пор как я лет в шесть или семь сбросила с плеча мамину руку, когда она попыталась меня утешить и приласкать, никто и никогда больше не пытался поглаживать меня по спине, даже когда я горько плакала, и нежность Джона неожиданно вызвала у меня еще больше жалости к себе. Наконец рыдания мои стали стихать, и Джон, усевшись в кресло и ни о чем не спрашивая, привлек меня к себе и усадил на колени. Я не сопротивлялась, чувствуя себя и без того безнадежно скомпрометированной. Одной рукой он крепко обнял меня за талию, а второй приподнял за подбородок мое лицо, повернул к себе и проницательно на меня посмотрел.
– Вы поссорились с Гарри? Или с мамой? – спросил он.
– Нет. Я ничего не могу сейчас объяснить, – сказала я, не сумев придумать подходящую ложь. – Не спрашивайте меня ни о чем. Мне просто по некоторым причинам стало ясно, что все действительно так, как вы и говорили: дома, по-настоящему моего дома у меня нет! И мне невыносимо жить здесь!
– Мне понятны ваши чувства и ваша любовь к Широкому Долу, – сказал Джон, вглядываясь в мое залитое слезами лицо, – хотя сам я вряд ли способен испытывать нечто подобное по отношению к земле. Но вам я искренне сочувствую.
Я уткнулась лицом в уютную мягкую впадину у него на плече, чувствуя щекой шерсть редингота, запах сигар, осенней свежести и почти незаметный острый запах пены для бритья. И слезы вдруг сами собой высохли у меня на щеках, и я отчетливо поняла: рядом со мной мужчина и я, как это ни удивительно, нахожусь в его объятиях. Я еще тесней прижалась к плечу Джона и почти застенчиво коснулась его шеи губами.
– Выходи за меня, Беатрис, – тихо сказал он и, наклонив голову, перехватил мои губы и поцеловал меня. – Я люблю тебя, да и ты понимаешь, что любишь меня. Скажи, что мы можем пожениться, и я найду какой-нибудь способ, чтобы ты благополучно осталась здесь, на этой земле, которая тебе так дорога.
И он еще раз нежно поцеловал мои печальные уста, а потом, заметив, что уголки моих губ приподнялись в счастливой улыбке, поцеловал и еще раз, но уже гораздо крепче. И я, обвив его шею руками, сама потянулась к нему, а он стал осыпать поцелуями мое лицо, душистые волосы, мокрые ресницы, пылающие от стыда уши, а потом снова крепко прижался к моим губам, и я с наслаждением ответила на этот поцелуй.
Затем снова начались ласки и поцелуи, и я перестала соображать, что я делаю и чего я хочу. Меня вряд ли можно было назвать совсем уж неопытной девушкой, но этот умный и умелый мужчина со светлыми глазами, словно подернутыми сейчас некой ленивой дымкой, делал со мной все, что хотел. Он уже снял меня со своих колен и уложил на пол перед камином, прежде чем я успела даже подумать, что со мной происходит, и руки его уже скользили под платьем по моему телу, касались грудей, задирали на мне юбки, и, наконец, я вскрикнула, ибо он обрушился на меня всем своим весом, и дальше у меня уже просто не хватило ни сил, ни времени, ни слов, чтобы сопротивляться и протестовать. Господь свидетель – у меня в голове даже мысли о каком-то протесте не возникло.
Дверь была не заперта; занавески на окнах не задернуты. Любой проехавший мимо окна мог заглянуть внутрь и увидеть нас; или же слуга мог войти, принеся свечи; но я ни о чем не думала. Не могла думать. В моей пустой голове звучало только некое странное подобие дрожащего смеха – так яростно действовал Джон МакЭндрю, – да из души, прямо из горла рвалось искреннее и нежное признание: «Не слушай моих отказов! Мало ли что я тебе говорила раньше! И давай больше ничего не будем объяснять друг другу. Ты только люби меня, люби, люби!»
И тут каким-то краешком рассудка я поняла, что лежу на полу, и мои руки обнимают Джона за шею, и глаза мои закрыты, и губы мои улыбаются, и я сама, да, сама, шепчу его имя и повторяю: «Люби меня, люби». И он меня послушался.
А потом, когда я громко вскрикнула, испытав высшее наслаждение – слишком громко, чтобы это было безопасно, – он лишь выдохнул с огромным облегчением и радостью: «О, да, да, да!»
А потом мы долго лежали совершенно неподвижно, крепко обнявшись.
Я вздрогнула и очнулась от забытья, когда в камине с треском обвалились дрова, и тут же попыталась вскочить, судорожно, с виновато-испуганным видом оправляя платье. Джон помог мне подняться, одернул мои измятые юбки и принялся разглаживать их с такой элегантной любезностью, словно мы были на балу; при этом на губах его играла легкая тайная усмешка в знак того, что он понимает, насколько все эти любезности в данный момент неуместны. Затем мы снова уселись – он в кресло сквайра, а я к нему на колени, – и он прижал меня к себе, а я прильнула лицом к его щеке, улыбаясь от переполнявшей меня тайной радости, и закрыла глаза.
Когда я, наконец, снова их открыла и посмотрела на него, мы улыбнулись друг другу, как заговорщики, и он сказал каким-то странным голосом, словно охрипнув от волнения:
– Ах ты, маленькая развратница! Теперь ты просто обязана выйти за меня замуж!
– И я так думаю, – согласилась я.
Мы сидели так, пока солнце совсем не скрылось за западными холмами и над горизонтом не загорелась первая звезда. Огонь в камине почти совсем догорел, и в золе светилась лишь горстка красных углей, но ни один из нас не встал и не подбросил туда хотя бы одно полено. Мы целовались – то нежно, едва касаясь друг друга губами, то по-настоящему, страстно и возбуждающе. Говорили мы мало, и главным образом о пустяках. О том, как прошла недавняя охота, о том, как плох Гарри в качестве хозяина поместья. Джон больше не спрашивал, почему я плакала. Мы не строили никаких планов. Мы просто болтали. Затем я заметила, что у мамы в гостиной зажгли свечи и в окне появился силуэт горничной, опускавшей шторы.
– Я думала, это будет больно, – лениво заметила я, вспомнив, что, вообще-то, все считают меня девственницей.
– После того, как ты столько лет ездила верхом в мужском седле? – усмехнулся Джон. – Я удивлен, что ты вообще хоть что-то заметила!
Я самым неприличным образом захихикала, но я чувствовала себя с ним так легко и просто, что мне совершенно не хотелось притворяться, и я решила быть собой: улыбающейся и довольной, как сытая кошка.
– Мне надо идти, – сказала я, но не пошевелилась. Я еще и такой же ленивой, как кошка, себя чувствовала, и мне, как кошке, было так хорошо сидеть у него на коленях, когда он меня гладит. – Они и так, наверное, не понимают, куда я подевалась.
– Хочешь, я пойду с тобой? И мы прямо сейчас им объявим? – спросил Джон. Он поставил меня на ноги и снова принялся заботливо оглаживать на мне платье, особенно сзади, где шелк сильно замялся.
– Не сегодня, – сказала я. – Пусть сегодняшний день будет только наш – твой и мой. Приходи лучше завтра к обеду. Тогда мы им и скажем.
Он поклонился с притворным послушанием, нежно поцеловал меня на прощанье и вышел на конюшенный двор через боковую дверь в западном крыле. Мама, Гарри и Селия вроде бы так и не заметили визита Джона, но я прекрасно знала, что все наши слуги – и в доме, и на конюшне – все отлично поняли и точно знают, сколько времени он пробыл со мной в кабинете. Именно поэтому никто ко мне так и не зашел и никаких свечей слуга мне в кабинет не принес, даже когда дневной свет почти совсем померк. Все они, словно сговорившись, не мешали нам с Джоном «миловаться», как деревенской парочке, при свете горящего камина. Так что, как и всегда, простые люди в Широком Доле знали гораздо больше, чем Гарри или мама были способны даже себе представить.
На следующий день, когда Джон заехал за мной перед обедом, чтобы повезти меня на небольшую прогулку, Гарри, мама и Селия почти не обратили на это внимания, зато все слуги так и сияли, выглядывая из окна или «невзначай» пробегая через холл. Страйд торжественно сообщил мне, что доктор МакЭндрю ждет на подъездной аллее в своем экипаже, и с изысканной любезностью подал мне руку и сам подвел меня к коляске Джона. У меня было такое ощущение, словно меня ведут к алтарю. И я, надо сказать, ничуть против этого не возражала.
– Надеюсь, сегодня ты ко мне со своими грязными штучками приставать не будешь? – шутливо поддела я Джона, раскрывая желтый зонтик от солнца; на мне также был желтый капор и желтое шерстяное платье.
– Нет, сегодня я вполне удовлетворюсь созерцанием моря с вершины одного из ваших холмов, – весело ответил он. – Как ты думаешь, можно на коляске проехать по верховой тропе?
– Там довольно узко, – сказала я, на глаз прикидывая ширину повозки и размеры крупных, лоснящихся гнедых. – Но если точно придерживаться тропы, то проехать, наверное, можно.
Он усмехнулся.
– Эх, жаль, возница-то я негодный! Новичок не обученный. Так что не уверен, сумею ли я удержать коней точно на тропе. Но ведь ты всегда можешь перехватить у меня вожжи, не так ли?
Я расхохоталась. Одна из тех вещей, которые мне очень нравились в Джоне МакЭндрю, – это его невосприимчивость к моим язвительным намекам. У него была весьма упругая и прочная нервная система, так что на мои выпады он реагировал на редкость спокойно и отвечал глазом не моргнув. Казалось, его нисколько не задевают даже самые злые шутки; их он воспринимал как некую часть нашей общей игры; и всегда с удовольствием признавался в собственной некомпетентности или неумении, не краснея и не пытаясь блефовать; и всегда в итоге заставлял меня рассмеяться и сказать, что я пошутила.
– Прошу прощения, – с веселым кокетством возразила я, – но, насколько мне известно, вы способны так ловко править своей гнедой парой, что запросто можете и по лестнице на коляске подняться, и при этом не станете стегать лошадей кнутом и даже лак на перилах не поцарапаете.
– Это я действительно могу, – скромно признался Джон, – вот только делать этого никогда не стану. Я бы никогда не стал ставить тебя в неловкое положение, Беатрис. Я знаю, как ты переживаешь, если тебя пытаются в чем-то обойти или просто унизить.
Я невольно хмыкнула и уставилась прямо в его невозмутимые голубые глаза. Когда он меня ласково поддразнивал, как сейчас, глаза его сияли так, словно он меня целует. Остановив лошадей перед изгородью там, где через нее был каменный перелаз, за которым начиналась тропа, ведущая на вершину холма, Джон спрыгнул с козел и набросил вожжи на столбик у перелаза.
– Никуда они не денутся, – сказал он, словно его роскошные кони вовсе и не стоили несколько сотен гиней, и подал мне руку, помогая вылезти из коляски и перебраться через изгородь. Он поддерживал меня и на тропе, пока мы поднимались на вершину холма, но и когда мы туда добрались, он по-прежнему не отпускал моей руки. Вряд ли я сама сумела бы выбрать более подходящее место для прогулки с любимым человеком. Но я, безусловно, чувствовала бы себя гораздо более счастливой, если бы мы не оказались всего в нескольких ярдах от той укромной ложбинки, заросшей папоротником, где мы с Ральфом так любили лежать обнаженными, и если бы шагах в пятнадцати от этой ложбинки я несколько позже не хлестала Гарри по лицу, а потом не скакала на нем верхом, доведя его этим до полного экстаза.
– Беатрис! – окликнул меня Джон МакЭндрю, прервав мои воспоминания, и я повернулась к нему лицом. – Беатрис… – повторил он.
Да, Ральф сказал чистую правду: есть те, кто любит, и те, кого любят. Джон МакЭндрю был великим дарителем любви, и вся его сообразительность, вся его мудрость не способны были помешать ему любить меня, любить, любить, любить меня одну, сколь бы высока ни была та цена, которую он был вынужден платить за эту любовь. Мне же достаточно было всего лишь сказать ему «да».
– Да, – сказала я.
– Я некоторое время назад написал отцу и рассказал ему о своих чувствах и намерениях, и он очень хорошо это воспринял; я бы даже сказал, с большой щедростью. Он выделил мою долю в «Линиях МакЭндрю» и разрешил мне делать с этим капиталом все, что мне будет угодно. – Джон улыбнулся и пояснил: – Это огромная сумма, Беатрис. Целое состояние. Там хватит, чтобы купить сразу несколько Широких Долов и еще много останется.
– Гарри унаследовал наше поместье по праву майората и продать его не сможет, – сказала я, чувствуя, как во мне внезапно проснулся острый интерес.
– Да, все так и есть, и это единственное, что не дает тебе покоя, верно? – печально спросил Джон. – Но я всего лишь хотел сказать, что моего состояния более чем достаточно для покупки или аренды любого из здешних поместий, какое ты только пожелаешь. Я уже объявил отцу, что никогда не вернусь в Шотландию. Я сказал, что женюсь на англичанке. На гордой и упрямой англичанке, обладающей на редкость трудным характером. И буду любить ее, если она мне это позволит, до конца дней своих.
Я с улыбкой повернулась к нему; глаза мои сияли от нежности и любви. А я и не ожидала, что после Ральфа сумею снова кого-то полюбить. Впрочем, раньше я думала, что и моя страсть к Гарри будет длиться вечно, а теперь не могла толком вспомнить, какого цвета глаза у моих бывших возлюбленных. Теперь я ничего больше не видела вокруг, кроме улыбки Джона и его голубых глаз, в которых светилась любовь.
– И я буду жить здесь? – спросила я, как бы желая подтвердить выпавшую мне удачу.
– И ты будешь жить здесь, – пообещал он. – А в самом крайнем случае я выкуплю для тебя свинарники Широкого Дола, раз уж мы так хотим остаться на этой священной земле. Это тебя устроит? – Он обнял меня и прижал к себе, и я почувствовала, что он весь горит от нетерпения и любви, и мощная волна полузабытой чувственности охватила мою душу и тело. Колени подгибались подо мной, ибо меня вновь обнимал страстный молодой мужчина. Мы с трудом, задыхаясь, разомкнули объятия, и Джон неожиданно резко и жестко спросил:
– Значит ли это, что отныне мы с тобой официально помолвлены? Что ты согласна выйти за меня замуж? Что после свадьбы мы будем жить здесь? Что сегодня за обедом мы всем об этом объявим?
– Да, я согласна выйти за тебя замуж, – сказала я торжественно, как настоящая невеста, думая о будущем ребенке, тяжелым камнем лежавшем в моем чреве. А еще я думала о том, что благодаря Джону по телу моему вновь разливается жар желания. И особенно приятно мне было сознавать, что с помощью денег семейства МакЭндрю я смогу так много сделать для Широкого Дола.
– Я выйду за тебя, Джон, – снова сказала я, и мы, крепко держась за руки, стали спускаться с холма. Лошади по-прежнему смирно стояли возле изгороди, пощипывая темные осенние листочки боярышника; где-то в лесу печально пел черный дрозд.
Джону пришлось спускать коляску задом по узкой тропе, пока мы не выбрались на дорогу, ведущую к воротам усадьбы. Да и потом он сильно придерживал коней, пока мы не свернули на относительно ровную подъездную аллею и не покатили к дому.
Листья, облетая с буков, сыпались на нас, точно рисовые зерна на свадьбе. Мы ехали очень медленно – Джон явно не спешил возвращаться в дом. Листья медных буков этой осенью приобрели какой-то неожиданный темно-пурпурный оттенок, а на других деревьях листва, еще недавно совсем зеленая, стала желтой и оранжевой, расцвеченной самыми невероятными красками, и ярко светилась даже в сумеречном вечернем свете. Мои, пожалуй, самые любимые деревья, березы, стояли желтые, как лютики, сверкая золотом листьев и серебристо-белыми стволами. На зеленых изгородях пылали красные ягоды спелого шиповника и блестели черные ягоды бузины, сменившие пышные весенние грозди кремовых цветов.
– Места здесь и впрямь удивительно красивые, – сказал Джон, следя за моим влюбленным взглядом, которым я невольно окидывала каждое знакомое, но всегда выглядевшее по-разному дерево, каждый клочок земли, каждую зеленую изгородь. – Я понимаю, почему ты так любишь свой Широкий Дол.
– Ты тоже его полюбишь, – уверенно сказала я. – Когда ты будешь жить здесь, когда проведешь здесь много лет, а может, и всю свою жизнь, ты полюбишь эту землю так же нежно, как люблю ее я. Ну, может, почти как я.
– Разве кто-нибудь может сравниться с тобой в твоей страсти к этой земле? – поддразнил меня Джон. – Ведь даже Гарри, по-моему, такой любви к своему поместью не испытывает?
– Не испытывает, – сказала я. – Один лишь мой отец любил эту землю столь же сильно, как и я. Но даже он вполне мог время от времени расставаться с Широким Долом, если его приглашали на охоту в других местах или им с мамой хотелось провести сезон в городе. А я была бы просто счастлива, если бы мне никогда не нужно было уезжать отсюда! Хоть до конца жизни!
– Но, может быть, мы все-таки станем устраивать себе каникулы и хоть бы раз в год куда-нибудь ездить? – сказал Джон, смеясь моей горячности. – А в високосный год двадцать девятого февраля мы могли бы съездить в Чичестер!
– А на десятилетие нашей свадьбы я, так и быть, разрешу тебе поехать в Петворт! – сказала я, стараясь не остаться в долгу.
– Ну и прекрасно! Значит, договорились, – сказал он, улыбаясь. – Что ж, сделкой я вполне доволен.
Я тоже улыбнулась, и мы, свернув с подъездной аллеи, подъехали к крыльцу. В окнах гостиной были предусмотрительно выставлены свечи, освещая нам путь.
Объявление о нашей скорой свадьбе, которое Джон сделал после обеда, когда слуги уже удалились, а на стол были поданы сыр и фрукты, все восприняли почти без удивления, зато с большой радостью. Моя мать совершенно растрогалась, прослезилась, заулыбалась и, протягивая обе руки Джону, все повторяла:
– Мой дорогой мальчик, мой дорогой мальчик!
Он нежно поцеловал ее руки, потом крепко ее обнял и расцеловал в обе щеки.
– Дорогая мамуля! – в нарушение всех правил воскликнул он и тут же заработал от нее шлепок веером.
– Несносный мальчишка! – любовно побранила она его и, повернувшись, раскрыла мне свои объятия. Я бросилась к ней, и мы – наверное, впервые в жизни – с искренней радостью и любовью обнялись и поцеловались.
– Ты счастлива, Беатрис? – тихонько спросила она у меня, пока Гарри, подняв страшный шум, звонил в колокольчик, громко требовал шампанского и что было силы хлопал Джона по спине.
– Да, мама, – честно призналась я, – я очень счастлива, очень!
– Неужели и на душе у тебя наконец-то покойно? – Она пытливо всматривалась мне в лицо, словно пытаясь разгадать ту головоломку, которую представляла для нее ее родная дочь.
– Да, мама, – сказала я. – И у меня такое ощущение, словно то, чего я так долго ждала, наконец-то ко мне пришло.
И она кивнула, полностью удовлетворенная моим ответом. Она видела слишком много связанных со мной загадочных вещей, которые ее неострый, но настороженный ум так и не смог разгадать. Запах молока, исходивший от меня, когда Селия с младенцем и я вернулись из Франции; кошмарные сны, что преследовали меня по ночам после смерти отца; таинственное исчезновение нашего молодого многообещающего егеря, моего старого товарища по детским играм. Моя мать никогда не решалась ухватиться за конец нити и позволить себе пройти по этой нити до самого сердца лабиринта, к чудовищной правде. И теперь была вполне довольна тем, что и эта нитка, и сам лабиринт, и тот монстр, который таится в его глубинах, благополучно похоронены в пучине прошлого, словно их никогда и не было на свете.
– Он очень хороший человек, – сказала она, глядя, как Джон, одной рукой обнимая Селию за талию, вместе с Гарри смеется над чем-то.
– Мне тоже так кажется, – сказала я, и Джон, никогда не упускавший меня из виду, тут же перехватил мой взгляд и с преувеличенной внезапностью снял руку с талии моей невестки, а мне крикнул:
– Я и забыл, что я теперь жених! – И он тут же повернулся к Селии: – Вы должны простить меня. Я совершенно позабыл о своем новом статусе!
– Но когда же вы станете мужем? – ласково спросила она. – Или вы и Беатрис планируете длительную помолвку?
– Вряд ли, – не раздумывая, сказала я. И, помолчав, вопросительно посмотрела на Джона. – Мы, правда, этого еще не обсуждали, но я бы, конечно, предпочла выйти замуж до Рождества. До того, как у наших овец начнется окот.
– Ах вот как? Ну, если именно овцы будут отныне определять мою жизнь в браке с этой женщиной, то, полагаю, и свадьба должна состояться тогда, когда это будет удобно овцам, – насмешливо заметил Джон.
– Но ведь вы же не откажетесь от венчания в церкви и оглашения там ваших имен? Это был бы такой праздник для всего Широкого Дола! – умоляющим тоном воскликнула мама. Она явно уже представляла себе и мое свадебное платье, и множество гостей, и торжественный прием, и пир, устроенный для жителей деревни.
– Нет уж, – твердо заявила я и тут же получила от Джона одобрительный кивок. – Нет, в любом случае мы бы хотели, чтобы все было устроено достаточно тихо. Я просто не выдержу чересчур пышной и шумной свадьбы. Пусть все будет тихо, просто и как можно скорее.
Джон снова одобрительно кивнул, этим безмолвным жестом выражая полное согласие со мной.
– Разумеется, все следует устроить так, как хотите вы с Джоном, – дипломатично высказалась Селия, поглядывая то на маму, то на меня. – Но, может быть, все-таки устроить маленький прием, Беатрис? Пригласить всего несколько человек – ваших ближайших родственников, родственников Джона, лучших друзей?
– Нет, – стояла на своем я. – Я понимаю, мода меняется, но я придерживаюсь старых обычаев. Я бы хотела проснуться утром, надеть красивое платье, поехать в церковь, обвенчаться с Джоном, вернуться домой к завтраку, а после полудня поехать проверять изгороди. Мне совершенно не нужен этот модный прием. Брак – дело исключительно личное.
– И я так считаю. Мне тоже пышный прием совершенно не нужен, – поддержал меня Джон, придя мне на помощь именно тогда, когда я в его помощи нуждалась.
– Они правы, – сказал верный Гарри. – Мама, Селия, вам, право же, не стоит их уговаривать. Беатрис всегда славилась любовью к старине; и если ей неприятно устраивать современную шумную свадьбу, то пусть будет так, как говорит она: венчание в церкви и тихое семейное торжество. А прием мы можем устроить, скажем, на Рождество, и у нас будет как бы двойной праздник.
– Ну, хорошо, – согласилась мама. – Пусть будет так, как вы хотите. Хотя я бы с радостью устроила по этому случаю большой прием. Сделаем, как предлагает Гарри: на Рождество у нас будет двойной праздник для всего Широкого Дола, пир на весь мир!
За то, что она согласилась на компромисс, я одарила ее нежной улыбкой, а будущий зять с элегантным поклоном поцеловал ей обе руки.
– А пока, – сказала Селия, затрагивая самую интересную для нее тему, – нам нужно полностью переделать западное крыло, чтобы там было удобно вам обоим. Какие у вас будут пожелания на этот счет?
И тут я сдалась.
– Никаких! – сказала я и даже руки вверх подняла. – Делайте, как вам с мамой больше нравится. Я требую лишь одного: чтобы там не было ни пагод, ни драконов!
– Ну, это пустяки! – засмеялась Селия. – Кстати, Китай сейчас совершенно не в моде. Для тебя, Беатрис, я создам настоящий турецкий дворец!
Так что, перемежая шутки и вполне разумные решения, мы добились права на скромное венчание с минимальным количеством шума и суеты. Затем должен был состояться переезд Джона в чудесную просторную спальню, примыкающую к моей, рядом с которой будут его гардеробная и рабочий кабинет со шкафами для книг и всевозможных лекарственных средств, а окна кабинета будут смотреть на наш огород. Также в конюшне следовало оборудовать специальное стойло для его драгоценного «араба» Сиферна.
Но мы с Джоном все же решили устроить себе маленький праздник для двоих – уехать в свадебное путешествие, хотя и всего на несколько дней. У тети Джона в Пегаме был небольшой домик, и она предложила нам пожить там. Ехать туда нужно было всего несколько часов, а домик оказался элегантной небольшой усадьбой с приветственно распахнутыми дверями.
– К дому почти никаких земель не прилагается, – пояснил Джон, заметив мой рыщущий взгляд, – и тете он нужен только ради него самого и роскошного сада. Возделываемых полей тут, по-моему, совсем нет. Так что даже не прикидывай тут никаких земельных усовершенствований.
– Это как раз Гарри, а не я, любит всякие усовершенствования, – возразила я и снова уселась за стол. Джон неторопливо пил порто, а я, строя пирамидку из засахаренных фруктов, сказала, словно размышляя вслух: – Мне просто показалось, что если бы поля распахивали целиком, а не такими «заплатками», как сейчас, то и для плуга было бы удобней.
– Неужели тебе это так важно? – удивился Джон, типичный невежественный горожанин, да еще и шотландец в придачу.
– О господи! Конечно, мне это важно! – воскликнула я. – На этом же можно сэкономить несколько часов в день, когда начинается пахота. А во время пахоты больше всего времени уходит на то, что нужно без конца разворачивать лошадей. Была бы моя воля, я бы заставляла пахать поля только целиком, длинными полосами, чтобы лошади могли идти и идти прямо вперед, не останавливаясь.
Джон рассмеялся, глядя в мое оживленное лицо.
– И так до самого Лондона, полагаю? – спросил он.
– Ну, зачем же до Лондона, – возразила я. – Ты опять ошибся: это Гарри все хочется заполучить как можно больше земли. А мне нравятся не слишком большие поместья, такие, как наш Широкий Дол, с аккуратно огороженными границами, дающие хороший доход. Лишней землей, может, и приятно владеть, но это всегда новые люди, с которыми еще нужно хорошенько познакомиться, новые поля, которые нужно как следует изучить. Наш Гарри готов покупать землю сотнями ярдов, как домотканое полотно. Я к этому совсем иначе отношусь.
– А как ты к этому относишься? – тут же спросил Джон. – Чем, собственно, земля отличается от всех прочих товаров, Беатрис?
Я покрутила в пальцах тонкую ножку бокала, глядя, как переливается в нем темно-красная жидкость.
– Да я, в общем, вряд ли смогу это объяснить, – медленно начала я. – Понимаешь, земля таит в себе некое волшебство. Такое ощущение, словно каждый из нас тайно связан с определенным местом на земле. И у каждого свой горизонт, свой излюбленный пейзаж, которого они, возможно, никогда и не видели, но который сразу узнают, стоит ему возникнуть перед их взором. И они, словно ждали этого мгновения всю жизнь, скажут: «Ну вот, наконец, я и дома». Примерно так и я отношусь к Широкому Долу. – Я понимала, что не сумела до конца выразить свои чувства с помощью слов, а потому пояснила: – Однажды, много лет назад, мой отец посадил меня на своего огромного коня и, ведя его под уздцы, показал мне наши земли; я тогда впервые увидела Широкий Дол целиком, с высоты холма, и в ту же секунду поняла, что это и есть мой дом. Для Гарри дом может находиться на любой земле, в любой стране. Но для меня дом – это только Широкий Дол! Широкий Дол – это единственное место на свете, где я, приложив ухо к земле, могу услышать, как бьется ее сердце.
И я умолкла, взволнованная. Пожалуй, я сказала больше, чем хотела, а потому сразу почувствовала себя глупой и опасно обнажившей свое нутро. Я по-прежнему теребила пальцами ножку бокала, не поднимая потупленных глаз. Затем Джон, накрыв мои нервные пальцы своей бледной рукой, заставил их успокоиться.
– Я никогда не заставлю тебя покинуть эти места, Беатрис, – пообещал он, с нежностью на меня глядя. – И я действительно понимаю, как тесно ты связана с этими местами. По-моему, это настоящая трагедия для тебя – не иметь права унаследовать Широкий Дол. Особенно если учесть, что Широкому Долу необходима именно такая хозяйка, как ты; я это и сам прекрасно вижу и со всех сторон слышу самые лестные отзывы о тебе. Люди говорят, что ты не просто отлично управляешь имением, но и так меняешь планы Гарри, чтобы они работали на практике, а не только в теории; что ты предпочитаешь не раздавать милостыню, а давать работу, и всегда готова оказать помощь; что и земля, и люди, которые на ней работают, каждый раз оказываются в выигрыше благодаря твоей страстной любви к Широкому Долу. Именно поэтому мне так жаль тебя, дорогая. – Я вздернула голову, готовясь тут же ему возразить, но он остановил мой инстинктивный протест ласковой улыбкой и пояснил: – Ведь ты никогда не сможешь обладать столь обожаемым тобой Широким Долом. Я, разумеется, никогда не стану мешать тебе и впредь хозяйничать здесь, но я не в силах – да и никто не в силах – сделать полностью твоей ту землю, которую ты так любишь.
Я кивнула. Еще несколько фигурок той головоломки, которую являл собой мой молодой муж, встали на свои места. Он понимал, как много значит для меня Широкий Дол, и это послужило причиной того, что он согласился жить вместе со мной в западном крыле нашего старого дома. Он понимал, что я одержима этой землей, и потому сделал вид, будто совсем позабыл о том, что сперва я ему отказала. Он понимал, что мы прекрасно подходим друг другу как любовники. Он понимал, что мы можем стать мужем и женой. Он понимал, что для меня одно из главных его преимуществ – это отсутствие у него собственной земли и собственного дома, куда мне после свадьбы пришлось бы переехать. А еще он понимал, мой добрый, серьезный, насмешливый, желанный муж, что одной его улыбки достаточно, чтобы сердце мое возбужденно забилось, и я просто таю, когда он обнимает меня.
Мне никогда еще не доводилось провести всю ночь в постели с любимым, не страшась наступления утра, и это оказалось поистине прекрасно. Но еще лучше было то, что Джон, страстный любовник, наполнил наши первые ночи дивной дымкой наслаждения, смеха, вина и задушевных разговоров.
– Ах, Беатрис, – сказал он, с грубоватой нежностью заставляя меня лечь после очередного взрыва страсти и укладывая мою голову себе на плечо, – как же долго я тебя ждал!
И мы уснули, крепко обнявшись.
А утром за кофе со свежими булочками он заявил:
– Знаешь, Беатрис, мне, пожалуй, уже нравится быть твоим мужем. – И я невольно улыбнулась ему столь же тепло и искренне, как и он улыбался мне, и щеки мои залил жаркий румянец.
В общем, первые дни нашего супружества, как и первые месяцы, были наполнены нежностью, теплом и радостью наслаждения друг другом; мы оба были охвачены истинной страстью. Джон не был новичком в любовных делах (и я тоже, Господь тому свидетель), но вместе мы обретали в любви нечто особенное. Чудесная смесь нежности и чувственности делала наши ночи поистине незабываемыми. Да и днем нам было очень хорошо вместе благодаря острому уму Джона, его сообразительности и полному нежеланию стать серьезным и смеяться надо мной, вместе со мной и из-за меня. Он умел заставить меня рассмеяться в любой момент, даже самый неподходящий: например, когда я выслушивала громоподобные жалобы старого Тайэка или пыталась вникнуть в очередной безумный план Гарри. У Тайэка за спиной я видела Джона, который низко кланялся, дергая себя за чуб и пародируя крайнюю степень уважения ко мне; или же Джон, стоя у Гарри за спиной, с преувеличенным энтузиазмом кивал, слушая, как мой брат рассказывает, что нам нужно построить у себя огромные стеклянные теплицы, выращивать в них ананасы и продавать их в Лондоне.
В такие моменты, а они случались почти каждый день этой холодной, с сильными ветрами осени, мне казалось, будто мы с Джоном счастливо женаты уже много-много лет и будущее расстилается перед нами, точно крупные плоские камни, по которым так удобно перебираться через любую, не слишком быструю реку.
Наступило Рождество. Арендаторы и крестьяне были приглашены на традиционный праздничный пир. В наших краях арендаторам и работникам обычно позволялось лишь смотреть, как пируют и танцуют знатные господа, но у нас в Широком Доле издавна существовала иная традиция, и мы устраивали в усадьбе праздник для всех. На конюшенном дворе расставляли большие раскладные столы и скамьи и разжигали огромный костер, на котором жарили целого быка. А когда все наедались до отвала, запивая угощенье щедрым количеством сваренного в Широком Доле эля, столы отодвигали, и все, сбросив зимнюю одежду, принимались танцевать под бледным зимним солнышком.
Этот пир, первый с тех пор, как умер папа, тоже состоялся в хороший зимний денек, и во время танцев солнышко ласково пригревало наши лица. Поскольку я все еще считалась новобрачной, мне выпала честь открывать танцы, и я, с извиняющейся улыбкой глянув на Джона, протянула руку Гарри, с которым, согласно традиции, и должна была танцевать первый танец. Следом за нами, повторяя те же фигуры танца, двинулись и остальные пары, и первыми среди них были Селия, совершенно очаровательная в своем бархатном платье благородного, темно-синего цвета с отделкой из белого лебяжьего пуха, и мой дорогой Джон, который всегда был готов шепнуть Селии ласковое словечко, но при этом посмотреть на меня с такой улыбкой, которая предназначена только для моих глаз.
Заиграла музыка – ничего особенного, скрипка и бас-виола, – но мелодия была веселая, быстрая, и мои красные юбки так и взлетали, когда я кружилась то в одну сторону, то в другую, а потом, крепко держась за руки Гарри, вместе с ним ворвалась в коридор, выстроенный остальными парами. Пробежав сквозь этот коридор, мы с Гарри тоже встали в самом конце и подняли руки аркой, пропуская всех по очереди. Последними сквозь коридор под аплодисменты зрителей пробегали улыбающиеся Селия и Джон.
– Тебе хорошо, Беатрис? Ты выглядишь совершенно счастливой, – крикнул мне Гарри, глядя в мое сияющее лицо.
– Да, Гарри, я действительно очень счастлива, – с некоторым нажимом сказала я. – Широкий Дол преуспевает, мы с тобой оба удачно вступили в брак, мама, наконец, всем довольна. Да и мне больше нечего желать.
Добродушная улыбка Гарри стала еще шире; его лицо, которое благодаря кулинарным изыскам Селии становилось все более пухлым и округлым, так и светилось от счастья.
– Вот и замечательно, – сказал он. – Я рад, что все так отлично устроилось для всех нас.
Я улыбнулась, но промолчала. Я знала, что он намекает на мое прежнее нежелание выходить замуж за Джона. Гарри никак не мог понять, каким образом мое полное неприятие этой идеи вдруг обернулось столь улыбчивым согласием. Мне также было ясно и кое-что другое: Гарри не мог не думать о моем грозном обещании вечно быть с ним рядом и вечно оставаться в Широком Доле. Он и боялся этого, и страстно жаждал тех мгновений, когда я разрешала ему подняться в потайную комнату на чердаке западного крыла. Какой бы любящей женой ни была теперь Селия, какой бы наполненной ни была теперь жизнь самого Гарри, он по-прежнему стремился – и всегда будет стремиться! – к тому извращенному наслаждению, которое ждало его на чердаке, вдали от освещенных серебряными канделябрами привычных залов и коридоров нашего дома. С тех пор как я вышла замуж, мы встречались там с Гарри раза два или три от силы. Джон без возражений воспринимал мою привычку поздно засиживаться в кабинете за работой, да и сам порой отсутствовал всю ночь, будучи занят с кем-то из пациентов, особенно если, скажем, принимал тяжелые роды или находился у постели умирающего. Такие ночи я использовала по-своему: вместе с Гарри поднималась в комнату на чердаке, ремнями привязывала своего брата к крючьям в стене и подвергала его самым разнообразным мучениям, какие только могла придумать.
– Да, я тоже очень рада, – кивнула я Гарри, и мы снова схватились за руки и галопом помчались по составленному другими парами коридору в обратном направлении. Затем мы, снова кружась впереди всех, исполнили все необходимые фигуры танца, и танец наконец-то закончился; музыканты стали щипать струны, обозначая паузу, но Гарри все продолжал кружить меня, так что пышная вышитая юбка моего темно-красного платья облаком разлеталась вокруг моих ног. К сожалению, это кружение вместо восторга вызвало у меня дурноту; я сильно побледнела и вырвалась из рук Гарри.
Джон мгновенно оказался рядом со мной. Селия тоже. Они оба были само внимание.
– Ничего страшного, – задыхаясь после быстрого танца, поспешила я успокоить их. – Выпью холодной воды, и все пройдет.
Джон щелкнул пальцами одному из лакеев, и ледяная вода в зеленом винном бокале смыла вкус подступившей к горлу желчи. Я машинально прижала холодный бокал к разгоряченному лбу. И даже ухитрилась слегка улыбнуться Джону, сказав:
– Вот и еще один пример чудесного исцеления для блестящего молодого врача.
– Но я не только знаю, как исцелить этот недуг, но и то, что сам, похоже, послужил его причиной, – тихо сказал он, и в голосе его прозвучала нежность. – Пожалуй, на сегодня танцев с тебя довольно. Давай-ка лучше тихонько посидим в столовой. Тебе оттуда будет все прекрасно видно, но танцевать тебе больше нельзя.
Я кивнула и, опершись о его руку, прошла с ним в дом, а Селия и Гарри тем временем начали следующий танец. Джон не сказал мне больше ни слова, пока мы не уселись у окна, выходившего на конюшенный двор, и нам не принесли полный кофейник горячего крепкого кофе.
– А теперь, моя очаровательная задира, – спросил Джон, передавая мне чашку с кофе, приготовленным именно так, как мне больше всего нравилось: без молока и с большим количеством коричневого паточного сахара, – признайся, когда ты собиралась снизойти до своего мужа и объявить ему эту добрую новость?






