Широкий Дол Грегори Филиппа
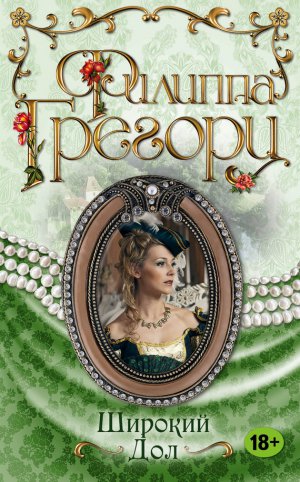
– Хорошо. Я обещаю, что непременно с вами поеду. Но поеду исключительно ради вас, дорогая Селия.
Она вцепилась в мою руку, как утопающий в свисающую над водой ветку. Казалось, ее уносит течением, и я позволила ей держаться за меня, хотя чувствовала, что подобное преклонение может в итоге показаться мне утомительным. Однако же я прекрасно понимала, что таким образом обретаю великолепную возможность оказывать через Селию влияние на своего брата. Некоторое время мы сидели, крепко держась за руки, и молчали, но тут наше уединение было прервано внезапно появившимся из зарослей сводным братом Селии, четырнадцатилетним Джорджем, каким-то образом сумевшим нас отыскать.
– Добрый день, мисс Лейси, – сказал он, вспыхивая ярким румянцем. – Мама велела мне вас найти и передать вам, что миссис Лейси готова ехать домой.
И мы поспешили к дому. Селия, вся трепеща, летела впереди по заросшей сорняками тропинке, а мы с Джорджем чуть отстали. Он с изысканной куртуазностью предложил мне опереться о его руку и, желая завязать разговор – все-таки я была «очаровательной мисс Беатрис», поистине лакомым кусочком для женихов всего графства, – вдруг ляпнул:
– Ходят слухи о хлебных бунтах!
– Да? – откликнулась я с вежливым интересом. – И где же они происходят?
– В Портсмуте, по-моему. Во всяком случае, так мама говорила, – смутился он. – Говорят, толпа разгромила две пекарни, узнав, что хлеб там выпекают из смешанной муки. А во главе этой толпы был какой-то безногий цыган верхом на лошади. Уж это-то точно выдумки!
– Да, выдумки, – медленно повторила я, чувствуя, как меня охватывает леденящий ужас, причина которого мне и самой еще толком не ясна.
– Конечно, выдумки! Разве может рыцарь на коне возглавить толпу каких-то бедняков? – сказал Джордж с юношеской суровостью. – Так в следующий раз они придумают, что бунтовщиков и грабителей возглавлял парный экипаж!
– Когда это случилось? – резко прервала я его, ибо некое предчувствие уже запустило свои холодные когти мне в позвоночник.
– Не знаю, – растерялся Джордж. – По-моему, недели три назад. Теперь этих бунтовщиков, наверное, уже всех поймали. Но я вот еще о чем хотел вас спросить, мисс Лейси: вы будете танцевать у Селии на свадьбе?
Я постаралась ласково ему улыбнуться – он с таким откровенным восхищением смотрел на меня.
– Нет, Джордж, – сказала я. – Мне еще придется соблюдать траур. Но как только мне снова можно будет танцевать, то на первом же балу я будут танцевать только с вами.
Он покраснел до ушей и, храня торжественное молчание, помог мне подняться на крыльцо и повел в гостиную. Мама и леди Хейверинг вели задушевную беседу, но отнюдь не о хлебных бунтах в Портсмуте, так что в данный момент я никак не могла расспросить об этом подробнее. И в душе у меня осталась некая неясная тень и ощущение холодного озноба, который, как говорят крестьяне, свидетельствует о том, что кто-то прошел над твоей могилой. Мне не понравился этот разговор о каких-то разгневанных людях и безногом цыгане верхом на коне, возглавляющем эту толпу. Но пока что это были всего лишь неясные мне самой неприятные ощущения.
Сейчас для меня куда важнее было использовать предоставленный мне Богом шанс и отправиться в путешествие вместе с Гарри и Селией. Однако мудрый инстинкт все время заставлял меня откладывать разговор с Гарри о том, что его невеста сама попросила меня сопровождать их в свадебной поездке. Наконец я выбрала удобный момент, когда все мы втроем собрались за чаем. Мне хотелось убедиться, что Гарри не сможет отказать мне, будучи моим любовником, в том, что он, возможно, будет вынужден позволить мне как брат.
Я подчеркнула, что поехать меня просила именно Селия, но я сразу ей ответила, что без согласия мамы решиться на это не могу. Я очень внимательно следила за выражением лица Гарри: сперва он весь вспыхнул в предвкушении удовольствий, но затем его кратковременная радость сменилась куда более устойчивыми сомнениями. Здравомыслие вновь одержало над Гарри верх, и я испытала острый укол ревности и боли, поняв, что он к тому же предвкушает возможность наконец-то остаться с Селией наедине, причем далеко и от ее властной матери, и от его собственной мамочки, ухитряющейся вечно выставлять его в смешном свете своей удушающей любовью. Далеко даже от его сестры, столь желанной и столь загадочной.
– Это была бы потрясающая возможность для тебя, – сказала мама, глянув на Гарри и пытаясь догадаться, что предпочел бы он, ее драгоценный мальчик. – И это так похоже на Селию – думать о том, чтобы и тебе доставить удовольствие! Но, может быть, Гарри сочтет, что тебе нужно остаться здесь, пока сам он будет в отъезде? Ведь осенью на земле очень много работы – ваш папа всегда так говорил.
Она повернулась к Гарри, подготовив все для того, чтобы он просто обозначил свои желания, а мы тут же кинулись бы их исполнять. Все в этом доме делалось в соответствии с желаниями Гарри. И я, с трудом сдерживая нетерпение, сказала с легкой улыбкой:
– На самом деле Селия просто умоляла меня поехать. По-моему, она боится остаться в незнакомом городе одна, пока Гарри будет выискивать очередного фермера-экспериментатора. – Я смотрела Гарри прямо в глаза и знала, что он прочтет мое тайное послание. – Видишь ли, дорогой, она пока еще не настолько разделяет твои вкусы. Не то что я.
Я видела: он прекрасно понял, что я имела в виду. Мама с любопытством посмотрела сперва на него, потом на меня и мягко заметила:
– У Селии впереди еще много времени, так что она вполне успеет научиться разделять вкусы Гарри. Я уверена, она сделает все, что в ее силах, чтобы доставить ему удовольствие и сделать его счастливым.
– О да! – с готовностью подхватила я. – Я тоже не сомневаюсь, что Селия и нас всех сделает счастливыми. Она такая милая и добрая! И будет просто великолепной женой.
Гарри помрачнел при мысли о том, что ему всю жизнь придется жить с этой «великолепной женой», и я, заметив это, решила его утешить, сыграв на маминой невинности. Я встала из-за стола и подошла к нему. Мама сидела на дальнем конце стола, и оттуда все выглядело очень мило: ей наверняка казалось, что я просто упрашиваю брата взять меня с собой. На самом деле стоило мне подойти ближе, и сердце Гарри возбужденно забилось, а дыхание стало учащенным, ибо он почувствовал аромат моей теплой надушенной кожи. Я же, стоя к маме спиной, прижалась щекой к его щеке и сразу почувствовала, как он весь вспыхнул, увидев в вырезе платья мою соблазнительную грудь. Я снова выиграла сражение за счет непостоянства Гарри. Собственно, он погиб при первом же напоминании о том, какое наслаждение ждет его со мной. И мне больше не нужно было ни убеждать его, ни что-то ему доказывать.
– Пожалуйста, Гарри, возьми меня с собой, – все же сказала я умоляющим шепотом. – Обещаю, что буду вести себя хорошо. – И я незаметно для мамы слегка коснулась губами его щеки где-то возле уха. Больше он выдержать не смог; он ласково отстранил меня от себя, и я заметила, как напряжено его лицо, особенно мышцы вокруг глаз.
– Конечно, Беатрис, – любезно ответил он, с трудом владея собой, – если Селия так сильно этого хочет. Да и на мой взгляд, идея чрезвычайно удачная. Я прямо сейчас напишу ей, а потом присоединюсь к вам с мамой в гостиной, и мы вместе выпьем чаю.
Ему явно хотелось как можно скорее выйти из комнаты, чтобы несколько остыть после моих прикосновений. Я осталась наедине с мамой, но она на меня даже не глядела – старательно счищала с персика шкурку. Я скользнула на свое место и срезала изящными серебряными ножничками несколько мелких веточек винограда с огромной грозди.
– Ты уверена, что тебе следует ехать с ними вместе? – ровным тоном спросила мама, по-прежнему не отрывая глаз от персика, который держала своими изящными пальцами.
– А почему бы и нет? – с деланым равнодушием сказала я. Но нервы мои был напряжены.
Она явно попыталась найти достойную причину, но не сумела, и я спросила:
– Вас тревожит, мама, что вы останетесь в доме одна? Но ведь это не такая уж длительная поездка.
– На самом деле мне действительно было бы легче, если бы ты осталась, – призналась она. – Впрочем, я и сама прекрасно справлюсь в течение каких-то полутора-двух месяцев. Дело не в поместье… – Это предложение она оставила незаконченным, и я не стала ей помогать.
– Возможно, Гарри и Селии нужно какое-то время побыть вдвоем… – снова неуверенно начала мама.
– А зачем? – спросила я, забавляясь ее убежденностью в моей абсолютной невинности. Я нарочно заставляла ее вспомнить собственный, довольно печальный, брачный опыт – ведь он не предусматривал ни обязательных ухаживаний, предшествующих свадьбе, ни настоящего медового месяца, этой прелюдии супружеских отношений. Брак моих родителей был просто выгодной сделкой, при заключении которой вовсе не требовались какие-либо особые чувства, и следствием этого стала в итоге взаимная неприязнь.
– Возможно, и вам с Гарри было бы полезно немного пожить врозь… – сказала мама еще более неуверенным тоном, так и не ответив мне. И я, собрав все свое мужество, возмущенно воскликнула:
– Мама, что вы такое говорите?
Видимо, голос мой прозвучал достаточно резко, потому что она вздрогнула и вскинула голову, испуганно глядя на меня своими бледными глазами.
– Ничего, – пролепетала она. – Ничего, детка. Ничего. Просто порой я так боюсь за тебя – ведь тебе свойственны такие бурные чувства. Сперва ты безумно любила, просто обожала своего отца, потом до некоторой степени перенесла это чувство на Гарри… И потом, тебя ничто не интересует, кроме Широкого Дола; ты готова целыми днями бродить по его просторам, точно призрак, привязанный к этим местам. Меня просто пугает твоя чрезмерная привязанность к этой земле. Ты слишком много времени проводишь с Гарри, а я хочу, чтобы ты вела жизнь нормальной, обычной девушки, чтобы ты…
– Но, мамочка, я ведь и веду жизнь нормальной, обычной девушки, – мягко прервала ее я. – Просто моя жизнь не похожа на вашу. Во-первых, времена меняются, а во-вторых, вы ведь росли в городе, а я – в деревне. Но в остальном я ничуть не отличаюсь от своих ровесниц.
Я чувствовала, что маме все еще не по себе, но у нее никогда не хватило бы смелости прислушаться к собственным предчувствиям и внимательней всмотреться в наши с Гарри отношения, в то, что на самом деле происходит прямо у нее перед носом, перед ее испуганными полузакрытыми глазами.
– Смею надеяться, что это действительно так, – неуверенно промолвила она. – Мне трудно судить. Мы видим так мало молодежи. У твоего отца никогда не хватало времени на светскую жизнь, и мы жили так уединенно, вдали от здешнего общества… так что вряд ли я могу справедливо судить…
– Не огорчайтесь, мамочка, – попыталась я утешить ее, и голос мой звучал тепло от неискренней любви. – Я вовсе не помешана на Широком Доле. Вы же сами видите, я готова с радостью уехать даже посреди осени, хотя осень здесь – лучшее время года. И на Гарри я вовсе не помешана; напротив, я очень рада, что он женится на Селии и мы с ней станем еще более близкими подругами. Так что ваши страхи, мама, совершенно неуместны.
Моя мать не обладала ни острым умом, ни надежными инстинктами, и в данном случае ей оказалось не под силу отделить правду ото лжи. Впрочем, даже если бы правда о моих отношениях с Гарри смотрела ей прямо в глаза, она бы скорее умерла, чем согласилась ее разглядеть. Сунув в рот последний ломтик персика, она одарила меня извиняющейся улыбкой и сказала:
– Ты права, глупо, что я так беспокоюсь. Но это только потому, что я испытываю ответственность за тебя и за Гарри, и, поскольку вашего отца больше нет, я одна должна теперь руководить вами и как-то направлять вас. Мне бы так хотелось, чтобы у нас был по-настоящему счастливый дом!
– Но это же так и есть, – твердо заявила я. – А когда Селия станет жить с нами вместе, наш дом станет еще счастливее.
Мама встала, и мы с ней двинулись к дверям. Чуть забежав вперед, я изящным куртуазным жестом распахнула их перед нею, а она остановилась, поцеловала меня в щечку и сказала с нежностью:
– Благослови тебя Господь, моя дорогая! Пусть Он спасет и сохранит тебя, милая моя девочка! – И мне показалось, что она упрекает себя за недостаточную любовь ко мне и за те нехорошие подозрения, что закрались в ее душу, когда она увидела, как я обнимаю Гарри.
– Благодарю вас, мама, – сказала я, и благодарность, прозвучавшая в моем голосе, была отнюдь не притворной. Меня действительно тронула ее попытка исполнить свой долг по отношению ко мне и, воспользовавшись материнской любовью, принудить меня заключить некую сделку, выгодную, с ее точки зрения, мне самой. В детстве она заставила меня немало страдать, но эта боль, вызванная ее безоговорочным и абсолютным предпочтением Гарри, со временем притупилась, а мои чувства по отношению к ней превратились в лед. Но я все же оценила ее честную, достойную попытку проявить к нам, своим детям, равную любовь и заботу.
– Я прикажу подать чай, – сказала мать и вышла из комнаты, оставив меня размышлять над охватившими меня сложными чувствами.
Ах, если бы жизнь была так проста, как это кажется моей маме! Как просто было бы жить, если бы меня и Гарри объединяли простые и ясные партнерские отношения, если бы Гарри собрался жениться по любви, если бы я грезила о счастье в новом доме с любящим супругом! Как легко было бы жить без стольких тяжких грехов за душой!
Но тут дверь в гостиную отворилась, и вошел Гарри, держа в руке недописанное письмо.
– Беатрис… – прошептал он. Мы стояли лицом друг к другу, и наши лица отражались в темной полированной поверхности чайного столика. В эту минуту Гарри и впрямь был похож на ангела, и нечеткое отражение в столешнице только усугубляло это впечатление, делало его прекрасные чистые черты какими-то чуть расплывчатыми и сияющими. Мое же отражение напоминало лик привидения – бледное лицо, густо напудренные и тщательно уложенные волосы, царственная осанка, но глаза смотрят серьезно и грустно, а возле губ таится вечная печаль. Да, пожалуй, мы и на самом деле были таковы: прекрасный слабый юноша и гордая страстная молодая женщина. И пока еще в наших силах было остановить развитие возникших между нами отношений. Возникших полубессознательно. Я была охвачена чувством покоя после нежного благословения матери, после проявленного ею смирения, после ее неудачной, вызвавшей у нее смущение попытки найти правильный путь в том мире и в том доме, где грех таился в каждом углу. И ведь она отчасти чувствовала эту угрозу, отчасти понимала, что грех где-то здесь, но увидеть его, распознать так и не смогла. Я видела, как мужественно она собиралась с силами, стремясь противостоять страшной правде, как она пыталась по-настоящему полюбить меня, и в этом была возможность иной жизни, дающей силы предпочесть самоотречение жадному стремлению к наслаждениям. И в этой иной жизни цена всему давалась бы в рамках морали, и порой ее можно было бы счесть даже слишком высокой. И высшей ценностью там признавалась бы добродетель, а не сиюминутное вознаграждение.
Но все это оказалось всего лишь мимолетным видением.
– Я приду к тебе сегодня ночью, – требовательно заявил Гарри. Потом помолчал и с любопытством посмотрел мне в лицо. – Ты действительно хочешь поехать?
Я колебалась. Отказ уже готов был сорваться с моих губ, и, полагаю, этот первый шаг был бы самым трудным, а потом, возможно, нам удалось бы оставить свою греховную связь в прошлом. Но тут на глаза мне попалось письмо, которое Гарри собирался отправить Селии. Листок еще не был сложен, и я легко прочла первые слова, написанные четким, школьным почерком моего брата: «Мой добрый ангел…» Значит, он называет ее своим добрым ангелом, даже сгорая от страсти ко мне? Значит, она все-таки войдет в наш дом – в мой дом! – и станет ангелом Широкого Дола, а меня выдадут замуж и заставят уехать отсюда?
Не только Гарри, но и все мы – Селия, мама и я – угодили в ловушку и теперь были обречены играть некие вынужденные роли. Если я буду продолжать колебаться, Селия наверняка завоюет и Гарри, и Широкий Дол. И сделает это столь же уверенно, словно сама строила против меня планы и заговоры. Она может отнять у меня Широкий Дол без малейших усилий – это будет всего лишь дань ее очарованию и доброте. Тогда как я могу удержать это поместье только путем невероятных усилий, хитроумных планов и борьбы. И для Гарри она была добрым ангелом, а я, в своей борьбе за обладание им и Широким Долом, была вынуждена стать Люцифером.
Я молча пожала плечами. Моя страстная любовь к этой земле уже завела меня достаточно далеко. И могла завести еще дальше. Во всяком случае, не в моем характере было отступать, когда Гарри стоял передо мной, держа в руке любовное письмо к моей сопернице. И я не могла сказать ему «нет», видя, что глаза его потемнели от страсти ко мне.
Я скользнула мимо него в дверь, позволив себе слегка задеть его телом, и на ходу шепнула:
– Хорошо, в полночь приходи ко мне в спальню.
Мои волосы коснулись его щеки, и я услышала тяжкий вздох, почти рычание, и он, точно послушный щенок, пошел за мной в ярко освещенную мамину гостиную, где в камине весело горел огонь, а мама с нежностью и любовью улыбалась нам обоим, ее добрым, хорошим детям.
Всю ту ночь я провела в объятиях Гарри; я позволяла ему все, и мы любили друг друга так отчаянно, словно этим могли удержать наступление утра. Моя готовность во всем идти ему навстречу, моя непритворная страсть невероятно возбуждали Гарри, и мы еще по крайней мере час не могли уснуть после наших безумных любовных игр. Он крадучись пробрался в свою холодную спальню лишь после того, как в саду запели первые летние пташки, а за крепкой дверью, ведущей на хозяйственную половину дома, послышался стук кувшинов для воды и молочных крынок и треск дров в растапливаемой кухонной плите.
Оставшись одна в своей узкой девичьей постели, я не уснула, а, подложив под локоть подушку, приподнялась и стала смотреть в сад. Я испытывала некую пресыщенность, даже определенное физическое истощение сил, ведь мы всю ночь любили друг друга, предаваясь самым страстным ласкам. Однако в моей душе не было того глубокого душевного покоя, какой обычно охватывал меня уже после десяти минут любви с Ральфом. Гарри, может, и пробуждал во мне страстное желание, заставляя часами предаваться наслаждению, но никогда после любовных свиданий с ним душа моя не была исполнена покоя. Наоборот, меня всегда терзало некое томительное чувство, некое ощущение опасности, заставлявшее меня оставаться настороже. С Ральфом, сыном цыганки, я чувствовала себя равной ему в любви. А с Гарри, хозяином этой земли, я никогда не чувствовала себя спокойной настолько, чтобы легко уснуть в его объятиях.
Теперь мои планы, похоже, привели меня в некую спокойную бухту. Пусть свадебная подготовка идет своим чередом, раз оба они, и жених, и невеста, считают меня своим лучшим другом и союзником. Пока они полагаются на меня, как на свою конфидентку и посланницу, мне нетрудно будет поддерживать в них взаимное отчуждение. Я смогу хоть вечно удерживать их на расстоянии друг от друга. Единственной угрозой моему будущему была возможность рождения у них сына и наследника. Я легко вынесла бы раздел поместья с Гарри, но мне невыносима была даже мысль о том, что по моей земле будет бегать отродье Селии. Гарри беспечно передал мне бразды правления поместьем, и я чувствовала здесь свою власть, чувствовала себя настоящей хозяйкой Широкого Дола. Но если у них родится сын, Гарри непременно начнет задумываться о его будущем – и вот этого мне будет уже не вынести.
Впрочем, подобная возможность представлялась мне довольно туманной. Селия, которая тряслась и бледнела при одной лишь мысли о выполнении «кошмарных» супружеских обязанностей, вряд ли будет так уж стремиться к продолжению рода. Я просто представить себе не могла, что они будут заниматься любовью чаще, чем несколько раз в год, для видимости. И вряд ли можно было предположить, что Селия сумеет зачать так же легко, как здоровые деревенские женщины.
Пожалуй, теперь я не испытывала к Селии почти никакой ревности. И ничего не имела бы против, если бы она прежде меня входила в гостиную или в столовую во время обеда, а я, в соответствии с условностями, пропускала бы вперед ее и маму. Я ведь все равно знала бы, как и все вокруг, у кого в руках истинная власть над Широким Долом. У нас ведь небольшое графство, и каждому известны дела соседа. А наши работники давно уже считали меня настоящей хозяйкой поместья, и почти все арендаторы тоже в первую очередь советовались именно со мной. Пока Гарри этой весной торчал в основном в Хейверинг-холле, я приказала починить ограды, отремонтировать или перестроить многие коттеджи, а он этого даже не заметил. Все графство знало, что в поместье правлю я.
И не потребуется много времени, чтобы все поняли: я не выпущу из своих рук ни дом, ни поместье, так что новая леди Лейси тут хозяйничать не будет. В моих руках были и все финансовые дела Широкого Дола; повар, дворецкий и старший конюх приносили свои ежемесячные отчеты именно мне. Любые дополнительные расходы по дому или конюшне прежде непременно согласовывали с «мисс Беатрис». И если бы Селия попыталась, скажем, устроить без моего ведома званый обед, она столкнулась бы с массой сложностей, а повар и вовсе отказал бы ей, хотя и с извинениями. Без разрешения «мисс Беатрис» и вино не принесли бы из погреба, и барашка бы не забили на скотном дворе. Так что Селии придется столкнуться с тем – если, конечно, она еще сама об этом не догадалась, – что ее роль в домашнем хозяйстве будет очень ограниченной.
Что она могла бы сделать – и при самом искреннем моем благословении! – так это взять на себя весьма утомительную и, на мой взгляд, совершенно бессмысленную обязанность ездить с визитами к другим дамам и принимать их у себя, а также участвовать в разнообразных совместных чаепитиях. Ни одна работа, связанная с землей, не воспринималась моей матерью как нечто срочное и настоятельно необходимое, чтобы ради этого она позволила мне манкировать своей «прямой обязанностью дочери» непременно сопровождать ее на эти светские сборища по крайней мере раз в неделю. Для всех мы обязательно «были дома» по средам, во второй половине дня. Моя неделя была, казалось, разбита на отдельные куски этими нудными посиделками, во время которых я, разодетая в шелк или бархат в зависимости от времени года, была вынуждена сидеть возле чайника, разливать гостям чай и, улыбаясь, болтать с ними о погоде, или о новой пьесе, которая идет в Чичестере, или о последней проповеди нашего приходского священника, или о чьей-то грядущей свадьбе.
Каждая среда была для меня омрачена подобной перспективой, и у меня заранее начинали ныть руки и ноги, словно страдавшие от безделья и скуки, а тело охватывал какой-то лихорадочный озноб.
– Сядь, Беатрис, что ты такая беспокойная! – говорила мне мама, когда на подъездной дорожке исчезала, наконец, последняя, приветливо кивающая нам шляпа.
– У меня и так от этого бесконечного сидения все тело затекло и болит! – в отчаянии отвечала я. И мама вздыхала, глядя на меня с раздражением и непониманием. А я, набросив на плечи шаль, выходила из дому, чтобы немного пройтись, и шла пешком через луг до самого леса. Там я с наслаждением задирала повыше юбку и бродила по тропинкам до тех пор, пока на моих щеках не возрождался румянец. И мои легкие вновь заполнялись чистым воздухом, ноги переставали казаться сделанными из свинца, и я могла, наконец, повернуть к дому, зная, что там мне ничто не угрожает. Моя шляпка с лентами висела на руке, голова была высоко поднята и немного откинута назад, чтобы можно было видеть ветви деревьев, сплетавшиеся над головой, а в ушах, наконец-то очистившихся от бессмысленной светской болтовни, звучало лишь птичье пение.
В общем, я была бы страшно рада, если бы Селия взяла себе и эти посиделки по средам, и вторую половину воскресного дня. В воскресенье, посетив утром церковь, а днем плотно пообедав, Гарри с превеликой радостью удалялся в библиотеку и якобы читал там серьезные книги – а на самом деле просто дремал в кресле, положив ноги на письменный стол. Я же, несчастная, оставалась в гостиной и, сидя на жестком стуле, прямая как штырь, читала маме Псалтирь. Селия может взять на себя также чтение проповедей, и они, возможно, принесут ей немало добра.
В светской жизни нашего графства меня привлекали только те неожиданные импровизированные вечеринки, когда случайно собиралось достаточно много молодежи, быстро скатывались ковры, и оставалось лишь упросить какую-нибудь снисходительную тетушку или матушку, чтобы она разрешила начать танцы. Мне также нравились ассамблеи в Чичестере, которые мы посещали, когда заканчивался окот овец, а по дорогам, наконец, можно было проехать. А еще я обожала охоту и то легкое, мужское товарищество, которое устанавливалось между всеми ее участниками; в такие дни, особенно зимой, после обеда тоже устраивали танцы. Но в остальное время – хотя мои ноги всегда сами просились в пляс и я готова была танцевать с кем угодно, действительно с кем угодно, просто ради удовольствия покружиться по комнате, – я вполне могла обойтись вообще без светской жизни. Я была такой же, как мой отец: мне нужен был только мой дом и Широкий Дол. И отныне – и до Судного дня – на всех чаепитиях графства нашу фамилию отлично могла представлять тихая хорошенькая маленькая Селия. Причем с моего благословения.
Мне бы не следовало с такой легкостью относиться к тому, какую популярность в обществе может получить Селия в связи с замужеством, но я же видела – причем без тщеславия, вполне ясно и трезво оценивая себя, – что я куда красивее, чем она. Селия была очень мила – с этим ласковым взглядом больших и кротких карих глаз, с нежной, как сливки, кожей, – но рядом со мной она попросту исчезала, становилась невидимой. А я в то лето сияла какой-то особенной, чувственной красотой. Проходя по улицам Чичестера, я каждую секунду чувствовала на себе взгляды людей – причем все, и женщины, и мужчины, смотрели на меня с удовольствием, любуясь моей легкой, свободной походкой; моими отливающими медью волосами, которые вились, переплетались и подпрыгивали на ходу, словно танцуя; моим веселым лицом и звонким смехом. Если бы я жила так, как того хотела моя мать, я бы, наверное, была похожа на гордого и глупого павлина за оградой птичника и думала бы только о том, как я выгляжу и какие цвета мне больше всего к лицу. Но я сама выбрала для себя жизнь, причем совершенно иную, и я куда меньше внимания, чем того хотелось маме, уделяла своей прическе, яркости глаз и чистоте кожи; меня гораздо сильней волновало, смогу ли я заставить команду жнецов двигаться в одном плотном строю. И свои зеленые глаза я ценила не столько за их красоту и чистый прелестный цвет, сколько за умение одним лишь суровым взглядом заставить ленивого пахаря развернуться и вспахать полосу во второй раз.
Впрочем, святой я, разумеется, тоже не была; я самым тщательным образом следила за Селией – ведь она все-таки была моей соперницей. И только сущий ангел – каковым я, естественно, не являлась – не стал бы задумываться на моем месте о том, как мы с ней будем выглядеть рядом в день ее свадьбы; на свадьбе мне предстояло играть роль подружки невесты и постоянно находиться возле Селии, и я с некоторым злорадством думала о том, что смогу совершенно ее затмить.
Я знала, что буду прекрасно выглядеть в том сером шелке, который выбрала для меня сама Селия. Волосы мне подберут высоко – лишь один локон будет нарочито небрежно ласкать мое обнаженное плечо – и сильно припудрят их белой пудрой, которая так красиво оттеняет яркую зелень моих глаз и теплый живой оттенок кожи. Вечно сердитая старая портниха, специально привезенная из Лондона в Хейверинг-холл для окончательной подгонки свадебных нарядов, громко охнула, когда я вышла из гардеробной и остановилась перед высоким зеркалом в спальне Селии.
– Мисс Лейси, вы там точно будете самой красивой! – уверенно заявила она.
Я внимательно на себя посмотрела. Платье из светло-серого «мокрого» шелка отражало свет при каждом моем движении, но этот блеск был как бы приглушенным, как у сплава олова со свинцом. Платье было настолько элегантным и так шло мне, что, по-моему, ни один мужчина не мог не испытывать желания хотя бы прикоснуться ко мне. Тонкая нежная материя так и льнула к моему телу, а поскольку под платьем я была в чем мать родила, то каждое мое движение словно кричало: «Смотрите же на нее! Смотрите! Смотрите!» Я действительно была очень, очень хороша, мало того, я была просто очаровательна, и, должна сказать, мне это было чрезвычайно приятно.
Серый, суживающийся книзу корсаж платья был расшит крошечными жемчужинами и так тесен, что я едва могла дышать, а груди выпирали из узкого лифа двумя теплыми соблазнительными полушариями, которых не скрывало глубокое декольте. Шелковая верхняя юбка с разрезом распахивалась спереди, демонстрировала вторую, нижнюю, юбку, сшитую не из обычного плотного полотна, а из нежного легкого шелка, специально выбранного мною, и при ходьбе мои голые ноги чувствовали его прохладное ласковое прикосновение.
Но благодушная улыбка слетела с моего лица, когда из гардеробной в спальню вышла Селия и остановилась рядом со мной перед высоким зеркалом. В своем свадебном платье из белого шелка, расшитого серебряной нитью, она выглядела, как принцесса из волшебной сказки. И если ни один мужчина, глядя на меня, не мог не испытывать жгучего желания, то ни один мужчина – да и ни одна женщина! – не смог бы, взглянув на Селию, не полюбить ее. Ее талия, такая же тонкая, как у меня, была очаровательно подчеркнута треугольной линией корсажа, а ее хрупкая гибкая спина лишь чуть-чуть просвечивала под ниспадающими прямыми складками легкого шелка, которые восхитительно струились и покачивались при каждом движении. Мягкие темные волосы Селии были высоко подняты надо лбом в самой простой прическе и даже не напудрены. Но я легко могла себе представить, как чудесно они будут выглядеть, когда их завьют и напудрят; в день своей свадьбы, думала я, Селия с легкостью заставит нестись вскачь сердце любого мужчины, причем не столько от страсти, сколько от нежности.
Она с неподдельной радостью улыбнулась, увидев меня, и воскликнула:
– Боже мой, Беатрис! Вы выглядите еще прелестней, чем всегда! Это вас будут принимать за невесту, а не меня!
Я улыбнулась ей в ответ, но подумала: а что, если она права? И кого из нас – будь у него возможность выбирать свободно – предпочел бы в таком случае Гарри?
– У вас что-то случилось, Беатрис? – спросила вдруг Селия, поворачиваясь ко мне. – О чем это вы думаете с таким мрачным видом?
– Я думаю о вашем будущем муже, – сказала я, рассчитывая этими словами стереть с ее лица счастливую улыбку. И это мне отлично удалось; я, пожалуй, даже немного переборщила. Селия так резко побледнела, что я испугалась. Казалось, у нее даже сердце биться перестало.
– Вы можете идти, мисс Хоуки, – сказала она портнихе и уселась на мягкое сиденье в окне, совершенно не заботясь о том, что мнет свое чудесное платье из тонкого шелка; да она и сама мяла и терзала его, нервно теребя руками.
– Так вы сможете поехать с нами в свадебное путешествие? – спросила она, и в ее карих глазах плеснулся страх. – Гарри написал мне записку и поблагодарил за то, что я вам это предложила, но так и не дал мне ясно понять, поедете вы или нет. Вы сможете поехать, Беатрис? Потому что чем больше я об этом думаю, тем больше прихожу к уверенности, что просто не смогу поехать куда-то с ним вдвоем.
– Да, я смогу с вами поехать, – сказала я, ликуя в душе, ибо лицо ее тут же радостно вспыхнуло и она, воскликнув: «Ах, слава Богу!», отвернулась, прижалась лбом к холодному оконному стеклу и тяжело, почти с рыданием, вздохнула. Глядя на ее профиль, я видела, что она по-прежнему очень напряжена, а потому спросила:
– Вас еще что-то тревожит, Селия?
– Я понимаю, что веду себя неправильно, – начала она, – но одна лишь мысль… о первой брачной ночи… Как вы знаете, согласно плану мы должны после свадебного завтрака поехать в Портсмут, в гостиницу «Золотое руно», и переночевать там, а утром сесть на корабль, отплывающий во Францию. Но мне невыносимо думать, что… – Она не договорила, но по ее лицу я и так догадалась, какие тревожные мысли ее одолевают. – Если уж так необходимо, чтобы мне было больно и страшно, – тихо сказала она, – то я бы предпочла, чтобы это случилось не в каком-то крошечном отеле, и тем более не в Англии, и тем более не так близко от дома.
Я кивнула. Для меня-то подобные вещи ровным счетом ничего не значили. Они для меня попросту не имели никакого смысла. Но, во-первых, все это было мне на руку, а во-вторых, я вполне способна была разглядеть чужую деликатность и должным образом посочувствовать этому человеку.
– Вы боитесь, что кто-то начнет сплетничать и люди станут говорить о вас всякую чушь? – спросила я и очень удивилась, когда она горячо возразила:
– О нет! Я боюсь сплетен не обо мне, а о Гарри! Мне бы очень не хотелось, чтобы его расстраивали всякими ненужными разговорами, особенно если сплетни возникнут из-за моей дурацкой неспособности… – у нее перехватило дыхание, но она все же договорила: —…вести себя, как полагается.
Нет, она действительно душка! – подумала я. Испытывать такой страх, и все же думать в первую очередь о своем муже, о своих родственниках! Кроме того, мне было очень приятно, что будущая хозяйка Широкого Дола так высоко ценит наше доброе имя.
– Я уверена, что Гарри пощадит вас в первую брачную ночь и легко простит вам этот страх, столь естественный для юной девушки, – сказала я, с радостью думая о том, что и первую брачную ночь Гарри проведет там же, где и большую часть последующих ночей – в моей постели. – Мне кажется, что пока мы будем в пути – и в Портсмуте, и на корабле, плывущем во Францию, – нам троим стоило бы поддерживать исключительно дружеские отношения. А вот когда мы как следует устроимся в Париже…
Селия, не поднимая глаз, кивнула, давая мне еще одно преимущество в том, что касалось Гарри. Я ободряюще улыбнулась и обняла ее за тонкую и гибкую талию, чувствуя под шелком платья ее теплое тело. Она повернулась ко мне, печально на меня посмотрела и прижалась щекой к моей щеке.
Ее нежное личико было чуть влажным от нескольких пролитых слезинок, и я не могла избавиться от мысли о том, что если она когда-нибудь вот так повернется к Гарри, то у меня не хватит ни страсти, ни власти, чтобы удержать его. Девственная прелесть Селии может оказаться слишком притягательной для такого человека, как Гарри, а ее молодость, доверчивость и чувствительность пробудят в его душе нежность, любовь и желание заботиться об этом кротком существе. Я поцеловала ее, легко коснувшись губ, и она даже не вздрогнула – наверное, испытав, как и я, ярость голодных поцелуев-укусов Гарри, она сочла мой поцелуй само собой разумеющимся. Затем я встала, сбросила с себя платье, приготовленное к свадьбе, и надела свою серую амазонку.
Когда к нам, предварительно постучавшись, вошла леди Хейверинг, я уже поправляла перед зеркалом свои кудри.
– Господи, Селия, немедленно сними свадебное платье! – как всегда решительно, приказала она. – Ты же его испортишь, помнешь! Садишься в нем где попало! – Селия тут же нырнула в гардеробную, а леди Хейверинг повернулась ко мне и уже совершенно иным тоном спросила: – Я полагаю, вы, девочки, мечтали о будущей поездке?
Я изобразила счастливую улыбку и склонилась перед ней в изящном реверансе.
– Ах, это так мило, что Селия пригласила меня поехать с ними вместе! И я очень рада, что мама сможет меня отпустить.
Леди Хейверинг благосклонно кивнула. Вид у нее был весьма импозантный, вполне соответствующий ее высочайшему в нашем графстве положению. Ширококостная, но весьма хорошо сложенная, она обладала такой внушительной внешностью, что была способна подавить не только свою хорошенькую робкую дочку, но всех окружающих. Удобно устроившись в кресле, она осмотрела меня с головы до ног с откровенным одобрением знатной дамы, находящейся в своем собственном доме. Глядя на нее, я никак не могла себе представить, как она жила в крошечном Бате[13] в самом обычном городском особняке со своим первым мужем-инвалидом. Лорд Хейверинг некогда угадал в этой богатой вдове особу, для которой гораздо важнее его положение в обществе, чем его весьма небогатое состояние, и понял, что хотя бы из гордости она никогда не покажет на людях, как бы отвратительно он с ней ни обращался. Он сделал поистине прекрасный выбор: леди Хейверинг полностью оправдала его ожидания. Она исполняла супружеский долг, заботилась о его детях от первого брака, а потом у них и еще детей в детской прибавилось – уже общих. И в Хейверинг-холле она была настоящей хозяйкой, и невозможно было подумать, что у этой женщины больше нет денег, что она не питает к этой усадьбе и этой земле ни капли любви, а ее муж чересчур часто уезжает «по делам» в Лондон. Она никогда не жаловалась ни на его слишком частые отлучки, ни на толпы его пьяных приятелей, которые регулярно являлись в усадьбу, стреляли фазанов и ездили верхом по пшеничным полям.
– Я вижу, Беатрис, ваша мама разрешает вам ездить верхом без сопровождения? – резко заметила леди Хейверинг. Я посмотрела на свою серую амазонку и сказала:
– Да, хотя мне, наверное, не следовало бы выезжать за пределы нашего поместья. Но я так хотела повидаться с Селией! Вот и решила, что меня вряд ли кто-то заметит.
– Какая беспечность! – сказала леди Хейверинг, не стараясь, впрочем, меня обидеть. – По-моему, вам всегда предоставляли слишком много свободы. Это не годится для молодой девушки. В дни моей молодости ни одной юной леди не позволили бы и от дома отъехать, даже если б она отправилась на прогулку в сопровождении брата или хотя бы грума.
Значит, в Хейверинг-холле уже известно о моих прогулках верхом в обществе Гарри, поняла я, но лишь неопределенно улыбнулась и промолчала.
– Вам придется несколько исправить свое поведение, когда вы начнете выезжать в свет, – продолжала леди Хейверинг. – Например, в Лондоне вам никак нельзя будет разъезжать по окрестностям на одном из гунтеров Гарри.
– Ну, конечно, я понимаю, – улыбнулась я. – Но, по-моему, мама вовсе не собирается везти меня в Лондон.
– Тогда мы могли бы взять вас с собой, – великодушно предложила она. – Если в будущем сезоне мы откроем Хейверинг-хаус для Селии и Гарри, то и вы сможете туда приехать. Мы представим вас ко двору. Я непременно поговорю с вашей мамой.
Я тепло поблагодарила ее, понимая, что для того, чтобы увезти меня из Широкого Дола, потребуется гораздо больше, чем обещанная возможность склониться в реверансе перед королем. Впрочем, до следующего сезона было еще далеко. Мне, возможно, и свойственно некоторое тщеславие, но я никогда настолько не потеряла бы голову, чтобы предпочесть лондонский высший свет возможности остаться дома. Я помнила, какой трепет восхищения вызвало мое появление в зале во время одной из чичестерских ассамблей – большего количества лести, чем в тот вечер, на меня в жизни не обрушивалось, и я была не настолько глупа, чтобы желать повторения чего-то подобного.
– Вы слышали, Беатрис, какие ужасные вести приходят из Кента о хлебных бунтах? – спросила леди Хейверинг, чтобы поддержать разговор и заодно сменить тему.
– Нет, я ничего об этом не слышала, – сказала я, внезапно насторожившись. – И что же там происходит?
– Я получила письмо от своей подруги из Танбридж-Уэлз[14], – сказала она. – Там вспыхнул мятеж, и бунтовщики даже жгли скирды в полях. Собирались даже вызывать из столицы милиционную армию, но мировому судье удалось арестовать нескольких самых главных бунтарей.
– Ну, значит, все как всегда, – сказала я. – В этом году тоже, кстати, хорошего урожая ждать не приходится. Цены уже поползли вверх. Бедняки живут впроголодь, и достаточно нескольких смутьянов, чтобы собрать толпу и устроить бунт, пока кто-нибудь из местных сквайров не опомнится и не продаст им по дешевке зерна. Такое почти каждый неурожайный год случается.
– Нет, пожалуй, на этот раз дела обстоят хуже, чем обычно, – возразила леди Хейверинг. – Я прекрасно знаю, что стоит оставить работников без присмотра, и от них только и жди какой-нибудь наглой выходки, но в данном случае происходящее в Кенте более всего похоже на заранее спланированный мятеж! Представляете, какой ужас? Погодите-ка, я сейчас найду, что она пишет.
Она вытащила из кармана письмо, и я приготовилась слушать фантастические сплетни перепуганной до полусмерти старухи о каких-то весьма далеких от меня событиях. Но когда леди Хейверинг начала читать, я стала прислушиваться все более внимательно, чувствуя, как у меня внутри прорастает зерно холодного страха.
– «Дорогая»… м-м-м… да, вот: «Надеюсь, у вас в графстве спокойно, а вот до нас доходят слухи о неких ужасных событиях не далее чем в двадцати милях от Танбридж-Уэлз. В этих беспорядках я виню мировых судей, которые были столь ленивы, что в прошлом спускали на тормозах истории с выступлениями обнаглевшей черни, и теперь этот сброд настолько осмелел, что полагает, будто имеет право во все совать нос.
Итак, некий мистер Вулер, вполне, с моей точки зрения, порядочный и честный торговец, заключил сделку по продаже всего своего зерна лондонским купцам, решив не молоть его на месте, как это было принято раньше. А чтобы еще более обезопасить себя от риска, ибо он вложил в это немалые средства, он договорился и с другими землевладельцами, чтобы те также продали свое зерно и отправили его на возках, принадлежащих этому мистеру Вулеру, в Лондон. Это было вполне разумное и деловое соглашение».
Я кивнула. Мне все было ясно. Этот мистер Вулер совместно со своими соседями создал целую торговую сеть и продавал свой урожай в Лондон, а не на местный рынок, поддерживая поистине грабительские цены. В итоге мистер Вулер, как и его соседи, получил весьма приличный доход. А вот его арендаторы и прочие бедняки лишились возможности купить на местном рынке зерно и были вынуждены ехать в другой город и пытаться на тамошнем рынке раздобыть необходимое им зерно, так что спрос на него, естественно, сразу возрос, а значит, и цены поднялись до небес, что было только на руку всяким мистерам Вулерам, хозяйничающим в нашем несправедливом мире. Ну а тем, кому вздутые цены оказались не по карману, пришлось обходиться вовсе без зерна. Те же, у кого не было возможности как-то прожить на одной картошке или за счет милосердия соседей, были обречены на голод.
А леди Хейверинг между тем продолжала читать:
– «Мистер Вулер, предвидя возможные проблемы с местными хулиганами, предпринял определенные меры по защите возков, следующих в Лондон. Обоз сопровождали пятеро крепких мужчин верхом на лошадях, вооруженные как ружьями, так и дубинками».
По-моему, этот мистер Вулер зря так сильно беспокоился. Впрочем, только он мог знать, сколько семей в деревне умрет от голода в результате его выгодной сделки и до какой степени будут разгневаны родители плачущих от голода детей.
– «Мистер Вулер был готов к неприятностям, но то, что случилось, превзошло все его ожидания», – продолжала леди Хейверинг. Я заметила, что Селия тихонько проскользнула в комнату, села и тоже стала слушать. – Когда повозки достигли наиболее затененного участка довольно узкой и извилистой дороги, ведущей в Лондон, проходившей через густой лес, мистер Вулер услышал протяжный негромкий свист и, к своему ужасу, увидел, как перед ним словно из-под земли выросли человек тридцать, вооруженных косами, топорами и дубинками. Дорога впереди оказалась перекрыта поваленным деревом, и почти сразу, стоило ему оглянуться назад, послышался треск, и там тоже поперек дороги упало дерево, отрезавшее ему путь к отступлению. И в эту минуту он услышал… нет, не голос, а жуткий нечеловеческий рев, исходивший, казалось, ниоткуда. Обладатель этого голоса велел мистеру Вулеру и сопровождавшим его людям бросить на землю оружие, спешиться и пешком возвращаться в деревню».
Я напряженно слушала. К нам все это, разумеется, не имело ни малейшего отношения – я никогда не заключила бы подобной сделки с лондонскими купцами, а мой отец и вовсе презирал подобную практику. В Широком Доле пшеницу никогда не продавали «на корню», когда она еще колосится в полях. И урожай всегда сперва поступал на местный рынок, чтобы бедняки могли выкупить свою жалкую долю, а затем уж купцы сражались за зерно на честном аукционе. И все же мне было немного не по себе, ибо любая атака на собственность пугает всех владельцев такой же собственности. Кроме того, о подобных вооруженных нападениях я никогда еще не слышала. Впрочем, я никогда не забывала и о том – и, полагаю, никто из тех, кто занимает в обществе достаточно высокое положение, об этом не забывает, – что мы живем за счет того, что владеем землей; мы одеваемся в шелка, спим на чистых простынях и живем в теплых и красивых домах, тогда как большинство людей вокруг нас прозябают в грязи и зачастую ложатся спать голодными. В радиусе двухсот миль от нашей усадьбы было от силы три семьи, имевшие примерно такой же доход, что и мы. И на нас работали сотни и тысячи бедняков, всецело от нас зависевших.
Так что мой страх при мысли, что бедняки способны организовать вооруженное нападение на кого-то из собственников, был вполне обоснован. И в то же время я втайне восхищалась теми людьми, которые восстали против этого, чересчур умного, мистера Вулера, пожелавшего забрать себе все то зерно, которое они своими руками вырастили на земле своего родного графства и раньше всегда могли купить по справедливой цене. Они пошли против закона, и если бы их поймали, то повесили бы. Но для местных жителей они стали бы тайными героями, если бы им удалось спасти деревню от голодной зимы; а если бы существовала такая вещь, как обычная, естественная справедливость, то никто не смог бы сказать против них ни одного дурного слова. Реакция Селии, как я и ожидала, оказалась вполне общепринятой.
– Ужасно, – только и сказала она.
А леди Хейверинг продолжила чтение:
– «Пока охранники колебались, посматривая на мистера Вулера и ожидая его решения, откуда-то вдруг послышался громкий голос: «Так ты и есть Вулер? Учти: если шевельнешься, ты труп!» И в то же мгновение прозвучал выстрел, и пуля сбила с головы мистера Вулера шляпу!» – Леди Хейверинг на минуту умолкла, желая убедиться, что на меня это описание произвело достаточно сильное впечатление, и, видимо, была вполне удовлетворена моим потрясенным видом. Она, впрочем, не знала, что нужны годы тренировки, чтобы стрелять с такой меткостью, и я за всю свою жизнь знала только одного человека, который умел так стрелять…
Перевернув страницу, леди Хейверинг снова стала читать:
– «Мистер Вулер быстро повернулся в ту сторону, откуда раздался выстрел, пытаясь высмотреть вожака этой ужасной банды, и увидел огромного черного коня, всадника в седле, а рядом с ним – двух черных собак. И этот всадник снова громко крикнул: «Ружье, Вулер, я уже перезарядил, так что решай скорей, иначе следующая пуля достанется тебе!» В общем, мистеру Вулеру пришлось подчиниться; он оставил и своего коня, и все свои возки с пшеницей и пешком пошел назад, в деревню. К тому времени, как зашевелились хозяева соседних поместий, а тревожные известия о столкновении в лесу достигли ушей мировых судей, повозки с зерном исчезли, как сквозь землю провалились, и нашли их лишь через четыре дня – совершенно пустыми».
– Боже мой, как все это страшно! – прошептала Селия.
Я промолчала. Я очень ясно представляла себе и эту дорогу в сумрачном лесу, и кольцо безмолвных вооруженных мужчин, ведущих себя уверенно и спокойно и подчиняющихся только приказам своего вожака. Значит, этот загадочный человек, разъезжающий на огромном жеребце, умеет так метко стрелять и с такой невероятной скоростью, прямо в седле, перезаряжать ружье, что в это невозможно поверить, и я бы никогда не поверила, если бы не знала Ральфа. Если бы собственными глазами не видела, что такое мастерство возможно, ибо Ральф неоднократно делал это в моем присутствии. Даже Гарри, обладая большим опытом в стрельбе и имея в своем распоряжении самое лучшее оружие, на такое способен не был. Но я сама видела, как Ральф, заставив своего коня стоять совершенно неподвижно, стрелял и перезаряжал свое ружье одной рукой так быстро, что я не успевала досчитать и до двадцати. Мне отчего-то очень не хотелось верить в то, что подобным мастерством мог овладеть и кто-то другой. И вместе с тем мой разум пугался простого логического вывода, который следовал из моего же собственного допущения.
– «Впоследствии мистер Вулер допросил множество людей и был порой весьма жесток, но никто из них так и не сказал ему ни слова, никто не захотел назвать ни имен участников этого злодейского нападения, ни имени вожака банды. По словам мистера Вулера, сам он так и не сумел хорошенько разглядеть этого человека и припоминает лишь, что лицо у него было прикрыто шарфом». – Леди Хейверинг вдруг умолкла и, подняв на меня глаза, спросила: – Вам нехорошо, моя дорогая?
– Нет, нет, – сказала я и только теперь заметила, что стиснула край подоконника пальцами, как тисками. С трудом разжав пальцы, я сказала, стараясь, чтобы мой голос звучал нормально: – Какая ужасная история! Словно дурной сон. А не заметил ли мистер Вулер… – я попыталась найти подходящие слова, – …не заметил ли он во внешности этого всадника чего-нибудь необычного, благодаря чему его легко было бы опознать?
– Очевидно, нет, – сказала леди Хейверинг. – Он предложил огромное вознаграждение тому, кто поможет поймать этого человека, но предателей не нашлось. И этот негодяй, похоже, останется безнаказанным. Я рада, что он в Кенте. Было бы просто ужасно, если бы он вдруг оказался где-то поблизости от Хейверинга… или от Широкого Дола!
Я хотела улыбнуться и кивнуть, но мне это не удалось. Казалось, я совершенно утратила способность управлять собственным лицом; зубы у меня стучали, как в лихорадке, и я снова так судорожно вцепилась в край подоконника, как утопающий из последних сил цепляется за борт судна. Тот безногий бунтовщик из Портсмута, о котором рассказывал мне братишка Селии, и этот бандит из Кента, который ездит на черном коне и умеет так метко стрелять и с такой невероятной скоростью перезаряжать оружие – вряд ли один и тот же человек. Просто глупо, что я так испугалась! И потом, разве можно до такой степени терять власть над собой в присутствии леди Хейверинг и Селии, хоть она и полна сочувствия? Я снова попыталась заговорить нормальным голосом, но изо рта у меня вырывалось лишь какое-то хриплое карканье; казалось, мои голосовые связки застыли намертво, когда я попыталась удержать вопль ужаса, рвавшийся наружу. Похоже, Ральф из моих кошмарных снов начинал обретать человеческое обличье – и не одно, а множество! Он мог появиться и в Портсмуте, и в Кенте, и где угодно. Всегда во главе очередного бунта бедняков, всегда на черном коне, всегда стремясь подобраться как можно ближе ко мне. И если даже я упаду в обморок, то все равно, наверное, постараюсь держать глаза открытыми – на тот случай, если обморочная тьма позволит Ральфу незаметно ко мне подобраться. И он явится на огромном черном коне, в сопровождении тридцати голодных, оборванных, разгневанных мужчин. И ноги его будут отрублены по колено…
Я не помню, как попала домой. Потом выяснилось, что меня привезли назад в карете Хейверингов, и сама леди Хейверинг поддерживала меня, но я ничего этого не помню. Причем я отнюдь не все время пребывала в бессознательном состоянии, хотя дважды действительно падала в обморок, а остальное время была во власти такого всепоглощающего страха, что не могла ни говорить, ни двигаться. Стоило мне закрыть глаза, и мое охваченное паникой воображение рисовало мне Ральфа, который, как сломанная кукла, свисал из острых челюстей капкана; я снова слышала хруст сломанных костей и страшный хриплый вопль и в ужасе открывала глаза, надеясь, что страшная картина исчезнет, и мне тут же чудился за окном всадник на черном коне, и это, конечно же, был Ральф, явившийся за мною…
Как только меня привезли домой, тут же был приглашен наш новый молодой врач, тот самый доктор МакЭндрю, большой умница, репутация которого без труда пережила устроенную мной провокацию у старой миссис Ходгет. Сперва я с трудом различала его лицо, я почти не слышала и не понимала его кратких и очень точных вопросов, и вскоре он оставил меня в покое. А потом я почувствовала, как его рука обнимает меня за плечи и он подносит к моим губам стакан с каким-то горьким питьем. Это была настойка опия, скользнувшая в мое горло, точно эликсир покоя.
Сны – хвала Господу и этой настойке – мне после этого уже не снились. Я спала как дитя, и ни одна черная тень меня не преследовала. Я проспала весь день и всю ночь, а наутро, проснувшись, обнаружила у своей постели доктора МакЭндрю. Но не улыбнулась ему и даже не посмотрела на него. Я лишь сказала тихим голосом:
– Пожалуйста, дайте мне еще поспать.
– Нет, – возразил он, – лучше послушайте, что я вам скажу: вам теперь необходимо повернуться лицом к тому, что вас так пугает. А выспались вы вполне достаточно.
И я все же посмотрела на него, а потом на мою горничную, стоявшую рядом, и на маму в изножии постели. Мне хотелось знать, не сказала ли я во сне чего-нибудь лишнего, опасного для себя, одурманенная лекарственным зельем. А потом я вдруг поняла, что мне это почти безразлично. Глаза молодого врача смотрели на меня с сочувствием и неподдельным интересом, но совсем не так, как должен был бы смотреть человек, только что услышавший тайну, которая пахнет виселицей. И я успокоилась, решив, что он ничего про меня не знает.
– Наверное, вы правы, – сказала я. – Но мне-то лучше судить, что для меня хорошо. Прошу вас, дайте мне снова это лекарство и позвольте как следует выспаться.
Его серо-голубые, очень светлые глаза ласково и одновременно оценивающе смотрели на меня.
– Хорошо, – проявляя врачебную терпимость, согласился он. – Возможно, вы действительно лучше знаете особенности своего организма. Вы можете прямо сейчас принять эту настойку и сразу же заснете. А завтра утром, если вы проспите до самого утра, я к вам снова загляну.
Я молча выпила лекарство, не отвечая больше никому – ни маме, ни горничной, – и стала ждать, когда мной овладеет благословенное забвение. Ибо тот страх уже начинал снова ко мне подкрадываться, и все мое существо, находившееся на грани нервного срыва, чувствовало: Ральф все ближе и ближе к Широкому Долу, он скачет сюда на своем черном коне, и спасти меня может только глубокий, без сновидений сон. Наконец, благодаря лекарству, по телу моему разлилось знакомое чудесное тепло, на меня снизошел мирный, ласковый сон, я расслабленно, с какой-то детской благодарностью улыбнулась врачу, чье лицо уже расплывалось у меня перед глазами. Он был не так уж и хорош собой, и все же было нечто такое в его широком, почти квадратном лице, в его голубых глазах и светлых, цвета песка, волосах, что с ним я чувствовала себя в полной безопасности. Даже услышав сквозь сон его вопрос, обращенный к моей матери: «Как вы думаете, что могло спровоцировать этот нервный срыв?», я ничуть не испугалась.
К тому времени, как я проснулась, ответ на этот вопрос был уже получен, и мне не было нужды выдумывать что-то насчет моих разгулявшихся нервов. Мама была уверена, что я отчасти унаследовала ее болезненную реакцию на кошачью шерсть, а я все время просидела на той подушке, где любил спать избалованный персидский кот Селии – храни, Господь, это благословенное животное. Объяснение звучало настолько убедительно, что никто не стал возражать, хотя у доктора МакЭндрю все же явно имелись кое-какие сомнения. Но моя мать и леди Хейверинг уже все решили, и он спорить не стал. Так что, когда я, наконец, на третий день сошла вниз, никто мне никаких неприятных вопросов не задавал, и все – Гарри, мама и Селия, приехавшая к нам на весь день, – тут же бросились ко мне и стали вокруг меня суетиться, стараясь исполнить любую мою просьбу. Никто и не подумал копнуть чуть глубже принятого единодушно объяснения насчет кошачьей шерсти. Роковое письмо сплетницы из Танбридж-Уэлз было уже всеми забыто. Всеми, кроме меня.
Разумеется, я не могла его забыть, и в течение последующих дней оно меня прямо-таки преследовало. Я помнила почти каждое слово из этого письма. Тенистая дорога в густом лесу; засада, блестяще устроенная с помощью поваленного дерева; возы с зерном и люди, медленно возникающие в зарослях папоротника и по свистку окружающие обоз. Но более всего меня мучил призрак огромного черного коня, на котором ездил предводитель этих разбойников, и два черных пса, следовавшие за своим хозяином по пятам.
Мне не нужно было перечитывать это письмо – его текст и так постоянно звучал у меня в ушах. Я вспоминала его каждый вечер, ложась спать, и каждое утро, стоило мне проснуться и открыть глаза.
Проходили дни, но ни одно слово так и не стерлось из моей памяти. И теперь я все сильней надеялась на то, что этих бандитов все же поймают и тогда уже палач завершит ту давнюю историю с Ральфом, которую мне самой завершить так и не удалось.
Столь крупное ограбление должно было пробудить ответную реакцию властей. Магистраты должны были объявить вожака банды в розыск и непременно поймать его. Ничего, думала я, достаточно объявить большое вознаграждение, и кто-нибудь из его сторонников не выдержит; а длительные допросы и тайные пытки сломят волю тех, кто будет упорствовать. И вскоре он сам предстанет перед судом, ему вынесут смертный приговор и повесят. И снова началась изнурительная игра в ожидание, и каждый день я жадно просматривала газеты, ища в них новостей.
Ничего. Лишь однажды появилась крошечная заметка о том, что мистер Вулер увеличил размер обещанного вознаграждения и расследование продолжается. Потом сообщили, что полдюжины крестьян, подозреваемых в причастности к этой банде, привезли в Лондон, а еще трое подозреваемых были повешены. Все это время шли приготовления к свадьбе, и я старалась внешне оставаться спокойной, но мои старые страхи – боязнь темноты, топота копыт, звона цепей, лязга стальной пружины – вновь ко мне вернулись. Впрочем, теперь у меня имелось оружие против ночных кошмаров – спасибо нашему внимательному и осторожному доктору МакЭндрю. В темной глубине своего шкафа я прятала маленькую бутылочку с настойкой опия, и каждую ночь перед сном две или три чудесные капельки проскальзывали в мое горло, даря мне золотистую дымку покоя.
Собственно, первую бутылочку с настойкой дал мне сам доктор МакЭндрю, наш замечательный, умный, проницательный, светловолосый и светлобровый доктор. Но, увы, волшебное средство скоро кончилось, тогда как потребности мои возросли, и я попросила его дать мне вторую бутылочку. Он с некоторой тревогой на меня глянул, неодобрительно поморщился и сказал со своим мягким северным акцентом:
– Нет, мисс Лейси, на это я никак не могу согласиться. Возможно, теперь среди молодых дам стало даже модным каждую ночь принимать нечто подобное, но и вы, и все прочие молодые дамы забываете, что это отнюдь не стакан горячего молока с медом, выпитый на ночь, а лекарство, причем лекарство, в основе которого опасный наркотик. Это сильнодействующее средство, мисс Лейси; и к нему может возникнуть привыкание. Вам ведь не придет в голову каждый вечер в течение недели выпивать стакан бренди? Однако вы готовы выпить за неделю целый пузырек настойки опия. Вы должны понять: я дал его вам в момент сильного нервного истощения, дабы вас успокоить. Это всего лишь временное средство. Его нельзя принимать постоянно. Вы обладаете сильным и прямым характером, мисс Лейси, и, на мой взгляд, ваша нервная система вполне восстановилась; теперь вы сами должны найти способ, чтобы разрешить ваши сомнения и опасения или попросту их уничтожить. А бежать от решения этой проблемы с помощью опия не годится.
Он оказался даже слишком проницательным для такого молодого человека, и я, почувствовав, что это опасно, поспешила закрыть данную тему. Впрочем, точка зрения доктора МакЭндрю на применение настойки опия не имела для меня никакого значения. Нужен был куда более сильный человек, чем Джон МакЭндрю, чтобы заставить меня свернуть с намеченного пути, и я за всю свою жизнь знала только двоих таких людей: одного принесли домой мертвым на носилках, и конь его, прихрамывая, шел сзади, а второго я сама бросила в темноте, сочтя мертвым. И пусть лучше никто не пытается снова мне перечить или пытаться управлять мною!
Но доктор МакЭндрю был не из тех, кто вежливо прекращает разговор на ту или иную тему, если сам он еще не до конца высказался. Он очень внимательно и очень ласково посмотрел на меня и сказал:
– Мисс Лейси, я помог вам избавиться от внезапного недуга, но, возможно, вам кажется, что я слишком молод и не обладаю должным врачебным опытом, чтобы иметь право о чем-то судить. И все же я очень прошу вас: доверьтесь мне, послушайтесь моего совета.
Я так уставилась на него, что его бледное лицо северянина вспыхнуло ярким румянцем; у него даже уши порозовели от смущения, но бледные голубые глаза смотрели спокойно, с искренней уверенностью.
– Вас по-прежнему что-то гнетет, – неторопливо продолжал он. – Возможно, вы это просто себе вообразили, а может быть, это нечто вполне реальное, но что бы это ни было, я настоятельно прошу вас повернуться к этой опасности лицом и постараться преодолеть ее. Что бы вам ни угрожало, не забывайте, что у вас есть любящая семья, а также, уверен, немало друзей. Вам не нужно страдать в одиночку, не нужно ничего бояться. Скажите, если я в чем-то не прав, упрекните, если я излишне настойчив, но я уверен, что правильно поставил диагноз и назначил лечение. Я уверен, что вы по-прежнему чего-то боитесь, и вам никогда не избавиться от этого страха, пока вы не повернетесь к нему лицом и не уничтожите его.
Хотя день был теплый и наша гостиная была прямо-таки залита солнечным светом, меня вдруг охватил озноб. Я даже шаль на плечи накинула. Повернуться лицом к моему страху означало повернуться лицом к тому жуткому образу – Ральф верхом на огромном черном коне – и увидеть, как меняется выражение лица моего бывшего любовника от чувственной улыбки самоуверенного выскочки до гримасы попрошайки, изгоя, ни для чего не годного калеки. Нет! Я, как всегда, мысленно отшатнулась от подобной идеи.
– Вы ошибаетесь, доктор МакЭндрю, – негромко сказала я, потупив свои раскосые, эльфийские глаза, чтобы он не заметил, как они потемнели от страха. – Благодарю вас за доброту и заботу, но я ничего не боюсь. Просто я до сих пор оплакиваю своего любимого отца и еще не совсем пришла в себя от пережитого тогда потрясения.
Лицо молодого врача вновь вспыхнуло румянцем. Он подтянул к себе свой саквояж и открыл его.
– Я даю вам это, хотя считаю, что поступаю неправильно, – сказал он, и в ладони у меня оказался маленький пузырек настойки опия. – Это поможет вам спать спокойно, но вы непременно должны соблюдать умеренность. Не более двух капель на ночь и ни одной в течение дня. Надеюсь, так вам будет легче пережить сложный период, связанный с женитьбой вашего брата и вашей подготовкой к путешествию. Как только вы покинете Англию, вам следует отказаться от приема этого лекарства.
– Вдали отсюда оно мне и не понадобится, – заверила я его.
– Вот как? – сказал он, как-то слишком быстро уловив суть проблемы, чем снова нарушил мое спокойствие. – Значит, ваши тревоги, точно призраки, не могут пересекать водные преграды?
Мне вновь пришлось опустить глаза. Этого молодого врача явно хорошо учили: он мгновенно все подмечал и быстро делал соответствующие выводы.
– Просто там будет много нового – и люди, и окрестности, – вот мои прежние тревоги и забудутся, – спокойно пояснила я.
– Ну, хорошо. Больше никаких вопросов я вам задавать не стану, – сказал он и встал, собираясь уходить.
Я протянула ему руку, и он, к моему удивлению, не пожал ее, а наклонился и поцеловал мои пальцы нежным медлительным поцелуем, теплый след которого я чувствовала еще некоторое время. А он, задержав мою руку в своих руках, мягко сказал:
– Я бы хотел быть вам другом, мисс Лейси. Я, разумеется, сохраню ваши тайны – ведь я ваш лечащий врач, – но для меня гораздо важнее была бы возможность говорить с вами обо всем, как с другом. – И он, коротко мне поклонившись, вышел из комнаты.
Я так и рухнула в кресло. Я была удивлена до глубины души и чувствовала, что настроение мое улучшилось всего лишь благодаря звукам теплого, ласкового голоса доктора МакЭндрю. Я встала и посмотрелась в зеркало, висевшее над камином. Когда он поцеловал мне руку, на щеках у меня вновь вспыхнул румянец, в сочетании с которым темные тени под глазами придавали моему облику некую пронзительную хрупкость. Глаза мои ярко горели, в них плясала радость. Нет, меня к нему не тянуло, он был мне совсем не нужен – ведь у него не было Широкого Дола, и он ничем не мог помочь мне его удержать. Но какой женщине не понравится, когда мужчина так на нее смотрит? Я улыбнулась своему отражению в зеркале, охваченная самым элементарным тщеславием; я была счастлива, что родилась столь привлекательной. И когда через минуту в комнату вошла моя мать, я обернулась и улыбнулась ей. Она тоже просияла, довольная тем, что снова видит меня здоровой, и спросила, усаживаясь, расправляя юбки и открывая шкатулку для шитья:
– Это был экипаж доктора МакЭндрю?
– Да.
– Тебе следовало позвать меня, Беатрис, – мягко упрекнула она. – Тебе, право же, не следует встречаться с нашим молодым доктором наедине.
– Он заехал лишь для того, чтобы спросить, как я себя чувствую, – с улыбкой ответила я. – Мне и в голову не пришло послать за вами. Он как раз проезжал мимо, направляясь в Спрингхэмз; там у них кто-то из младших мальчиков заболел.
Мать, сосредоточенно поджав губы, вдевала нитку в иголку и молча кивнула, явно не убежденная.
– И все-таки мне не нравится, что он, врач, заезжает к нам просто так, как к своим знакомым, – сказала она. – В дни моей молодости аптекари приезжали, только если за ними посылали, да и входили они в дом с черного хода.
– Ах, мама! – воскликнула я. – Доктора МакЭндрю вряд ли можно назвать аптекарем! Он – врач, получивший образование в университете Эдинбурга. Нам действительно очень повезло, что он решил поселиться здесь, неподалеку от нас. Теперь не нужно будет каждый раз посылать за врачом в Лондон, если кто-то плохо себя почувствует. Это может показаться мелочью, но на самом деле это весьма существенное преимущество. Кроме того, он настоящий джентльмен, так что с ним гораздо проще беседовать на любую тему.
– Ну, хорошо, – примирительным тоном сказала моя мать. – Все это новые веяния, полагаю. Но мне это все же представляется довольно странным. Но я рада, что он был под рукой и позаботился о тебе, дорогая. – Она помолчала, сделала несколько стежков и заявила: – Но я даже слышать не желаю о том, чтобы он помогал Селии, когда придет ее время!
– Боже мой, мама! – Я не сумела скрыть раздражения. – До свадьбы еще две недели, а вы уже заботитесь об accoucheuse![15]
– Беатрис! – Мать была явно потрясена, но глаза ее улыбались. – Раз ты так свободно произносишь подобные слова, значит, мне придется подумать о твоем замужестве.
– Ох уж нет, мама! Я совсем не хочу замуж! – рассмеялась я. – Мне невыносима мысль о том, чтобы покинуть Широкий Дол, и разговорами о браке вы меня с толку не собьете. Я хочу одного: всегда жить здесь и быть сестрой Селии и тетушкой всем ее прелестным деткам, маленьким Селиям и Гарри.
– Все девушки так говорят, пока их замуж не выдадут, – спокойно возразила моя мать. – Уверяю тебя, ты будешь рада уехать, когда увидишь, какое чудесное будущее перед тобой открывается.
Я улыбнулась. Это был поистине бесконечный разговор, так что я села рядом с мамой и тоже придвинула к себе рабочую шкатулку. Перед нами стояла весьма респектабельная задача – подшить галстуки Гарри. В последнее время мое умение шить несколько улучшилось, и я, старательно делая аккуратные стежки, думала о том, что, возможно, именно этот галстук Гарри наденет в день свадьбы, и я – а вовсе не маленькая застенчивая Селия! – в первую брачную ночь развяжу на нем этот галстук.
– Гарри собирается сделать тебе сюрприз после вашего возвращения из свадебного путешествия, – сказала мама, прерывая мои мечты. – Я говорю об этом только потому, что он запланировал огромные работы, хотя время для этого совершенно неподходящее.
Я удивленно посмотрела на нее, ожидая разъяснений.
– Гарри хочет не просто обновить некоторые комнаты в западном крыле, но полностью все там переделать, чтобы это крыло было исключительно в твоем распоряжении, – сказала она. Ее голос звучал спокойно, и все же мне показалось, что я улавливаю в нем тревожные нотки. – Я уверена, ты скажешь, что тебе эта идея совсем не нравится, не так ли?
Она ждала, что я тут же выражу свое согласие с ней, но я молчала.
– Ты знала о его намерениях, Беатрис?
– Да. Гарри еще некоторое время назад говорил мне об этом, – сказала я. – И мне показалось, что это неплохая идея. Но я понятия не имела, что он уже начал воплощать ее в жизнь.
– Значит, вы оба строили какие-то планы и ни один из вас со мной не посоветовался? – Мама явно начинала нервничать, но мне было важно, чтобы наша беседа продолжалась в спокойном русле, и я сказала:
– Мамочка, у меня тот наш разговор совершенно вылетел из головы! Гарри считал, что мне бы неплохо иметь несколько комнат в своем личном распоряжении. Как бы сильно я ни любила Селию, нам с ней все же, видимо, нужны отдельные гостиные. В конце концов, мама, у вас же есть наверху и гостиная, и гардеробная, и спальня, а у меня только одна комната.
Но мать, как всегда, заботила главным образом внешняя сторона дела.
– Это будет выглядеть так странно, – недовольным тоном сказала она. – И в высшей степени не-обычно. Девушка твоего возраста не должна даже думать о личных апартаментах. Да и зачем тебе подобное уединение?
– Я понимаю, мама, – мягко сказала я. – Но согласитесь: вся наша ситуация достаточно странная. Гарри действительно нуждается в моей помощи, поскольку плохо разбирается в хозяйстве, и я, как вы знаете, веду все счета и непосредственно участвую в управлении поместьем. Пройдет еще несколько лет, прежде чем Гарри сможет управлять им в одиночку, а пока ему непременно будет нужен еще кто-то, кто будет проверять цифры и соизмерять потребности и доходы. Да, подобная ответственность весьма не-обычна для молодой девушки, но ведь я с этим справляюсь, и поскольку ответственность за поместье по-прежнему на мне, я нуждаюсь в определенном пространстве, где я могла бы спокойно работать, не мешая ни тебе, ни Селии. В любом случае переделка будет весьма незначительной. Маленький кабинет, гардеробная там, где раньше размещались буфетная и комната для завтрака. Осмелюсь сказать, этих перемен в доме просто никто не заметит.
Мать снова склонила голову над шитьем.
– Я, конечно, ничего не понимаю в управлении поместьем, – сказала она, – но я полагала, что Гарри вполне способен самостоятельно со всем справиться. Все-таки он хозяин Широкого Дола, и ему следует научиться управлять поместьем без помощи сестры.
Я понимала, что победа за мной, и это придало мне великодушия. Я накрыла ее руки своими руками и ласково, чуть поддразнивая, спросила:
– А почему ему это следует? Ведь он дня прожить не может без своей очаровательной мамочки. И я, его сестрица, ему тоже нужна, это совершенно очевидно. Вы его испортили, мама, и теперь Селия получит в качестве супруга какого-то султана, которому для нормальной жизни требуется в доме настоящий гарем!
Мама улыбнулась, из глаз ее исчезло тревожное выражение, и она сказала:
– Ну, хорошо. Раз вы все трое – ты, Гарри и Селия – так хотите, то я возражать не стану. Но, по-моему, подобное переустройство – пустая затея; ты все равно выйдешь замуж и уедешь далеко отсюда, может даже в Ирландию!
– Ох, только не в Ирландию! Я выйду за какого-нибудь князя-итальянца! – пошутила я с огромным облегчением и тем самым завершила нашу дискуссию. – Мне подойдет только такой брак: хочу вернуться домой княгиней! Представляете, мама, какие возможности тогда откроются у меня в Париже и в Италии!






