Широкий Дол Грегори Филиппа
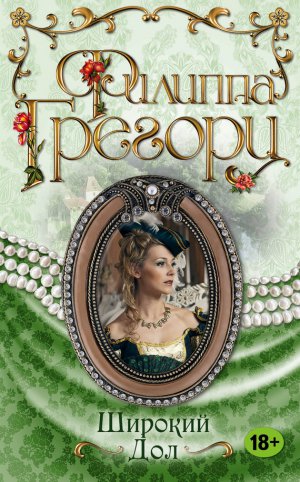
– Беатрис, родная моя, здравствуй! – И я увидела, что тот страх и те невысказанные подозрения совершенно исчезли из ее глаз. Моя мать была слишком слаба и слишком труслива, чтобы принять нечто столь неприятное; она всегда гнала от себя тайные ужасы жизни. – Добро пожаловать домой! – И она сжала мое плодовитое тело в объятиях и поцеловала меня. – Я так рада снова тебя видеть! А выглядишь ты просто чудесно.
Вскоре к нам присоединился Гарри; мы с ним погрузили ослабевшую дуреху-кормилицу в карету и стали смотреть, как наш багаж и слуг размещают во втором экипаже.
– Как хорошо ты со всем справилась, Беатрис, – с благодарностью сказал Гарри. – Если бы я знал, когда уезжал от вас… Я бы, конечно, и вовсе не решился уехать, если б не был уверен, что ты в любом случае сумеешь со всем справиться.
Он взял мою руку и поцеловал ее, но это был холодный поцелуй благодарного брата, а не та нежная ласка, которую он подарил Селии. Я внимательно на него посмотрела, пытаясь понять, почему его отношение ко мне так переменилось.
– Ты же знаешь, Гарри, я готова сделать все что угодно, лишь бы доставить тебе удовольствие, – сказала я, и это прозвучало весьма двусмысленно, поскольку страсть к нему во мне еще не остыла.
– О да, я знаю. – До чего же спокойным тоном он это сказал! – Но для любого мужчины забота о его ребенке, о его родном малыше – это нечто особенное и самое ценное.
И тут я улыбнулась. Мне все стало ясно. Гарри, как и Селия, просто помешан на детях. Для них это будет весьма сложный период, но в итоге они это «помешательство» перерастут. Кроме того, я очень сомневалась, что у Гарри страстная любовь к дочке продлится существенно дольше нашей поездки в карете, где он будет находиться вместе с верещащим голодным младенцем, уставшим от путешествия, не-опытной матерью и кормилицей-иностранкой.
Но я ошиблась.
Во-первых, путь домой занял невероятно много времени. Гарри и Селия в своей неуемной заботе о ребенке сочли, что утомленной долгим путешествием девочке будет более полезна прогулка на свежем воздухе, и в итоге карета несколько часов со скоростью пешехода тряслась по дороге за ними следом, а я одна быстрым шагом ушла вперед. Мама, совершенно невозмутимая, продолжала сидеть в карете.
Несмотря на то что Гарри начинал все сильней раздражать меня, я совершенно перестала на кого бы то ни было сердиться, шагая по дорогам Широкого Дола, где с огромных каштанов на голову мне сыпались алые и белые лепестки, опадавшие с больших, похожих на свечи цветов. Трава вокруг росла такая зеленая, такая сверкающая, что заставляла мечтать о дожде, создавшем столь удивительный оттенок. Каждый куст в изгороди сиял свежей зеленью, у каждого дерева северная сторона ствола поросла влажным темно-зеленым мхом или серым плотным лишайником. Земля, пропитанная вешними водами, почти напоминала болото. Повсюду зеленые изгороди покрывались цветами – бледно-розовыми шиповника и бело-желтыми смородины. Возле тех коттеджей, что побогаче, на грядках зеленела овощная ботва, а садовые дорожки были окаймлены ранними цветами, отчего даже самые маленькие домики выглядели веселыми и нарядными. И везде – на траве, вдоль дорожек, на зеленых изгородях и даже на стенах домов – были цветы; они вылезали из каждой трещины и расселины и вызывали в душе такую радость, что ей невозможно было сопротивляться.
Да, нам с Гарри нужно было о многом поговорить. Ни один мужчина не мог подойти к другой женщине, сделав вид, что не замечает меня, и потом не пожалеть об этом! Однако в течение нашего долгого утомительного пути домой я поняла – и это чувство не покидало меня потом до конца лета, – что важнее всего то, что я вернулась домой, в Широкий Дол, а Гарри, как наименее важная причина моего возвращения, может и подождать, пока я не встречусь со своей землей.
Я чувствовала, что действительно вернулась домой! Клянусь, я не пропустила ни одного дома, я стучалась в каждую дверь, и она тут же распахивалась настежь, и я с улыбкой принимала поднесенную мне чашку молока или эля. Не было ни одной семьи, где я не спросила бы о детях, не поговорила бы – прежде всего с мужчинами, конечно, – о доходах. Я не прошла мимо ни одного стога сена, ни одного распаханного поля с влажной плодородной землей и молодыми всходами. Даже чайки, кружившие над полями, наверняка замечали меньше меня. Теперь каждое утро моя лошадь ждала меня у крыльца, и если Гарри приходилось вставать рано из-за проснувшегося младенца, то сама я поднималась ни свет ни заря и уезжала из дома, чтобы бродить, бродить по всей округе, точно курица-несушка, думающая, где лучше отложить яйцо.
Я по-прежнему очень любила эту землю – и теперь, пожалуй, бесконечно сильнее, побывав в других краях, повидав страдающие от нехватки влаги поля Франции и растущие на этих полях бесконечные ряды уродливых виноградных лоз. Я с любовью и наслаждением осматривала каждый акр нашей легкой, плодородной почвы – и довольно сложные для возделывания поля, расположенные на склонах холмов, и заросшие густой травой, нераспаханные низины. Каждый день я верхом объезжала все поместье, пока не обшарила каждый его уголок, как сипуха во время охоты, пока заново не отметила все его границы, словно накануне молебственных дней[20].
Мама, конечно, была этим недовольна; ей не нравилось, что я повсюду езжу одна, даже без грума. Но я обрела неожиданную поддержку в лице нашей счастливой пары – Гарри и Селии.
– Да пусть она ездит, мама! – весело воскликнул Гарри. – Наша Беатрис просто объезжает границы своих владений, ведь ее так долго здесь не было. Пусть ездит. Уверен, ничего плохого с ней не случится.
– Действительно, – нежным голоском поддержала его Селия. – Беатрис заслуживает отдыха и каких-то развлечений после всего того, что она сделала.
И оба улыбнулись мне – глупыми нежными улыбками любящих родителей, воркующих над своим чадом. Я, разумеется, тоже благодарно им улыбнулась и тут же улетучилась из дома. Каждый шаг по знакомым тропинкам, каждое знакомое дерево в лесу давали мне ощущение того, что поместье снова прочно в моих руках, и я, не зная ни дня отдыха, продолжала его обследовать.
Арендаторы и жители деревни приветствовали мое возвращение так, словно я была пропавшим принцем Стюартом[21]. Все эти люди вполне нормально уживались с Гарри, понимая, что он хозяин поместья, но деловые вопросы предпочитали решать со мной; кроме того, я всегда знала, хотя никто мне специально об этом не рассказывал, кто на ком женат, кто собирает приданое, а кто и вовсе не намерен жениться, пока не выплатит долг. Со мной было гораздо легче разговаривать, потому что мне почти ничего не нужно было объяснять, тогда как Гарри со своей неуклюжей благожелательностью часто смущал их своими вопросами, хотя в некоторых случаях ему было бы лучше помолчать, и своими предложениями помочь, которые из его уст воспринимались как благотворительность.
Крестьяне, застенчиво ухмыляясь, рассказывали мне, что старый Джейкоб Купер заново покрыл тростником крышу своего коттеджа, и я без слов понимала, что тростник он наверняка нарезал на берегу нашей Фенни и ни гроша за это не заплатил. А когда я услышала, что год выдался на редкость неудачный и для фазанов, и для зайцев, и даже для кроликов, я опять же без слов поняла, что они, воспользовавшись моим отсутствием, и силки в нашем лесу ставили, и, возможно, даже с собаками там охотились. Я улыбалась, но довольно мрачно. Гарри никогда бы ничего подобного не заметил, потому что никогда не считал крестьян такими же людьми, как он сам. Он замечал, как ему кто-то поклонился, теребя свисающий на лоб чуб, зато никогда не замечал на лице своего «подданного» ироничной усмешки. Я же замечала и поклон, и усмешку, и они это прекрасно знали. Им также хорошо было известно, что если в моих глазах сверкают искры – это предупреждение каждому: не переходить определенной черты. Короче говоря, всем было ясно, кто в каком положении тут находится. Как было ясно и то, что я снова дома и снова взяла в свои руки управление и поместьем, и людьми, и каждым зеленеющим ростком. И мне казалось – я чувствовала это во время каждой из моих долгих ежедневных поездок по поместью, – что и людям, и земле, и даже зеленым росткам в полях стало гораздо лучше после того, как я сюда вернулась.
Съездила я и на берег Фенни, чтобы посмотреть на бывший заливной луг, превратившийся в болото, где в развалинах старой мельницы теперь цвел желтый аир. Моя лошадь проваливалась в воду по колено, когда я подъехала к останкам того строения, где одна юная девушка некогда лежала в объятиях своего столь же юного дружка и говорила с ним о любви. Было ясно, что никогда уж больше старая мельница не будет служить пристанищем для влюбленных, и мне казалось, что все это происходило очень давно и вовсе не со мной, а может, просто приснилось мне. Разве я могла быть той, кого Ральф так любил, с кем предавался страсти, катаясь по земле? Той, кому он мог приказывать? Той, с кем он строил заговор, ради кого рисковал собственной жизнью? Та Беатрис была прелестной девочкой. А я теперь стала взрослой женщиной, которая не боится ничего – ни прошлого, ни будущего. И я без особых эмоций смотрела на разрушенный амбар и на бывший заливной луг и была даже рада, что никакой особой боли не чувствую. В том уголке моей души, где раньше прятались сожаления и страх, теперь ощущалась лишь некая легкая отстраненность. Если Ральф выжил – даже если он выжил, даже если он возглавил банду мятежников, – сейчас он далеко отсюда. И наверняка почти забыл те наши чудесные полудни среди холмов и на старой мельнице, как все это теперь почти забыла и я.
Я повернула лошадь в сторону дома и рысцой поехала через пронизанный солнцем лес. Прошлое осталось далеко позади, а река Фенни продолжала течь и нести свои воды к морю. И мне теперь следовало хорошенько обдумать свое будущее.
Глава десятая
Начала я с выделенного мне западного крыла дома. Все работы строители как раз завершили, и я могла переселяться туда. На чердаке у нас стояла очаровательная старая мебель, немного, впрочем, тяжеловатая; ее сослали туда из комнаты Гарри перед его возвращением из школы, когда маме вздумалось полностью обновить у него обстановку, создав нечто вроде пагоды в псевдокитайском стиле. Я велела снести эту мебель вниз и заново отполировать, и вскоре она засверкала глубоким блеском якобитского[22] ореха. Мебель казалась узловатой из-за огромного количества резьбы («Она такая безобразная!» – мягко изумилась Селия), и каждый предмет был таким тяжелым, что слуги тащили его вшестером, обливаясь потом; но это была мебель моего детства, и я находила, что без такой мебели комната кажется какой-то неосновательной, иллюзорной. Огромную кровать с четырьмя резными столбиками, толстыми, как тополиные стволы, и резной «крышей» я тоже велела снести вниз и поставить в моей новой спальне.
Теперь окна моих комнат находились с той стороны дома, откуда был хорошо виден наш сад и розарий, а также выгон и лес, за которым вздымались округлые волны холмов. У окна я поставила старинный резной сундук, а в соседней гардеробной – огромный тяжелый пресс для платьев.
Как только помещение на чердаке освободили от громоздкой старой мебели, я, рыская там, нашла немало полезных вещей, ранее принадлежавших моему отцу. Как это обычно и бывает, слуги свалили все это в общую кучу: седла, хлысты, рединготы, кнутовища и плети. Отец мой, шорник-любитель, в свободное время частенько занимался изготовлением конской упряжи, так что после него остались и верстак для подобной работы, и деревянная лошадь-манекен. И я подыскала для этой лошади подходящее местечко в небольшой комнатке на самом верху, где она теперь и стояла, всеми, кроме меня, забытая. Какой-то каприз, а может, просто уважение к покойному отцу не позволили мне выбросить ни лошадь, ни те нелепые седла и кнуты, которые он пытался довести до ума. Мало того, я поставила верстак и лошадь посреди комнаты и сама принялась учиться тому мастерству, которое так легко ему удавалось. Я проводила там долгие часы, аккуратно прошивая кожу крученой нитью, и на ладонях моих краснели царапины от толстой иглы, но душа моя, как ни странно, обретала полный покой.
Внизу я нашла старый отцовский стол, за которым он принимал арендную плату; этот стол был, по-моему, таким же огромным и древним, как знаменитый круглый стол короля Артура. Его можно было вращать, поворачивая к себе тем или иным ящичком, снабженным табличкой с определенной буквой алфавита; здесь хранились документы арендаторов. У стола я поставила большое резное кресло, в котором обычно сидел сквайр, а рядом поместила сундук для денег, куда каждый месяц или квартал складывала полученную ренту и откуда каждую неделю, а то и каждый день, выплачивала людям жалованье. Теперь это был мой рабочий кабинет, самое сердце деловой и финансовой активности Широкого Дола; ключи от кабинета я всегда держала при себе. Мне привезли из Чичестера мольберт, и я заказала художнику детальную масштабную карту нашего поместья, чтобы, наконец, мне были ясны и четко оформлены все его границы и не нужно было без конца о них спорить. Я также похитила из библиотеки старый письменный стол отца – тот самый, с разными отделениями, ящиками и двумя тайниками, – и поставила его в кабинете у окна. Теперь, работая, я могла порой оторваться от счетов и посмотреть на кусты роз, на выгон, на зеленый лес, на солнце, которое садится за холмы, улыбаясь хлебным полям и благополучию Широкого Дола.
Меньшую из нижних комнат западного крыла я оказалась не в силах спасти от маниакальной любви мамы к пастельным тонам и золоту, и там получилась «в высшей степени приличная» дамская гостиная. Мама сама убрала ее для меня; на пол она положила ковер бледных тонов, обставила комнату мебелью на длинных и тонких ножках, а на окна повесила хорошенькие вышитые шторы. Я старалась мило улыбаться, благодарила ее, но скрывала за этой улыбкой гримасу отвращения: мне совершенно не нравилось безвкусное убранство моей нынешней гостиной. Впрочем, гораздо важнее было то, что я могла сидеть там одна хоть весь вечер, и все очень быстро к этому привыкли; а в своем кабинете я и вовсе проводила почти каждое утро, а то и целый день.
И в этом отношении мне очень помог «наш ангелочек» Джулия. Даже мама была согласна с тем, что я вряд ли смогу работать – например, заниматься счетами или писать деловые письма, – в тех же комнатах, где громко воркует или плачет младенец. А поскольку Гарри и Селия и днем, и вечером приносили девочку в гостиную, мне ничего не стоило извиниться и уйти, сославшись на работу, чтобы не присутствовать при очередном любовании «нашим маленьким сокровищем».
К сожалению, я и сама не могла не восхищаться этим ребенком. Малышка и правда была очаровательна. Глаза у нее так и остались темно-синими, а каштановые волосы, мягкие, как шелк, на ощупь были похожи на мех новорожденного щеночка. На солнце в них легко можно было заметить тот же медный отблеск, что и в моей шевелюре, а когда девочка достаточно окрепла и стала вставать в колыбельке, локоны, покрывавшие ее тепленькую головку, стали еще больше похожи на мои.
Селия каждый день выносила ее на залитую солнцем террасу, если, конечно, было достаточно тепло, и я через открытое окно кабинета слышала, как малышка воркует и смеется под неумолчное гудение пчел и любовное гульканье лесных голубей. Когда я застревала над какой-нибудь фразой, сочиняя очередное деловое письмо, или никак не могла добиться, чтобы выстроившиеся в столбик цифры давали один и тот же результат несколько раз подряд, я выглядывала в окно и смотрела, как Джулия брыкается своими ножонками или машет ручками, пытаясь поймать солнышко или кружевную тень от большого круглого зонта, раскрытого над нею.
Однажды она ворковала как-то особенно громко и весело, и я чуть не рассмеялась вслух, слушая этот страстный лепет. До чего же она была похожа на меня! Она с той же радостью, что и я, воспринимала этот солнечный свет, этот теплый ветерок, ласкающий кожу, эту землю. Во всем доме среди всей массы людей, топтавших землю Широкого Дола, точно обыкновенные доски пола, похоже, лишь я и моя дочь – а может, дочь Селии? – чувствовали очарование этого места. Только я и мой ребенок, который, правда, был еще слишком мал, чтобы говорить и что-то понимать. Как-то раз, глядя на Джулию и слушая ее лепет, я заметила, что она уронила на пол свою игрушку, изрядно обсосанного кролика из овечьей шерсти, и довольное воркование тут же смолкло, сменившись недовольными воплями и даже жалобным плачем. Я, не раздумывая, распахнула высокое окно, перелезла через подоконник и оказалась рядом с девочкой на террасе.
Я подняла игрушку и положила ее в колыбельку, но Джулия не обратила на нее ни малейшего внимания и с сияющей улыбкой воззрилась на меня, энергично топая ножками и протягивая ко мне ручонки. Она так радостно и громко ворковала, что я даже засмеялась негромко. Малышка была просто неотразима. Ничего удивительного, что она весь дом сводила с ума своей улыбкой. Она стала таким же домашним тираном, какой, наверное, была и я в детстве. Да, мы были очень, очень похожи!
Я с улыбкой наклонилась к девочке и ласково коснулась пальцем ее нежной щечки, собираясь уже вернуться к себе в кабинет, но она ловко поймала мой палец, крепко в него вцепилась и решительно потянула в свой улыбающийся беззубый рот. Маленькие десны плотно сомкнулись, щечки втянулись, и она принялась деятельно сосать палец; у нее даже глазенки поголубели от удовольствия. Я снова тихонько засмеялась: да этот ребенок – такой же сластолюбец, как и я! Она, как и я, стремится брать удовольствия полной охапкой и делает это весьма решительно. Я попыталась отнять палец, но она его не отпустила и буквально повисла на нем, даже чуточку приподнявшись в воздух, и я сжалилась: взяла ее на руки и крепко прижала к себе.
Как же чудесно от нее пахло! Это был нежный запах чистого теплого детского тела, и душистого мыла, и теплого молока – этот сладкий запах всегда окутывает маленьких детей, потому что они питаются в основном молоком. А еще от нее пахло тщательно выстиранным бельем и чистейшей шерстью. Я поудобней пристроила на плече маленькую головку Джулии и слегка покачала девочку. Она снова радостно заворковала, так что мне стало щекотно в ухе, и я слегка повернулась и ткнулась носом в теплую складочку на ее пухлой шейке. И тут она вдруг прямо-таки впилась в мой подбородок, словно маленький вампир, и принялась шумно, с явным удовлетворением, сосать.
Я громко рассмеялась. И, пританцовывая, чтобы доставить ей удовольствие, с улыбкой на лице повернулась лицом к дому. И сразу заметила, что за окном гостиной кто-то стоит, наблюдая за мною. Приглядевшись, я поняла, что это Селия. Она стояла совершенно неподвижно, и лицо ее было белым, как мрамор.
Я же, напротив, разрумянилась от смеха и любви к этому очаровательному крошечному существу. Впрочем, стоило мне встретиться с глазами Селии, и улыбка умерла у меня на губах; мне сразу стало неловко, я почувствовала себя виноватой – как если бы она поймала меня на том, что я роюсь в ее комоде или читаю ее письма. Потом Селия в окне исчезла и через пару секунд выбежала на террасу.
Руки у нее дрожали, но лицо было спокойным, а движения – быстрыми и решительными. Она подошла ко мне и, не говоря ни слова, аккуратно отняла ребенка от моей теплой шеи с таким видом, словно снимала с меня шарф.
– Я вынесла сюда Джулию, чтобы она здесь спала, – ровным тоном сказала она и, повернувшись ко мне спиной, уложила девочку в колыбель. Та протестующе заплакала, но Селия и не подумала снова брать ее на руки. Она заботливо, как настоящая нянька, подоткнула одеяльце, выпрямилась и строго заметила: – Я бы не хотела, чтобы девочку беспокоили, когда ей полагается спать.
Я чувствовала себя как мальчишка, пойманный на краже чужих яблок.
– Да, конечно, – сказала я даже с некоторым подобострастием. – Она просто уронила игрушку и заплакала, вот я и вылезла в окно, чтобы поднять кролика и вернуть его ей.
– Это у нее такая игра. Она весь день этим развлекаться готова, – сказала Селия. – А у тебя, я полагаю, и без этого дел хватает.
Итак, меня окончательно отставили в сторону. Маленькая неприметная Селия вдруг почувствовала свою власть и благодаря своему поистине материнскому отношению к девочке сумела самым решительным образом «уволить» меня, точно ненадежную служанку.
– Да, дел у меня, разумеется, много, – сказала я, улыбаясь, как полная идиотка. – Очень много. – Я резко повернулась, подошла к открытому окну своего кабинета и снова перелезла через подоконник, возле которого меня ждал письменный стол, заваленный бумагами. И все это время я чувствовала спиной взгляд Селии. И в этом взгляде не было ни капли приязни.
Наверное, мне следовало извлечь из этого случая некий урок. Однако меня тянуло к Джулии. Не очень сильно, но тянуло. Хотя страстной материнской любви я не испытывала. Иной раз, услышав ночью плач девочки, я еще крепче засыпала, чувствуя глубокое удовлетворение при мысли, что мне не нужно вставать и проверять, в чем там дело. Когда малышка весь день вела себя беспокойно, а Селии приходилось пропускать и ужин, и чай, оставаясь в детской, у меня тоже не возникало инстинктивного желания побыть с ребенком. Но иногда, заслышав воркование Джулии – особенно в теплые дни, когда мне из окна было видно, как мелькают в воздухе ее крепенькие босые ножки, – я выскальзывала на террасу, точно любовник на тайном свидании, нежно ей улыбалась и щекотала ее пухлые маленькие ладошки и ступни.
Я научилась осторожности, и Селия больше ни разу не заставала меня врасплох. Но однажды, когда она и Гарри уехали в Чичестер покупать для детской новые занавески, а мама из-за жары плохо себя чувствовала и лежала в постели, я добрых полчаса с удовольствием играла с девочкой «в прятки», прячась за кружевным пологом и появляясь, словно по волшебству, то с одной стороны колыбели, то с другой, и она так развеселилась, что прямо-таки задыхалась от смеха.
Как я и предполагала, мне эта игра надоела гораздо раньше, чем Джулии. Кроме того, мне еще нужно было съездить в деревню и переговорить с кузнецом. Но, когда я наклонилась, чтобы поцеловать ее на прощанье, она буквально вцепилась мне в лицо и не хотела отпускать. А когда я все-таки отошла от нее, она устроила такой рев, что нянька пулей вылетела из дома, чтобы посмотреть, что случилось.
– Ну, теперь она ни за что не успокоится, – сказала она, с неодобрением поглядывая на меня. – Совсем разгулялась – хочет, чтоб с ней играли.
– Это я виновата, – призналась я. – А что может ее успокоить?
– Ну, я попробую ее на руках поносить, – проворчала нянька. – А может, она и в колыбели уснет, если ее все время качать.
– Мне сейчас нужно в деревню поехать, – сказала я. – Как вы думаете, девочка уснет в повозке, если мы ее с собой возьмем?
Лицо няньки мигом просветлело – ей, похоже, и самой хотелось проветриться и прокатиться в деревню на моей двуколке, и она мигом сбегала за своим чепцом и запасной шалью для Джулии.
Я оказалась права. Как только девочку вынули из колыбели, она одобрительно заулыбалась и снова принялась радостно ворковать. А когда мы неспешной рысцой двинулись по подъездной аллее, пересекая чередующиеся полосы света и тени, Джулия и вовсе восторженно замахала ручонками, словно приветствуя и этот теплый ветер, и стук копыт, и яркое солнце, и шелест листвы – всю красоту окружавшего ее мира.
Я притормозила на мосту через Фенни.
– Это наша речка Фенни, – торжественно сообщила я дочке. – Когда ты вырастешь и станешь большой девочкой, я научу тебя, как вспугивать форель, нащупывая ее пальцами на каменистом дне. Твой папа научит тебя ловить рыбу на удочку, как это делают настоящие леди, а я научу тебя ловить рыбу так, как это делают настоящие деревенские дети.
Джулия так сияла, словно понимала каждое мое слово, и я тоже одобрительно улыбалась ей в ответ. Щелкнув языком, я направила Соррела дальше, и мы проехали мимо ворот, и Сара на пороге привратницкой приветственно помахала нам рукой, а мы свернули и двинулись дальше по залитой солнцем дороге в деревню.
– Вот это нижние поля, они в этом году отдыхают, – рассказывала я Джулии, указывая направо и налево хлыстом. – По-моему, хорошо, когда плодородное поле каждые три года отдыхает и там в это время растет только трава. Хотя твой папа считает, что таким полям достаточно отдыхать каждые пять лет. Надеюсь, ты потом нас рассудишь – мы ведь некоторые оставили отдыхать три года, а некоторые пять. Когда ты станешь взрослой хозяйкой поместья, то сама решишь, какая из этих двух систем лучше сохраняет плодородие почвы.
Джулия в своем маленьком чепчике с самым серьезным видом кивала мне, словно понимая каждое мое слово. Наверное, ей просто нравились спокойные интонации моего голоса, а может, она слышала в нем и любовь к этой земле, и все возрастающую нежность к ней самой.
Когда мы подъехали к кузнице, там стояли с полдюжины людей – крестьяне и один наш арендатор, – ожидавшие, когда подкуют их рабочих лошадок. Но деревенские женщины в одну секунду окружили нашу повозку и принялись восхищаться прелестной малышкой и ее изысканным кружевным платьицем. Я бросила поводья кузнецу – он сам вышел мне навстречу, вытирая черные руки о кожаный фартук, – и осторожно передала девочку женщинам.
Они тут же заквохтали над ней, как клуши, исходя материнскими чувствами; они осторожно касались ее кружевного платьица и пушистой шерстяной шали; они даже выстроились в очередь, поскольку каждая хотела подержать ее на руках, и все восхищались нежностью ее кожи, голубизной глаз и безупречной белизной одежды.
К тому времени, как я успела переговорить с кузнецом, Джулия как раз добралась до конца очереди, несколько растрепанная, но ничуть не утратившая своего очарования, хотя ее передавали из рук в руки, точно некую священную реликвию.
– Лучше переоденьте девочку, прежде чем ее мама вернется, – посоветовала я няньке и сокрушенно покачала головой, заметив, что кружева, которыми был обшит подол платьица Джулии, стали совершенно серыми, потому что их без конца трогали пальцами, в которые въелась многолетняя грязь.
– Да уж непременно, – сухо ответила нянька. – А вот леди Лейси никогда малышку в деревню не возит! И никогда бы не позволила этим грязным людям ее трогать!
Я остро на нее глянула, но решила пока воздержаться и ничего ей не говорить.
– Ничего плохого ей эти люди не сделали, – спокойно возразила я. – Правда, малышка? А скоро они и вовсе будут считать тебя своей хозяйкой, как сейчас они считают своей хозяйкой меня. Именно эти люди и создают то богатство, которое позволяет нашему Широкому Долу быть таким чудесным и процветающим. Они ходят грязными, чтобы мы могли каждый день принимать ванну и надевать красивую чистую одежду. Ты всегда должна быть готова подарить им улыбку, малышка. Ибо вы – ты и они – неразрывно друг с другом связаны.
Весь дальнейший путь я ехала молча, наслаждаясь теплым встречным ветром и внимательно следя за дорогой, чтобы случайно не наехать колесом на камень и не потревожить уснувшего ребенка. Я так старалась, что не сразу обратила внимание на грохот кареты и топот лошадей немного впереди нас; я даже подпрыгнула, точно преступник, пойманный на месте преступления, увидев невдалеке нашу фамильную карету. Гарри и Селия как раз собирались свернуть в ворота усадьбы; если бы мы выехали из деревни на несколько минут раньше, то и домой успели бы до их приезда. Теперь же Селия, высунувшись в окно, сумела прекрасно разглядеть и мою двуколку на ухабистой деревенской дороге, и няньку с ребенком, которая застыла на сиденье рядом со мной, точно медная статуя.
Глаза Селии встретились с моими, но на лице ее ровным счетом ничего не отразилось, хотя я видела, что она рассержена. Что ж, меня это совершенно не удивило. И тем не менее я чувствовала в животе тот самый неприятный холодок, который испытывала когда-то в детстве, попадая в немилость к своему отцу. Я никогда не думала, что Селия может быть способна на взрыв ярости. Однако она явно была разгневана, и я понимала: с ее точки зрения, достойно всяческого осуждения то, что грудного ребенка без разрешения взяли в поездку по проселочной дороге. И я, столкнувшись с ее ледяным взглядом, почувствовала себя страшно виноватой.
Я не стала спешить и медленно ехала следом за ними по подъездной аллее. Однако, вопреки моим ожиданиям, разъяренная Селия отнюдь не поджидала меня на конюшенном дворе. Так что нянька с Джулией смогли благополучно войти через дверь западного крыла, незаметно проскользнуть в детскую и вовремя переодеться. Я же, бросив поводья конюху, обогнула дом и вошла через парадные двери. Селия ждала меня в холле и тут же предложила вместе с ней пройти в гостиную. Гарри я там что-то не заметила; возможно, он по ее требованию согласился при этом разговоре не присутствовать.
Я повернулась к зеркалу над камином, сняла с себя шляпу и самым непринужденным тоном воскликнула:
– Какой чудесный сегодня денек! Ну что, вы сумели купить в Чичестере все, что нужно? Или придется заказывать эти вещи в Лондоне?
Селия мне не ответила, так что я была вынуждена отвернуться от зеркала и посмотреть на нее, неподвижно застывшую посреди комнаты. Как ни странно, ее хрупкая фигура буквально доминировала над окружающим пространством – возможно, благодаря силе ее гнева.
– Я вынуждена просить тебя никогда больше не брать с собой Джулию ни на какие прогулки без моего личного разрешения, – отчеканила она, словно не слыша моих легкомысленных вопросов.
Я смотрела ей прямо в глаза и молчала.
– Я также должна напомнить тебе: мы с Гарри считаем, что Джулию пока никуда возить не следует – ни в открытой повозке, ни в карете, – тем же тоном прибавила Селия. – Мы, ее родители, уверены, что подобные поездки для нее небезопасны.
– Ох, перестань, Селия! – отмахнулась я. – С ней же ничего не случилось. Я взяла самую спокойную и надежную лошадь на нашей конюшне. Я этого Соррела сама обучала. Я решила просто прокатиться с девочкой до деревни и обратно, потому что спать на террасе она не желала и никак не успокаивалась.
Селия посмотрела на меня. Она смотрела на меня так, словно я была препятствием у нее на дороге, которое непременно нужно преодолеть или попросту объехать.
– Мы с ее отцом считаем недопустимым, чтобы девочка ездила в открытом экипаже; в это понятие включается и твоя двуколка, какая бы лошадь в нее ни была запряжена, – медленно и отчетливо проговорила она, словно что-то втолковывая непонятливому ребенку. – Кроме того, я бы не хотела, чтобы в дальнейшем ее без моего личного разрешения вынимали из колыбели, выносили из дома или выходили с нею за пределы усадьбы.
Я пожала плечами и все тем же непринужденным тоном воскликнула:
– Ох, Селия, давай не будем ссориться из-за ерунды! Ну, извини меня. Я просто не подумала, что у тебя могут возникнуть какие-то возражения. Признаю, я не должна была так поступать. Но мне действительно нужно было съездить в деревню, и я с удовольствием взяла с собой Джулию и показала ей наши владения, ее родной дом, как это делал мой папа, когда мы с Гарри были маленькими.
Но и при этих моих словах во взгляде Селии ничто не дрогнуло, и глаза ее ничуть не потеплели в ответ на мои извинения.
– Положение Джулии весьма сильно отличается от того, какое занимали вы с Гарри, – внятно и неторопливо промолвила Селия. – И я не вижу ни малейших причин для того, чтобы ее воспитывали так же, как вас.
– Но она же дитя Широкого Дола! – изумленно воскликнула я. – Разве не должна она все знать об этой земле? Разве не должна исходить и изъездить ее из конца в конец? Это ее дом, ее родина. Она, как и я, принадлежит Широкому Долу.
Голова Селии нервно дернулась; она резко вскинула подбородок, а на щеках у нее вдруг вспыхнул алый румянец.
– Нет, – сказала она, – Джулия отнюдь не в такой степени принадлежит Широкому Долу, как ты. Каковы твои планы, Беатрис, я не знаю, но я пришла в этот дом, чтобы жить здесь с моим мужем, с твоей мамой и с тобой. А вот моя Джулия вечно здесь жить не будет! Она выйдет замуж и уедет отсюда. Возможно, она проведет здесь детство, но все же, полагаю, большую часть времени она будет находиться не здесь, а в школе. Затем, когда она подрастет, у нее появятся друзья, она будет ездить с визитами, и Широкий Дол не будет для нее тем единственным местом на свете, которое она хорошо знает. В ее жизни будет очень много всего, а не только эта земля и этот дом. И все у нее будет иным, чем у тебя, – и детство, и интересы, и жизнь.
У меня даже дыхание перехватило. Я молча смотрела на Селию, и сказать мне было, в общем-то, нечего.
– Хорошо, как тебе будет угодно, – сказала я, и тон мой был столь же холоден, как и у самой Селии. – В конце концов, ты же ее мать.
И я, резко повернувшись, вышла, оставив Селию стоять в одиночестве посреди гостиной. Войдя к себе в кабинет, я плотно закрыла за собой дверь, устало прислонилась к ней спиной и довольно долго стояла так в полной тишине, глядя на заваленный бумагами стол.
Итак, Джулия оказалась полностью во власти Селии. Все делалось так, как хочет Селия. Если моей матери хотелось добавить к диете ребенка хотя бы ложку патоки или меда, то Селия каждый раз этому противилась и требовала, чтобы девочку кормили исключительно грудным молоком. Гарри как-то захотел дать Джулии капельку порто, когда она после обеда сидела у него на коленях, но Селия ему запретила. А уж когда моя мать заявила, что детей следует туго пеленать, Селия восстала против этого с такой вежливой, но неколебимой решимостью, какой никогда раньше не проявляла, выражая несогласие с намерениями своей свекрови, – и, надо сказать, одержала победу.
Моей матери все время казалось, что ножки у Джулии будут кривыми, если их накрепко не припеленывать к дощечкам, но Селия не только сама высказалась против этого, но и призвала на помощь доктора МакЭндрю, который горячо ее поддержал и даже похвалил за стойкость, заверив всех, что девочка благодаря предоставленной ей свободе будет только крепче и здоровее.
С мнением доктора МакЭндрю в доме считались. В наше отсутствие он, можно сказать, стал для моей матери и другом, и конфидентом, и она, как я подозревала, немало порассказала ему и о себе, и о своем замужестве, и о своем слабом здоровье. А также, по-моему, поведала ему и о тех проблемах, с которыми столкнулась, воспитывая меня, и мне совсем не нравился тот блеск, который я иногда замечала в глазах доктора, когда он смотрел на меня. Вообще-то, смотрел он на меня так, словно ему очень нравится то, что он перед собой видит, однако он надеется, что я смогу еще чем-то его удивить. Я просто понять не могла, чего именно он от меня ждет. А тут еще и мама стала как-то чересчур внимательно за нами наблюдать…
Наша с ним первая встреча после того, как мы с Селией вернулись из Франции, прошла весьма неловко. Я наливала чай у мамы в гостиной, а доктор МакЭндрю, как обычно, явился, чтобы осмотреть Джулию, и весьма ловко затеял со мной светский разговор. Он обладал великолепными манерами и мастерски делал вид, что не замечает, как я вспыхнула, стоило ему войти в комнату.
– Вы выглядите так, словно Франция весьма пошла вам на пользу, мисс Лейси, – сказал он, целуя мне руку. Мама остро на нас глянула, а я тут же отняла у него свою руку и села рядом с чайником.
– Вы правы, – спокойно подтвердила я, – Франция действительно пошла мне на пользу, но я очень рада, что вернулась домой.
Я разлила всем чай и недрогнувшей рукой передала ему чашку. Одних только нежных улыбок доктора МакЭндрю было маловато, чтобы заставить мои руки дрожать.
– А я, пока вас не было, сделал одно весьма удачное приобретение, – сказал он, стараясь завязать беседу. – Мне привезли из-за границы новую лошадь, чистокровного арабского скакуна под седло. Не хотите на него взглянуть? Мне было бы интересно узнать ваше мнение.
– Вы купили «араба»? – удивилась я. – Боюсь, тут мы с вами во вкусах не сойдемся. Я предпочитаю английские породы, они лучше подходят для нашего климата и нашей местности. И потом, я ни разу не видела, чтобы у чистокровного «араба» хватило сил на целый день охоты.
Доктор рассмеялся.
– Ну, тут я готов с вами поспорить. Давайте заключим пари: я готов поставить своего Сиферна против любого гунтера из вашей конюшни. Скачки проведем и на относительно ровной дороге, и на пересеченной местности.
– Ах, скачки!.. – пренебрежительно бросила я. – Нет, на такое пари я не согласна. Я прекрасно знаю, как хороши «арабы» в непродолжительных скачках, а вот в трудных и далеких поездках им вечно сил не хватает.
– Я уже поездил на Сиферне по вызовам – целый день мотался туда-сюда, однако он даже к вечеру был готов перейти на галоп, – сказал доктор. – По-моему, мисс Лейси, вам будет очень трудно к нему придраться.
Я рассмеялась.
– Мой папа всегда говорил: пустая трата времени – втолковывать что-то человеку, который продает землю или купил коня, так что я не стану даже пытаться вас разубедить. Позвольте мне взглянуть на него на исходе первой зимы; возможно, тогда мы с вами и придем к какому-то соглашению. Точнее, вы со мной согласитесь после того, как выложите своему поставщику кормов кругленькую сумму и убедитесь, что ваш жеребец слишком породист, чтобы есть что-то еще кроме овса.
Молодой врач улыбнулся; его голубые глаза доброжелательно и прямо смотрели на меня.
– Разумеется, вы правы, и я наверняка потрачу на него целое состояние, – легко согласился он. – Но, по-моему, следует гордиться тем, что ты терпишь такие убытки ради прекрасного животного. И потом, я готов скорей тратить деньги на овес, чем на пополнение своей кухонной кладовой или погреба.
– А вот тут я с вами согласна, – улыбнулась я. – Лошади, наверное, самое важное в любом хозяйстве. – И я стала рассказывать ему о лошадях, которых видела во Франции, – жалких и несчастных городских клячах и сильных великолепных конях знатных людей. Потом он снова заговорил о своем драгоценном Сиферне, и мы принялись обсуждать экстерьер лошадей и методы их разведении, но тут в гостиную вошли Гарри и Селия, а за ними няня с Джулией, и всякой разумной беседе сразу пришел конец. Разговор переключился на девочку, которая в тот день как раз научилась хватать себя за большие пальцы на ногах.
На прощанье доктор МакЭндрю, крепко сжимая в своих уверенных руках врача кончики моих пальцев, сказал мне:
– Итак, когда же состоится наш с вами поединок, мисс Лейси? Мы с Сиферном всегда готовы. А вы? Место, расстояние и протяженность скачек по вашему выбору.
– Поединок? – переспросила я и рассмеялась. Гарри, услышав наш разговор, поднял голову – он, склонившись над колыбелью, развлекал Джулию тем, что качал перед нею свои карманные часы.
– По-моему, ты можешь проиграть, Беатрис, – предупредил он меня. – Я уже видел коня доктора МакЭндрю. Весьма впечатляющее зрелище. Он отнюдь не из числа тех утонченных арабских скакунов, которых тебе доводилось видеть.
– Ничего, я готова попытать счастья. Наш Тобермори обойдет любого «араба», – сказала я. Тобермори был лучшим гунтером на нашей конюшне.
– Что ж, я, пожалуй, поставлю на тебя! – с энтузиазмом воскликнул Гарри. – Пятьдесят крон, сэр?
– Ого! А если сто? – предложил доктор МакЭндрю, и все тут же принялись делать ставки. Селия предложила свое жемчужное ожерелье против моих жемчужных сережек; мама пообещала в случае моей победы заказать мне в кабинет новый книжный шкаф. А Гарри сказал, что я могу заказать себе любую новую амазонку, если сумею защитить честь конюшни Широкого Дола. В ответ я заявила, что куплю ему охотничий хлыст с серебряной ручкой, если не сумею этого сделать. Все это время доктор МакЭндрю смотрел прямо на меня, и я, глядя в его голубые, обрамленные светлыми пушистыми ресницами глаза, спросила:
– А мы-то с вами на что будем пари держать?
В комнате сразу стало тихо; мама с любопытством смотрела на нас, и на лице ее блуждал призрак улыбки.
– Штраф назовет победитель, – мгновенно ответил доктор, словно давно уже все обдумал. – Если победа будет за мной, я потребую от вас некий приз. А вы, мисс Лейси, в случае победы сможете потребовать любой приз от меня.
– Открытое пари – вещь опасная, особенно для проигравшего, – сказала я, едва сдерживая смех.
– Тогда вам лучше выиграть, – сказал он и ушел.
Грядущие скачки подействовали на Гарри двояко. Во-первых, он снова все свое внимание сосредоточил на мне, и мы с ним провели счастливое утро в моем кабинете, планируя возможный маршрут этих скачек по расстеленной на столе карте Широкого Дола, которую только что для меня изготовили. А во-вторых, и это было еще лучше, Гарри, наконец, заставил себя расстаться с Селией и ребенком, и мы с ним верхом отправились проверять маршрут скачек и состояние троп на склонах холмов. Это была наша первая совместная поездка после моего возвращения, и я сознательно выбрала кружной путь, чтобы проехать мимо той ложбины в холмах, где мы впервые занимались любовью.
День был чудесный, жаркий уже с утра и обещавший стать еще жарче; пахло скошенным сеном; на верхних полях готовились к сенокосу, и нас окутывал густой аромат трав и цветов. В траве пестрели полевые цветы на высоких стеблях – красные маки, синий шпорник и белые с золотистой сердцевинкой ромашки. Я подцепила кнутовищем горсть сжатой травы и с наслаждением стала ее нюхать. Мне прямо-таки хотелось стать лошадью и съесть эту чудесную траву. Ее запах был таким аппетитным, не хуже чая или табака высшего качества. Я сунула за ленту шляпы несколько маков, хоть и понимала, что к полудню они уже завянут. Маки, как и удовольствие, крайне недолговечны, но это не значит, что от того и другого стоит отказываться. Моя амазонка в этом году была из темно-красной материи, и алые маки, яркие, как пламя в кузнечном горне, на ее приглушенном фоне смотрелись, на мой взгляд, просто чудесно. Но если бы мама увидела на мне эти два оттенка красного цвета, столь свирепо противоречащие друг другу, она бы наверняка сказала со снисходительной улыбкой: «У Беатрис совершенно нет чувства цвета». И наверняка бы ошиблась. Я обладала великолепным чувством цвета, особенно в том, что касалось цветов Широкого Дола, где ни одно сочетание естественных оттенков не могло показаться мне неправильным.
– Я вижу, Беатрис, ты страшно рада, что, наконец, вернулась домой, – ласково улыбаясь, сказал Гарри.
– Это же рай! – искренне воскликнула я, и Гарри согласно кивнул.
Мы еще немного поднялись по склону холма; нашим лошадям приходилось идти по грудь в густых папоротниках, над головой жужжали стаи мух, и лошади все время раздраженно прядали ушами. Наконец мы выбрались из папоротников, точно из вод зеленого моря, поднялись на вершину холма и стали спускаться.
Лошади, предвкушая отдых, ускорили шаг и даже всхрапывали на ходу от нетерпения. Гарри ехал на молодом гунтере Саладине, а я – на Тобермори, который так долго отдыхал в конюшне, что теперь был рад вырваться на свободу и резво бежал впереди. Я ослабила поводья и пустила его легким галопом по дороге, вьющейся по вершинам холмов. Внизу раскинулся Широкий Дол, отсюда, с высоты, похожий на очаровательную игрушку, лежащую поверх лоскутного одеяла полей и лесов.
Затем мы въехали в рощу, и деревья скрыли от меня мой любимый вид на усадьбу, который я всегда так бережно хранила в своей памяти. Местность вокруг была достаточно уединенная. Некогда легкое движение земли создало на склоне холма удобную террасу, и сотни лет назад здесь пустили корни маленькие деревца, из которых получился густой лесок с деревьями до небес. Нежные зеленые буки и небольшие дубы отбрасывали на землю легкую тень, а возле их корней, в гуще поросли, сияли, как звезды, маленькие белые лесные цветочки. Этот лесок протянулся вдоль дороги всего на несколько сотен ярдов, но подлесок в нем был достаточно густым, а зеленые ложбинки выглядели весьма уютно. Я украдкой глянула на Гарри и заметила, что он с беспокойством поджал губы и смотрит строго вперед, между ушами своего коня. Саладин на коротком поводу недовольно мотал головой, но Гарри только крепче сжимал поводья.
– Останови коня, Гарри, – нежным голосом сказала я. Он послушно натянул поводья, но в лице его не было прежней радостной готовности. Он так крепко держал Саладина, что тот даже слегка попятился. Вид у Гарри был мрачный, а в глазах светилось даже, пожалуй, некое отчаяние. Я читала его, как книгу. Я знала его насквозь еще тогда, когда решила соблазнить, и я прекрасно понимала, на какой риск иду, отсылая его в Англию одного. Теперь я хладнокровно признавалась себе, что Гарри, скорее всего, пытается положить конец нашим отношениям. Что он хочет снова стать чистым, невинным и свободным, дабы всем сердцем любить – но не Селию, а свою обожаемую дочь.
Я спокойно продолжала сидеть в седле, такая же очаровательная и желанная, как и всегда. Я понимала, что должна обладать Гарри – пока живу в этом доме, который по праву должен был бы быть моим, но который Гарри называет своим. Пока я езжу по этой земле, которая должна была бы принадлежать мне, но на которую предъявляет свои права мой брат. Я также понимала, что отныне и до конца жизни буду ненавидеть и презирать его. Моя страсть к нему полностью прошла. Причины этого я не знала. Эта страсть просто увяла, как сорванный полевой мак, как только я завоевала сердце Гарри. Теперь я могла бы приколоть его сердце к своей шляпе, как украшение. Да, завоевать Гарри оказалось нетрудно, да и удерживать его при себе было легко. Во Франции, вдали от той земли, которой владел он и которой так сильно хотела владеть я, он показался мне на редкость заурядным молодым человеком. Да, он обладал привлекательной наружностью, был порой очарователен, забавен, однако он был не слишком умен; можно было найти полдюжины таких Гарри в любом французском отеле, где обычно останавливались англичане. Вдали от Широкого Дола, вдали от магии этой земли Гарри сразу перестал быть божеством урожая и стал самым что ни на есть обычным юношей.
Но даже после того, как моя страсть превратилась почти в отвращение, я по-прежнему намерена была его домогаться. Мое страстное – до боли в сердце, до дрожи – влечение к нему, должно быть, угасло из-за того, что я слишком легко и просто его завоевала, а потом всего лишь использовала его тело. Но мне по-прежнему был нужен именно Гарри – сквайр, хозяин поместья, – чтобы я могла чувствовать себя на этой земле в полной безопасности.
– Гарри! – окликнула я его.
– Все кончено, Беатрис, – резко обернувшись, сказал он. – Видит Бог, я согрешил, согрешил с тобой и тебя тоже ввел в грех, но теперь этому конец. Мы с тобой никогда больше не будем… так, как прежде. И я уверен: со временем ты найдешь себе другого возлюбленного.
Повисло молчание. Мои мысли метались, как хорек в клетке; я тщетно пыталась найти пружину той ловушки, в которую угодила страсть Гарри, но на ум мне ничего не приходило. Я сознательно затягивала паузу, внимательно наблюдая за ним. Лицо его было собранным, решительным, и я догадывалась, что про себя он твердо намерен стать любящим отцом, хорошим мужем и властным сквайром, что в эти его сентиментальные, отчасти фантастические планы, в эти его сны наяву о добродетельной новой жизни никак не входят наши с ним тайные, порочные отношения.
Я смотрела Гарри в лицо, и взгляд моих изумрудных глаз был столь же холоден и непроницаем, как взгляд змеи, хотя разум мой судорожно пытался решить, как мне поступить с этим новым, высокоморальным отцом семейства. В данный момент и в данном месте я, безусловно, не сумела бы до него добраться. Он заранее подготовился к тому, что во время нашей совместной поездки я предложу ему, как прежде, заняться любовью; и он заранее вооружился против меня. Единственное, что мне теперь оставалось, – это застать Гарри врасплох, чем-то удивить его похотливое тайное «я», и сделать это нужно было до того, как успеет проснуться его совесть. Этот крошечный лесок, это теплое утро и это уединение – все это оказалось напрасным, ибо сейчас мне Гарри голыми руками было не взять.
Я улыбнулась ему, и улыбка моя была такой ласковой и открытой, что лицо Гарри сразу просветлело.
– Ах, Гарри, я так рада этому! – сказала я. – Ты же сам знаешь: я никогда к этому не стремилась; это все вышло случайно, против моей воли, против воли нас обоих. И наши греховные отношения всегда страшно меня тревожили. Слава богу, тут наши мнения полностью совпадают. Я прямо-таки вся извелась, не зная, как сказать тебе о том, что приняла решение со всем этим покончить.
О, глупец! Он прямо-таки сиял от радости и облегчения.
– Беатрис! Я должен был бы сам догадаться… Господи, я так рад, что и ты этого хочешь! Ох, Беатрис, как же я рад! – все восклицал он, отпустив, наконец, поводья. Бедный Саладин даже шею вытянул, почувствовав внезапное облегчение. А я снова ласково улыбнулась Гарри и несколько напыщенно промолвила:
– Слава богу, теперь мы оба свободны от греха! И можем наконец-то любить друг друга, как полагается брату и сестре, и всегда быть вместе.
И мы бок о бок поехали вперед, дружелюбно беседуя, точно лучшие друзья. Миновав темноватый тенистый лесок, мы вновь очутились на залитом солнцем пространстве, и у Гарри был такой восторженный вид, словно вокруг него не чудесные, поросшие травой и согретые солнечными лучами округлые холмы Широкого Дола, а Новый Иерусалим, над которым разливается золотистый свет безгрешного рая.
– А теперь давай все-таки подумаем, где нам устроить эти скачки, – сказала я, с улыбкой возвращая своего брата на землю, и мы рысцой двинулись по плечу холма, чтобы сверху осмотреть ту дорогу, что вела сюда из долины. С этого места вообще была видна большая часть того маршрута, который я хотела проложить для скачек; надо сказать, и для Тобермори, и для «араба» доктора МакЭндрю это был весьма изматывающий маршрут. Поединок должен был начаться у нас в усадьбе и там же закончиться, и предполагаемый путь пролегал по ее окрестностям в виде громадной восьмерки. Первая петля располагалась к северу от нашего дома; там скакать нужно было по песчаным дорогам общинных земель. В тех местах почва вообще мягкая и рассыпчатая, как сахарный песок, потому что там поверх глинистого слоя лежит толстый слой самого настоящего песка, и поскольку ни один конь не способен бежать по такой земле достаточно быстро, я рассчитывала, что этот сыпучий песок утомит «араба». Общинные земли жители деревни обычно использовали как пастбище для своих овец, немногочисленных коз и недокормленных коровенок, а в кустах и в лесу, разумеется, охотились на птицу, на лисиц и на косуль. Тамошние холмы густо поросли вереском и папоротниками, особенно в солнечных, укрытых от ветра низинах, но на западных склонах попадались и рощи с вполне приличными толстыми деревьями, главным образом буками. Петля, проходившая по верхней части общинных земель, охватывала в основном открытое пространство, где умение «араба» быстро поворачиваться пригодилось бы весьма мало, зато Тобермори на своих крепких привычных ногах был способен развить максимальную скорость.
С общинных земель мы двинулись вниз по крутой тропе, и я предполагала, что здесь можно ехать не быстрее, чем легким галопом; я вполне могла рассчитывать, что Тобермори с этим справится – в течение четырех последних сезонов он не раз проезжал именно здесь, когда мы отправлялись на охоту. Затем нужно было преодолеть два непростых препятствия, и дальше начинался обширный парк Широкого Дола. Во-первых, надо было перепрыгнуть через ограду парка, причем довольно высокую, а затем еще и через канаву, глубину которой определить на глаз было трудно. Далее можно было уже гнать быстрым галопом по заросшей травой лесной дороге, пока не окажешься на южном склоне холма, на той, довольно крутой, тропе, что ведет прямо на вершину; по ней тоже можно было ехать хорошим галопом. Я предполагала, что оба жеребца будут еле переводить дух, добравшись до вершины, и тот из них, кто придет первым, скорее всего, удержит за собой первенство и до конца скачек. Далее путь лежал по относительно ровной травянистой тропе – мили две пружинящего торфяника, – а затем снова нужно было спускаться вниз через буковую рощу к усадьбе. Я полагала, что этот последний спуск будет, скорее всего, весьма утомительным и скользким, но потом нужно будет только домчаться по подъездной аллее до крыльца дома.
Мы с Гарри рассчитали, что весь маршрут займет примерно два часа и самое трудное как для лошадей, так и для всадников – это тот самый финальный спуск на подъездную аллею. Мы заранее честно предупредили об этом Джона МакЭндрю, пока конюхи готовили лошадей, но он только посмеялся и сказал, что зря мы пытаемся его запугать.
Тобермори, точно медная молния, вылетел из арочных ворот конюшни, построенной из светлого песчаника. Он отлично отдохнул и рвался в бой, так что Гарри шепотом предупредил меня, чтобы я покрепче держала в руках поводья, иначе могу случайно оказаться на полпути к Лондону. Он помог мне сесть в седло и придержал коня, пока я расправляла юбку своей темно-красной амазонки и покрепче завязывала ленты шляпы.
А затем я подняла глаза и увидела Сиферна.
Доктор МакЭндрю говорил, что конь у него серый, но на самом деле шкура Сиферна была серебристо-белой с шелковистым отливом, так что видна была каждая впадина и каждая выпуклость на его мощных ногах и плечах. Видя, как блестят от восхищения мои глаза, Джон МакЭндрю рассмеялся и сказал, чтобы поддразнить меня:
– По-моему, я знаю, с чем мне придется расстаться, мисс Лейси, если вам удастся прийти первой. Настоящим игроком вам, пожалуй, никогда не стать – у вас выдержки не хватит.
– По-моему, любой на моем месте попытался бы во что бы то ни стало выиграть у вас такого коня! – с нескрываемой завистью сказала я. Я просто глаз не могла отвести от этого великолепного животного – от его морды потрясающе правильной формы, разве что чуть островатой, от его умных блестящих глаз, от изогнутой серпом великолепной шеи, мощной, как натянутая тетива лука. Чудесный, поистине чудесный жеребец! Джон МакЭндрю одним изысканным прыжком взлетел в седло; ему и в голову не пришло воспользоваться сажальным камнем. Мы еще раз смерили друг друга взглядом и улыбнулись.
Селия, мама, няня с девочкой на руках – все вышли на террасу, чтобы на нас посмотреть; они стояли там плечом к плечу и вместе с нами ждали сигнала Гарри. Тобермори чуть приплясывал от нетерпения; Сиферн то и дело возбужденно шарахался. Гарри застыл на террасе, держа в поднятой руке носовой платок, затем резко опустил руку, и Тобермори тут же, почувствовав мои шпоры, ринулся вперед.
Я отпустила поводья, мы с топотом пронеслись через парк и перешли на жестко контролируемый галоп. Как я и ожидала, белые передние ноги Сиферна первыми мелькнули над оградой парка, но я никак не думала, что он с такой же скоростью начнет подниматься вверх по сложной тропе и на вершине общинного холма будет выглядеть почти совсем не уставшим. Затем «араб» слегка всхрапнул, недовольный вязким песком, и все тем же галопом понесся по тропе или, точнее, по настоящей песчаной реке, расширяющейся там, где была устроена противопожарная полоса. Тобермори, опустив голову, с топотом преодолевал этот неприятный участок пути, но угнаться за Сиферном не мог. Тот корпуса на два, а может, и на три опередил нас, серебристый песок так и летел мне в лицо из-под его копыт. В итоге оба жеребца изрядно запыхались, но Тобермори не смог обогнать Сиферна, пока снова не начался спуск с холма в сторону парка.
Несколько человек рубили там дрова, и Сиферн вдруг смутился, увидев их, и даже попятился. Но Тобермори, неколебимый, как скала, даже внимания на лесорубов не обратил, и я успела услышать, как они что-то весело крикнули мне вслед, когда мой жеребец с громоподобным топотом устремился вниз по склону, сильно опередив соперника, а затем, не сбавляя ходу, взлетел и оказался по ту сторону парковой стены. Тобермори удерживал первенство и во время длительного и упорного галопа через парк, и потом, когда мы уже вновь начали подъем. Я была уверена, что Сиферну нас уже не догнать, и в горле моем уже клокотал радостный смех. С вершины холма перед нами открылся ровный пологий спуск, но Тобермори сильно запыхался и дышал тяжело. Однако, почувствовав под копытами мягкую торфянистую землю, несколько приободрился и снова горделиво вздернул голову. Мы мчались по дороге, когда я услышала, топот копыт настигавшего нас Сиферна. Морда жеребца была покрыта пеной, а Джон МакЭндрю, прильнув к его шее и вытянувшись вперед, как заправский жокей, чтобы уменьшить сопротивление воздуха и увеличить скорость, все погонял и погонял своего скакуна, и без того летевшего как птица. Но и Тобермори, услышав топот копыт соперника и чувствуя вызов, встряхнул гривой и пошел самым быстрым своим, охотничьим аллюром – бешеным непрерывным галопом. Но и этого оказалось недостаточно. К тому времени, как начался спуск в сторону леса, Сиферн поравнялся с Тобермори.
Очутившись после яркого солнца в лесном сумраке, я крепче вцепилась в поводья, старательно следя за тем, куда ступают копыта моего коня, и опасаясь выступающих из земли корней и предательских грязных луж. Кроме того, мне приходилось следить и за низко растущими ветвями деревьев, которые запросто могли вышвырнуть меня из седла или с силой ударить прямо в лицо. А вот Джона МакЭндрю это, похоже, ничуть не заботило. На склоне он вырвался вперед и в бешеной скачке гнал своего бесценного коня по этой скользкой тропе, словно ни в грош его не ставил. Прекрасное животное то и дело оскальзывалось и спотыкалось, но продолжало безжалостную гонку, и я не могла, не осмеливалась противостоять этому головокружительному безумию. Продолжая внимательно следить за мелькающими перед глазами грязными лужами и низко свисавшими ветвями деревьев, способными снести всаднику голову, я все же краешком сознания с удивлением задавала себе вопрос: «Почему? Почему Джон МакЭндрю с такой чудовищной серьезностью относится к этим шуточным скачкам?»
К тому времени, когда мы с Тобермори влетели в ворота усадьбы и Сара Ходгет крикнула от своей сторожки: «Давайте, мисс Беатрис, давайте!», нас обогнали уже настолько, что о победе нечего было и думать. Мощные задние ноги и круп несущегося галопом Сиферна блестели и переливались, как белый шелк, в стремительно чередующихся полосах света и тени; доктор МакЭндрю правил прямиком к террасе, на добрых два корпуса обогнав меня.
Но я все же смеялась, испытывая неподдельный восторг. Я была вся заляпана грязью и чувствовала, как пятна жидкой грязи засыхают у меня на лице. Моя шляпа, сорванная ветром, осталась неизвестно где, так что завтра кому-то из помощников конюха придется пойти ее поискать. Волосы во время этой бешеной скачки совершенно растрепались, из них вылетели все шпильки, и теперь мои спутанные каштановые кудри покрывали мне плечи и спину. Тобермори был почти белым от пота, ручьями стекавшего по его яркой шкуре. Сиферн тяжело, прерывисто дышал, и время от времени по телу его пробегала сильная дрожь. Светлая кожа доктора МакЭндрю стала алой от жарких солнечных лучей и сильного возбуждения, а в его глазах – глазах победителя! – сверкали синие искры.
– Ну, и что же вы потребуете в качестве приза? – еще не успев толком перевести дыхание, выпалила я. – Вы ведь ради этого мчались, как демон? Что же вы так стремились заполучить?
Он выскользнул из седла и протянул руки, желая помочь мне спешиться. Я скользнула в его объятия и тут же почувствовала, как лицо мое вспыхнуло ярким румянцем – я была возбуждена этой захватывающей дух гонкой, запахом наших разгоряченных дрожащих тел и тем неожиданным наслаждением, которое испытала, когда меня снова обняли крепкие мужские руки.
– А в качестве приза я сперва потребую вашу перчатку, – сказал Джон МакЭндрю таким тоном, что я сразу перестала смеяться и очень внимательно на него посмотрела. – Да, сперва перчатку, – повторил он и снял с моей руки маленькую, почти детского размера, перчатку для верховой езды, – а потом, мисс Лейси, я попрошу и вашей руки, ибо я хочу, чтобы вы стали моей женой.
У меня перехватило дыхание. Я с трудом удержала негодующий возглас, но доктор хладнокровно сунул мою перчатку в карман, как если бы мужчины каждый божий день именно так делали предложение женщинам, и, не успела я хоть что-то сказать ему в ответ, на нас налетел Гарри, а следом за ним и все прочие зрители.
Да, собственно, ничего особенного говорить доктору я и не собиралась. Но все же времени даром не теряла и, пока переодевалась, умывалась и причесывалась, придумала ответ, хотя его холодный уверенный тон ясно давал понять: никакого ответа ему не требуется. Я в любом случае чувствовала себя вне опасности; я не боялась, что мое сердце будет разбито от любви к человеку, у которого нет никакой земельной собственности и который, тем более, не мог ни унаследовать, ни купить Широкий Дол. Если этот молодой обворожительный доктор все же когда-либо сделает мне официальное предложение, то получит мягкий, доброжелательный, но решительный отказ. Однако же… Я машинально накрутила на палец прядку волос, свисавшую вдоль щеки, и невольно усмехнулась… однако же его слова были мне удивительно приятны! И вообще, я должна поспешить, иначе опоздаю к чаю!
Возможно, для меня эти скачки и были всего лишь довольно легкомысленным приключением, однако после них молодой доктор стал прямо-таки желанным членом нашего семейного кружка. И хотя мама ничего не говорила мне об этом, я видела, что она уже воспринимает Джона МакЭндрю как своего будущего зятя, что уже одно его присутствие в доме освобождает ее от настойчивых, неясных ей самой страхов. Так что это лето оказалось счастливым для всех нас. У Гарри исчезла всякая тревога по поводу наших владений, как только он понял, что я снова взяла на себя заботу о поместье, что в этом отношении на меня можно полностью положиться, что я сумею оградить его от очередных невежественных ошибок и в земледелии, и в обращении с людьми. Привезенные виноградные лозы прекрасно прижились на чуждой им английской почве, и это стало для Гарри истинным триумфом его экспериментаторского энтузиазма, его маленькой победой над моей приверженностью к старым способам хозяйствования, и я с радостью за ним эту победу признала. Впрочем, хватит ли у нас солнечного света, чтобы маленькие завязи превратились в сочные сладкие виноградные грозди – этого никак не мог гарантировать даже мой самоуверенный братец. Однако это был интересный опыт, явно стоивший некоторых усилий; было бы замечательно, если бы мы в Широком Доле смогли выращивать столь ценную новую культуру и даже производить такой новый продукт, как свое вино.
Мама тоже была счастлива: Гарри все время улыбался, а я выглядела на редкость спокойной и всем довольной. Но еще важнее для нее оказалась роль любящей бабушки. Я только теперь поняла, до какой степени ее нежное отношение к детям страдало от моего болезненного стремления к независимости, а также от той дурацкой условности, согласно которой детей следовало держать в детской вне досягаемости для всех остальных, в том числе и матери. Но при Селии в доме установилась атмосфера всеобщей любви и весьма снисходительного отношения к установленным светом традициям, так что «нашего маленького ангела» никогда не изгоняли из гостиной, если не считать кормлений и необходимого дневного и ночного сна. Джулию никогда не оставляли плакать в одиночестве в темной детской. Ее никогда не бросали в доме под присмотром одних лишь не слишком внимательных слуг. И наша маленькая Джулия воспринимала жизнь, как один сплошной долгий праздник, полный ласк, поцелуев, развлечений, игр и песен, и забавляли девочку не только обожавший ее отец и любящая мать, но и столь же помешанная на ней бабушка. И видя, каким счастьем сияет лицо моей матери в ответ на радостное воркование, доносящееся из колыбели, лишь человек с каменным сердцем мог не заметить, какая благословенная река любви струится меж ними.
Я тоже порой тосковала по своей маленькой дочке, хоть, безусловно, и не относилась к числу тех женщин, которые чувствуют себя не у дел, если за их подол не цепляется младенец. Но, Господь тому свидетель, маленькая Джулия была, по-моему, ребенком совершенно особенным. Пожалуй, даже больше того: она до такой степени была плоть от плоти моей, что раньше я даже вообразить этого не могла. Я видела знакомый отблеск рыжины в ее волосах; я видела, с какой легкой, искренней радостью воспринимает она мой любимый Широкий Дол, выражая это ликующим воркованием, когда ее оставляли вместе с колыбелькой в саду. Джулия была целиком и полностью моим ребенком, и я тосковала, не имея возможности с ней общаться. Проницательный взгляд Селии был постоянно устремлен на меня, и я понимала, что она не позволит мне ни взять девочку из колыбели, ни поиграть с ней, ни – и это особенно подчеркивалось – отправиться с ней на прогулку по Широкому Долу, дать ей попробовать хоть чуточку, хоть самую малость настоящего деревенского детства.
Что же касается самой Селии, то она была прямо-таки окутана облаками счастья. Большая часть ее времени и внимания была, разумеется, отдана ребенку, и она приобрела какую-то чудесную способность даже на расстоянии чувствовать все, что касалось Джулии. Она, например, могла извиниться и среди обеда встать из-за стола и пойти в детскую, хотя никто, кроме нее, не слышал ни звука, доносящегося оттуда. Она же слышала даже самый тихий писк девочки. В то лето весь верхний этаж дома привык разговаривать шепотом и постоянно напевать колыбельные, потому что Селия постоянно что-то напевала девочке – то колыбельную, то веселую песенку, – и двигалась вокруг нее, словно пританцовывая под эти несложные припевы и свой мелодичный смех. Благодаря осторожной и несколько нерешительной инициативе Селии наши комнаты одна за другой освобождались от тяжелой старой мебели, принадлежавшей моему отцу и деду. Теперь они были убраны иначе, и мебель там теперь стояла иная – легкая, хрупкая, в современном стиле. Я, впрочем, от этого только выигрывала, потому что тут же забирала отвергнутые тяжелые шкафы и столы и расставляла их у себя, в комнатах западного крыла, которые, без ущерба для остального дома, сиявшего новой легкой обстановкой, были теперь полностью, даже с избытком, меблированы.
Селия также очень радовала мою мать тем, что любила всякие чисто дамские занятия. Они, например, в четыре руки прилежно трудились, точно две наемных работницы, над новым алтарным покровом для нашей церкви: сперва придумали рисунок, затем перенесли его на ткань, а затем принялись за вышивку. Я тоже порой делала пару стежков – по вечерам и в таких местах, где мои ошибки были бы не особенно заметны; но мама и Селия каждый день расстилали перед собой эту груду материи и, склонив голову, трудились над прихотливым рисунком каймы.
Если они не были заняты вышиванием, то читали друг другу вслух, словно жить не могли без звука собственного голоса, или приказывали подать карету, чтобы «малышка подышала свежим воздухом», или же отправлялись с визитами к соседям, или срезали в саду цветы, или разучивали новые песни, или находили себе еще какое-то занятие из числа тех старых приятных способов времяпрепровождения, которые и должны лежать в основе жизни истинной леди. Мне, собственно, не на что было жаловаться. Они были счастливы, крутясь в своем маленьком колесе бессмысленных обязанностей, а любовь Селии к рукоделию, к домашним делам и к свекрови давала мне возможность избегать бесконечных утомительно-монотонных часов в маминой гостиной.
Девическая робость Селии и ее готовность находиться на втором, нет, пожалуй, даже на четвертом месте в доме способствовали тому, что с моей матерью у нее никогда не возникало никаких разногласий. Она еще во Франции поняла, что ее желания и стремления всегда будут второстепенны, что командовать в доме всегда будем мы с Гарри, да она, похоже, ничего другого и не ожидала. Как далека была Селия от той позиции, какую обычно занимает уверенная в себе молодая женщина, впервые став хозяйкой в доме своего мужа; в нашем доме она вела себя скорее как воспитанная гостья или бедная родственница, которую здесь приютили, потребовав взамен предельную вежливость и полное невмешательство. Селия действительно никогда не вмешивалась в мои дела и не покушалась ни на одну сферу моего влияния – ни на ключи от погреба и кладовых, ни на отчет об их содержимом, ни на кухонные дела, ни на выплату жалованья слугам. Она также не совала нос в дела моей матери, которая всегда сама отбирала и наставляла домашних слуг, принимала решения по уборке дома и уходу за ним и составляла ежедневное меню. Она прошла суровую школу, наша Селия, и никогда в жизни не забывала, с каким недружелюбным пренебрежением к ней относились в Хейверинг-холле, так что и от своего нового дома она тоже ничего хорошего не ожидала.
А потому была приятно удивлена отношением к ней свекрови. Моя мать была готова защищать свои права от любого, кто попытается вмешаться в ее дела, но оказалось, что Селия ни о чем ее не просит, ничего не берет без спросу и ничего не ожидает. Максимум того, что она себе позволяла, – это шепотом высказать какое-нибудь осторожное предложение, связанное с тем, что Гарри от этого будет удобней и комфортней, и в таких случаях она тут же обретала в лице нашей матери надежного союзника. Мама обожала Гарри и всегда приветствовала любое начинание, идущее ему во благо.
Наш дворецкий Страйд, будучи человеком весьма опытным, отлично знавшим повадки своих хозяев и способным сразу отличить человека благородного происхождения, почтительно склонял перед Селией голову и с удовольствием давал ей советы. И прочие слуги, следуя примеру Страйда, выказывали ей истинное уважение. Ее никогда никто не боялся. Но все ее любили. Готовность принять любые правила, любой вариант поведения, который Гарри, маме или мне казался наиболее подходящим, делала жизнь всех в нашем доме проще и легче благодаря одному лишь солнечному присутствию Селии в доме.
Я тоже была вполне довольна. По утрам я обычно выезжала верхом, чтобы осмотреть поля, проверить ограды или подняться на верхние пастбища. Днем я занималась счетами, писала деловые письма и принимала просителей, терпеливо ждавших меня в прихожей у бокового входа. Ближе к вечеру, прежде чем одеваться к обеду, мы с Гарри прогуливались в саду среди разросшихся кустов роз, а иной раз доходили даже до берега Фенни, беседуя о делах или сплетничая. За обедом я сидела напротив Селии и по правую руку Гарри, точно принцесса, и с удовольствием поглощала те чудесные яства, которые появились в Широком Доле вместе с новым поваром.
После обеда Селия охотно соглашалась сыграть нам на фортепиано или спеть, Гарри иногда читал нам вслух или же вполголоса беседовал со мной у окна, пока Селия с мамой играли в четыре руки или, вытащив свое вышивание, принимались за работу.
И все то чудесное теплое лето мы пребывали на вершине домашнего счастья – счастья без конфликтов и без грехов. Любому, кто видел нас – например, молодому доктору МакЭндрю с его спокойным взглядом светлых глаз, – могло бы показаться, что мы отыскали некий секрет взаимной любви, благодаря которому в нашей семье навсегда сохранятся замечательные легкие отношения. Даже мои тайные желания в то золотое лето несколько поутихли. Мне было вполне достаточно ласковых улыбок Джона МакЭндрю, неизменно уважительного тона, каким он говорил со мной, и того приятного возбуждения, которое вызывали наши с ним прогулки по саду, окутанному вечерними сумерками. Я, разумеется, не была влюблена в него. Но мне нравилось, когда он своими шутками заставляет меня смеяться; мне были приятны его внимательные долгие взгляды; и я с удовольствием замечала, как хорошо он держится, как красиво сидит редингот на его широкоплечей стройной фигуре. Все это вместе соединялось в некое ощущение, каждый раз вызывавшее мою улыбку, когда он верхом подъезжал к нашему дому, чтобы вместе с нами по-обедать, или, прощаясь, легко сжимал мои пальцы в своей руке и нежно прикасался к ним губами. Я чувствовала, что это составляющие некоего ритуала, связанного с ухаживанием и слишком приятного, чтобы его торопить.
Разумеется, вскоре этому должен был прийти конец. Если доктор вознамерился бы пойти дальше и действительно предложить мне руку и сердце, мне пришлось бы самым серьезным образом ему отказать, и тогда наши невинные и приятные отношения сами собой завершились бы. Но пока длилось это ни к чему не обязывающее ухаживание, пока он приезжал к нам почти каждый день, привозя мне то обещанную книгу, то букет цветов, или же предлагал мне покататься верхом на его любимом Сиферне, я обнаружила, что каждое утро просыпаюсь с улыбкой, вспоминая какую-нибудь его фразу или просто его лицо. И день мой начинался на этой счастливой волне.
За мной никогда еще не ухаживал представитель высшего общества, и я совершенно не была знакома с тривиальными радостями подобной процедуры. Джон МакЭндрю старался незаметно коснуться моих пальцев, когда я передавала ему чашку с чаем, и всегда умел отыскать глазами мои глаза даже среди густой толпы. И мне было приятно знать, что стоит мне войти в зал – например, во время бала, устроенного в Чичестере, – и он сразу же меня заметит и станет пробираться мне навстречу. А если он уже пригласил кого-то танцевать, я улыбалась, втайне прекрасно зная, что он, где бы я ни оказалась, у него ли перед глазами или же за спиной, всегда остро ощущает мое присутствие. И, разумеется, когда подавали чай, Джон тут же оказывался возле меня с тарелкой, полной моих любимых лакомств, и в такие минуты глаза всех присутствующих смотрели только на нас.
Я была настолько очарована его неторопливыми ухаживаниями, этими незаметными шажками, неуклонно приближавшими его ко мне – пусть даже на десятые доли дюйма! – что совершенно расслабилась. Я даже почти перестала следить за Селией и Гарри. Регулярно получая некое новое для меня удовольствие, я попросту позабыла о том, что совсем недавно испытывала мучительное желание обладать Гарри. Я испытывала полную уверенность в том, что именно я являюсь хозяйкой поместья – с этим ныне соглашались абсолютно все, – и более не испытывала потребности управлять номинальным хозяином Широкого Дола. Гарри вполне мог оставаться моим партнером по общему делу. Но раз уж теперь я чувствовала себя на этой земле в полной безопасности, то в качестве любовника он мне больше нужен не был.
Как ни странно, именно Селия разрушила воцарившийся в нашем доме мир и покой, хотя она более всех остальных стремилась сохранить этот маленький благословенный оазис. И сама же пострадала от этого не меньше всех остальных. Разумеется – ведь она была Селией! – эта ошибка у нее случилась из-за любви и нежности. Но если бы она в тот раз промолчала, если бы она заставила себя молчать хотя бы до конца того лета, все еще могло бы сложиться иначе и я сейчас рассказывала бы совсем иную историю.
Но промолчать Селия не сумела. Ее мать постоянно упрекала ее за то, что они с Гарри спят в разных спальнях. Моя мать постоянно твердила, что молодые супруги непременно должны родить сына, чтобы у «нашего ангела», наконец, появился братик. Селию мучила совесть, каждый вечер во время молитвы напоминавшая ей, что свой супружеский долг она так до конца и не выполнила, ибо знала, что тот ребенок, которого Гарри так любит, рожден не ею. Но самым главным – и для Селии, и для Гарри, и, разумеется, для меня – было то, что Селия постепенно училась любить своего мужа.
Гарри, которого она теперь имела возможность наблюдать постоянно и за завтраком, и за обедом, и в течение дня, оказался отнюдь не тираном и не чудовищем, а, напротив, человеком мягким и добродушным. Селия слышала, как мать упрекает его, точно мальчишку, за то, что он опоздал к ланчу; слышала, как сестра высмеивает его новомодные идеи относительно ведения хозяйства, и каждый раз убеждалась, что и упреки, и подтрунивания он воспринимает с неизменной солнечной улыбкой. Точно так же, с улыбкой, он согласился и с тем устройством их супружеской жизни, какое предложила ему Селия, и никогда не пытался отпереть ту дверь, что соединяла их спальни, хотя она знала, что ключ у него есть. Он всегда входил к ней только из коридора и обязательно стучался. Приветствуя по утрам жену, Гарри почтительно целовал ей руку, а прощаясь на ночь, нежно целовал в лоб. С тех пор как мы вернулись из Франции, прошло уже три месяца, и за это время Гарри ни разу не сказал грубого слова в присутствии Селии, ни разу не проявил ни капли злобы, ни разу не накричал на нее. Все больше удивляясь тому, как ей повезло, Селия обнаружила, что ее муж – один из самых нежных и милых мужчин, какие только появлялись на свет. Ну и, естественно, она его полюбила.
Все это я, безусловно, должна была предвидеть – причем еще в ту минуту, когда увидела, с какой нежной улыбкой Гарри смотрит на свою жену, несущую на руках ребенка. Все это я должна была бы заметить по голосу Селии, ибо он звенел, как колокольчик, стоило ей заговорить о Гарри. Но я ничего не замечала, пока в конце сентября случайно не встретилась с Селией в розарии. В руках она держала совершенно бесполезные, но весьма элегантные серебряные ножницы и корзинку; на голове у нее красовалась соломенная шляпа с полями, прикрывавшими лицо от солнечных лучей. Я как раз возвращалась домой с выгона; я была в амазонке, поскольку пришлось проехаться на одном из гунтеров, который, как мне показалось, порвал сухожилие. Я шла на конюшню, чтобы сказать, чтобы коню непременно сделали припарку, но Селия остановила меня и сунула мне бутоньерку из поздних белых роз. Я с улыбкой вдохнула их сладкий сливочный аромат, поблагодарила ее и сказала мечтательно, прижимая к лицу плотные бутоны:
– Правда ведь, они пахнут сливочным маслом? Ну да, маслом, сливками и еще чем-то острым, вроде лайма.
– Такое ощущение, словно ты говоришь об одном из пудингов, которые готовит наша повариха, – усмехнулась Селия.
– А правда, – подхватила я, – пусть бы она сделала пудинг из роз! Наверное, это чудесно – питаться розами. Судя по их аромату, они должны быть сладкими и просто таять во рту.
Селия еще посмеялась над моими чувственными откровениями и, чтобы доставить мне удовольствие, с плотоядным видом понюхала маленький бутон, словно собираясь его съесть, а потом срезала еще один распустившийся цветок и положила его в свою корзинку.
– Как нога Саладина? – спросила она, заметив мои перепачканные руки, в которых я все еще держала поводья.
– Да вот иду на конюшню – пусть ему сделают припарку, – сказала я.
Мое внимание вдруг привлекло какое-то движение на втором этаже дома, и я, невольно присмотревшись, поняла, что по коридору ходят люди с огромными охапками одежды и постельных принадлежностей. Там проследовала целая вереница слуг, и это была в высшей степени необычная процессия.
Я, конечно, могла бы спросить у Селии, что там происходит, но мне и в голову не пришло, что она может знать что-то такое, чего не знаю я сама. И я, бросив ей: «Извини, пожалуйста», быстрым шагом направилась к открытым дверям и поднялась на второй этаж. Там царил полнейший беспорядок: повсюду стопки постельных принадлежностей, вход в комнату Селии был перегорожен гардеробом, а на маминой постели грудой высилась одежда Гарри.
– Что здесь творится? – в полном изумлении спросила я у горничной, наполовину погребенной под ворохом накрахмаленных нижних юбок, явно принадлежащих Селии. Ворох юбок качнулся, и горничная неуклюже присела передо мной, точно падающая бельевая корзина, и сказала:
– Переносим сюда вещи леди Лейси, мисс Беатрис. Она вместе с мастером Гарри в спальню вашей мамы перебирается.
– Что? – Я не верила собственным ушам. Груда белья снова качнулась, поскольку горничная опять присела и робко повторила сказанное. Впрочем, я и в первый раз ее прекрасно расслышала. Это не уши мои отказывались слышать, а разум мой не в силах был поверить тому, что я слышу. Селия и Гарри переезжают в мамину спальню? Да еще вместе? Это могло означать только одно: Селии все-таки удалось преодолеть свой страх перед «чрезмерной чувственностью» Гарри. И это было совершенно невозможно!
Я резко повернулась, с грохотом сбежала по лестнице и выбежала в залитый солнцем сад. Селия была все еще там и по-прежнему срезала отцветшие розы, точно невинный купидон в Эдеме.
– Слуги переносят твои вещи в спальню сквайра и говорят, что ты теперь будешь делить ее с Гарри! – выпалила я, надеясь, что сейчас она начнет ужасаться. Но она спокойно смотрела на меня из-под широких полей своей шляпы, и на губах у нее даже играло некое подобие улыбки.
– Да, – как ни в чем не бывало сказала она, – это я попросила их сделать все днем, пока никого из вас нет дома. Мне казалось, что так этот переезд причинит всем как можно меньше беспокойства.
– Ты это приказала? – с искренним недоверием воскликнула я и, прикусив губу, замолкла.
– Ну да, – спокойно подтвердила Селия и с некоторым беспокойством посмотрела мне в лицо. – Мне казалось, что это совершенно нормально и обсуждать тут нечего. Тем более твоя мама ничуть не возражала. Я как-то не подумала, что мне следовало бы и с тобой посоветоваться. Надеюсь, Беатрис, ты на меня не обиделась? Мне и в голову не пришло, что это тебя так заденет.
Слова недовольства замерли у меня на устах; я понимала: именно так Селия и подумала, а меня попросту не должно ни задевать, ни волновать то, что она решила спать в одной постели со своим законным супругом. Но эта спальня и эта кровать столько лет служила хозяевам Широкого Дола; в ней сквайры и их жены много лет спали вместе и зачинали детей. В этой постели Селии действительно предстояло стать «первой дамой нашего маленького королевства», истинной леди Лейси. Вот что задевало меня. В этой постели в объятиях Гарри она станет для него настоящей женой, усладой его ночей. И это тоже меня задевало. Она станет не только его супругой, но и любовницей, а меня сделает лишней. Нет уж! Призрак неведомого жениха, который скачет сюда, чтобы увезти меня в далекие края, был слишком реален, чтобы я могла рисковать страстной привязанностью Гарри ко мне.
– Зачем тебе это понадобилось, Селия? – почти возмущенно спросила я. – Тебя ведь никто не принуждает делать то, что тебе неприятно. Неужели ты решилась пойти на это только потому, что твоя мать и твоя свекровь хотят, чтобы ты родила им еще одного внука, мальчика? По-моему, сейчас в этом нет никакой необходимости. У тебя еще столько лет впереди. Ты вовсе не обязана бросаться к Гарри в постель уже этим летом. Ты теперь хозяйка своего собственного дома и совершенно не обязана выполнять те обязанности, которые тебе неприятны, даже противны.
Щеки Селии стали ярко-розовыми, как те розы, которые она держала в руках. Теперь на губах ее определенно играла улыбка, хотя глаза были смущенно потуплены.
– Но я же совсем не против, Беатрис, – еле слышно прошептала она. – И очень рада, что могу это сказать. И я ни капли не возражаю против этого переезда! – Она помолчала и, заливаясь алым румянцем, повторила: – Я очень даже не против!
Где-то в глубине души я откопала лживую улыбку и старательно приклеила ее на свое одеревеневшее лицо. Селия, глянув на меня, то ли негромко охнула, то ли рассмеялась, а потом повернулась и пошла прочь из сада. Но у калитки чуть помедлила и, снова обернувшись, быстро прошептала, глядя на меня с нежностью и любовью:
– Я знала, что ты будешь очень за меня рада! И я надеюсь, что сумею сделать твоего брата счастливым. Ах, Беатрис, дорогая моя! Наконец-то я сама не только хочу этого, но и с радостью постараюсь все сделать как надо!
Она застенчиво улыбнулась и ушла – легкая, изящная, любящая, желанная, а теперь и сама исполненная желания. И я поняла, что пропала.
Ни воображение, ни верность не были сильными сторонами характера Гарри. Если Селия, такая хорошенькая, такая девственно нетронутая, нежная, как персик, будет с ним рядом в постели каждую ночь, он быстро позабудет те чувственные наслаждения, которые ему дарила я. Именно Селия станет для него центром вселенной, и когда мама предложит мне выйти замуж, он с энтузиазмом поддержит эту идею, полагая, что любой брак столь же идеален, как его собственный. И я полностью утрачу власть над Гарри, ибо все его устремления будут связаны с очаровательной Селией. Над ней-то я, похоже, уже утратила всякую власть, поскольку ее женская холодность, которую я считала абсолютно надежной защитой для себя, растаяла, как лед под солнцем. Если она способна смущенно хихикать, говоря о том, что Гарри отныне будет спать в ее постели, значит, ее больше уже нельзя, как ребенка, запугать таким «пугалом», как страстный муж. Наша Селия стала женщиной и учится не только управлять собственными желаниями, но и потакать им. И в лице Гарри она, безусловно, найдет любящего наставника.
Я стояла в одиночестве среди сада и рассеянно помахивала поводьями. Я еще не знала, каким образом мне удастся вернуть свою власть над Гарри, помешать ему соскользнуть в супружеское блаженство. Селия может подарить ему настоящую любовь; она переполнена нежностью и извечной женской потребностью кого-то любить. И душа у нее куда более любящая, чем у меня; да я никогда бы и не захотела стать такой, как она. И наслаждение Селия вполне способна подарить Гарри. Ночь с женщиной, обладающей таким хрупким прелестным телом, исполненной чистой любви и нежности, – этого более чем достаточно для любого мужчины; мало кто из них получает столько в реальной жизни, не считая снов, разумеется.
Но должно же быть что-то такое, на что я способна, а она нет! Должна же найтись какая-то зацепка, которая поможет мне удержать Гарри, даже если в нем вдруг проснется по-настоящему любящий муж и пылкий любовник. Я держала Гарри на привязи целых два года, я знала его лучше, чем кто бы то ни было другой, значит, у меня должна быть в запасе некая нить, за которую я могу потянуть и заставить его плясать под мою дудку. Я торчала в саду, как статуя Дианы-охотницы, – высокая, гордая, прелестная и страшно голодная, ибо уже близился вечер, сентябрьские тени становились все длиннее, а солнце горело уже совсем низко над крышами Широкого Дола, и в его свете светлые каменные стены дома казались розовыми. Понемногу мысли мои прояснились; я перестала помахивать в воздухе поводьями, гордо вздернула голову и улыбнулась прямо в лицо яркому закатному солнцу. А потом тихонько промолвила одно лишь слово: «Да!»






