Широкий Дол Грегори Филиппа
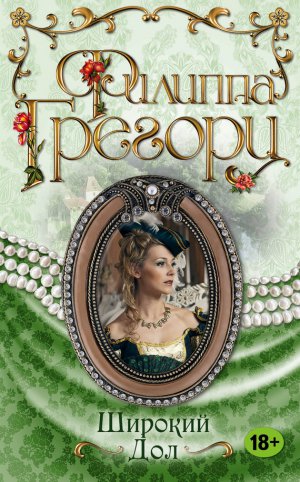
Он крикнул вознице: «Следуйте за мной!», и, пришпорив коня, поехал впереди, направляясь к берегу реки.
За едой я не стала рассказывать о письме доктора МакЭндрю. Затем Гарри взял свои драгоценные удочки и добрых полчаса просидел у реки, но вернулся с пустой сеткой. Лишь после этого я показала ему письмо доктора, а потом еще и мамино, которое было гораздо длиннее, на исписанном с обеих сторон и дважды сложенном листе бумаги. Ее письмо было полно тревоги по поводу приближающейся зимы и озимого сева; она явно была в смятении, совершенно не представляя, какие поля засевать, а какие оставлять под паром.
– По-моему, нам следует немедленно вернуться домой, – заявил Гарри. Он быстро прочитал коротенькое письмецо доктора, но довольно долго разбирался в маминых каракулях – она всегда писала, как курица лапой. – Мама, как известно, всегда была подвержена сердечным хворям, и я бы не хотел довести ее до очередного приступа волнениями по поводу поместья.
– Согласна. Давай поскорее поедем домой, – сказала я. – Доктор МакЭндрю, правда, пишет, чтобы мы особенно не волновались, но, по-моему, он и вовсе не стал бы писать нам, если бы ситуация не была достаточно серьезной. Скажи, как нам отсюда побыстрее добраться до дому?
– Нам повезло, что сейчас мы еще в Бордо, – сказал Гарри. – Если бы письмо доктора застало нас в Италии или в центральной Франции, путь домой занял бы несколько недель. А отсюда мы можем доплыть до Бристоля на любом почтовом судне и там пересесть на дилижанс.
Я улыбнулась. Все пока что складывалось очень удачно, и я решила не спешить. Заметив удивленный взгляд Селии, я слегка сдвинула брови, и она послушно промолчала.
Лишь несколько часов спустя я вновь подняла проблему отъезда, напомнив Гарри о своей морской болезни, и сказала, что не уверена в своих силах, тем более на этот раз плавание по морю должно было быть более длительным.
– Ты, конечно, считаешь, что я неблагодарная дочь и совсем не люблю маму, – сказала я, храбро улыбаясь, – но, Гарри, я, честное слово, просто боюсь снова ступить на палубу корабля, тем более в ноябре. Мне и Английский-то канал теперь пересечь страшно.
Мы, как всегда после обеда, сидели в нашей маленькой гостиной, и Гарри писал ответное письмо, держа перед собой расписание подходящих судов. Он тут же перестал писать и озадаченно спросил:
– И как же нам теперь быть, Беатрис? – Он смотрел на меня сейчас точно так же, как на Селию, когда жаждал ее дружеской ласки и утешения.
– Ты в первую очередь нужен маме, – сказала я, – так что, по-моему, тебе следует выехать в Англию сразу же, а мы с Селией можем пока остаться здесь, пока ты не напишешь нам, как обстоят дела дома. Если мама по-прежнему будет плохо себя чувствовать – даже если ты освободишь ее от всех забот о поместье, – то я соберу все свои силы и мужество и погружусь на первое же судно. Но если ты напишешь, что вполне удовлетворен ее состоянием и уверен, что никакой опасности нет, тогда мы спокойно доберемся до берегов Английского канала на почтовом дилижансе и там сядем на какой-нибудь корабль, идущий в Портсмут.
– Правильно, или я сам за вами приеду и заберу вас домой, – подхватил Гарри, совершенно успокоившись. – В крайнем случае, я кого-нибудь надежного за вами пошлю. Ведь нельзя же вам путешествовать одним. По-моему, это просто прекрасный план!
Я улыбнулась и кивнула, стараясь не показать, насколько довольна его решением. Гарри не только полностью разделял мои идеи, но, что примечательно, на Селию ни разу даже не взглянул и не попытался узнать ее мнение. Она могла ехать с ним домой или оставаться во Франции – это уж как мне будет угодно.
– А что насчет слуг? – спросил Гарри. – Своего лакея я, конечно, возьму с собой, но тогда вы останетесь с двумя горничными и двумя экипажами.
– Ох, не пугай меня! – рассмеялась я с притворным испугом. – Мы же пробудем здесь всего несколько дней, а потом последуем за тобой! Или ты считаешь, что мы с Селией настолько глупы, что нам недостаточно одной французской горничной? Прошу тебя, Гарри, не заставляй нас возиться со слугами и экипажами, чтобы доставить все это домой!
Гарри усмехнулся.
– Ну, конечно, не буду, раз вы не хотите. Я могу забрать с собой не только экипажи, но и самые тяжелые чемоданы, а заодно и ваших горничных, если они вам не нужны.
– Да уж, пожалуйста, забери их всех, – сказала я и повернулась к Селии. – Ты не возражаешь, если мы несколько дней проживем без горничной?
Селия даже головы от шитья не подняла – она совсем не умела лгать и прекрасно знала это, а потому, не глядя на меня, ровным голосом сказала:
– Конечно же, нет.
– Ну, и прекрасно! – воскликнул Гарри. – Значит, решено. Пойду договорюсь с хозяином гостиницы. – Уже на пороге он остановился и, решив проявить вежливость, спросил: – Надеюсь, Селия, ты не слишком всем этим огорчена?
– Ну что ты! – Селия была, как всегда, великодушна. – Раз так нужно тебе и Беатрис, я готова.
Селия молчала, пока за Гарри не закрылась дверь. Затем, глядя на меня со смешанным чувством ужаса и восхищения, сказала:
– Беатрис, ты же почти ничего не сделала, но все вышло именно так, как ты и хотела!
Я улыбнулась, старательно подавляя самодовольство, и заверила ее:
– Да, так бывает почти всегда.
Гарри уехал, и наша с ним последняя ночь была исполнена медлительной, томительной нежности. Он был чрезвычайно сентиментален. Ведь мы с ним ни одной ночи не провели врозь с тех пор, как высадились во Франции, и вообще с тех пор, как стали любовниками, всегда ночевали под одной крышей. Теперь он уезжал от меня, готовясь взять на себя ответственность за управление большим поместьем, чувствуя себя взрослым, женатым мужчиной, и я, лежа с ним рядом, чувствовала, что он прямо-таки сияет от гордости. Я улыбнулась ему, а он сказал с гордостью любовника и обладателя:
– Боже мой, Беатрис, ты с каждым днем становишься все прелестней! – Он уткнулся лицом в теплую ложбинку между моими набухшими грудями. – Я тебя просто обожаю! Мне так нравится, что ты чуточку потолстела. – Он поцеловал меня в грудь и взял в рот сосок. Я взъерошила ему волосы и чуть оттолкнула, направляя его голову вниз, по ставшему округлым животу, вниз, вниз, чтобы его горячие влажные поцелуи оставляли на нем дорожку…
Это была просто игра, легкое поддразнивание друг друга – наши усталые тела были вполне удовлетворены после ночи любви. Я испытывала наслаждение не столько от этих легких чувственных прикосновений, сколько от сознания, что и эта ночь, и это утро только наши и никто нас не прервет, ничто нам не помешает.
– Когда мы вернемся домой, – сказала я, лениво раскинувшись на постели, – давай сделаем так, чтобы мы могли спокойно побыть вдвоем и днем, и ночью, как сейчас. Я больше не желаю, как раньше, прятаться в холмах или красться среди ночи по темным коридорам.
– Нет, так больше не будет, – сказал Гарри, с несколько отсутствующим видом приподнимаясь и вновь укладываясь на подушку рядом с мной. – Я уже приказал открыть ту дверь, что ведет из моей гардеробной в западное крыло, и теперь смогу в любое время приходить на твою половину дома – даже холл пересекать не нужно. И никто ничего не узнает. Например, я смогу навещать тебя, когда остальные уже будут спать.
– И к чаю заглядывать, – сказала я, улыбаясь.
– И к завтраку, – подхватил он.
Он повернулся и посмотрел на часы, лежавшие на прикроватном столике.
– Мне пора одеваться, – сказал он. – Селия скоро вернется – она поехала закупать провизию в дорогу. Кроме того, я должен убедиться, что она собрала и упаковала все мои бумаги и документы.
Я кивнула, но даже не пошевелилась.
– Напиши мне сразу же, как только приедешь, – сказала я. – Мне ужасно хочется узнать, как у нас дома дела. Не забудь, сообщи, у кого из коров родились телята, что там с озимыми и хватит ли нам сена.
– И о маме, – сказал Гарри.
– Да, и о маме, – согласилась я.
– Береги себя, Беатрис, – вдруг с нежностью сказал Гарри и потянулся за свежей сорочкой. – Как бы я хотел, чтобы ты поехала со мной! Мне даже думать неприятно, что приходится оставлять вас здесь одних.
– Чепуха, – мягко возразила я и выскользнула из постели. – У меня с Селией прекрасные отношения, и все у нас будет хорошо. Мы соберемся и неторопливо двинемся к дому; кстати, мы сможем выехать вместе с леди Дейви и ее дочерьми, как только они вернутся в город. А потом ты встретишь нас в Портсмуте или, если захочешь, можешь даже во Францию за нами приехать.
– Вполне возможно, я именно так и сделаю, – повеселел Гарри. – Но только если сумею как-то привыкнуть к качке. На самом деле и меня, должен признаться, здорово страшит долгое плавание. Ты-то от него отреклась, маленькая трусиха.
– Ага, цыплячье сердце, – с улыбкой согласилась я и повернулась к нему спиной, приподняв свои длинные волосы, чтобы он застегнул маленькие пуговички у меня на спине, до которых мне было трудно добраться. Гарри довольно долго возился с мелкими петельками, а потом наклонился и поцеловал меня в шею под волосами, нежно прикусив кожу зубами. Я прислонилась к нему, наслаждаясь сладостным холодком, который пробегал у меня по всему телу от этих невинных ласк. Мне страшно хотелось признаться, что у нас будет ребенок. И я даже на мгновение подумала, как бесконечно счастлив был бы Гарри, услышав об этом, если бы мы действительно были любящей супружеской парой, а не просто притворялись, что это так.
Но природная осторожность и холодная рассудочность удержали меня от подобного признания. Ведь это были всего лишь отголоски минувшей ночи любви. Я прекрасно понимала, что Гарри уже и так делит свою привязанность и верность между мной и Селией, и не могла рисковать, опасаясь, что он, возможно, захочет защитить Селию от того оскорбительного положения, в котором она в таком случае окажется. Сама-то она, возможно, и проявила чрезмерную наивность и даже глупость, не понимая, что ее согласие выдать моего сына за своего навсегда низводит ее собственных детей на более низкую ступень, но Гарри не настолько глуп. Он никогда не согласится сделать наследником моего сына-бастарда (даже будучи его отцом), зная, что его собственная жена может родить ему законных сыновей.
При мысли об этом мое чудесное настроение и уверенность, порожденная нежностью и любовью Гарри, моментально улетучились. Нет, всех моих тайн я не доверю никогда и никому, даже моему милому Гарри! Наше совместное путешествие послужило тому, что мы с ним стали очень близки и, пожалуй, слишком беспечны, но во мне все же сохранились и острота мышления, и холодное здравомыслие, которых моему брату порой недоставало. Да, я страстно любила Гарри, и все же он никогда не вызывал во мне той дрожи, которая всегда охватывала меня, стоило Ральфу искоса бросить на меня лишь один горячий взгляд. Я даже представить себе не могла, чтобы Гарри ради меня решился на страшный грех, на преступление, и пришел бы ко мне с окровавленными руками. В отношениях с Гарри повелевала всегда я; с Ральфом же мы были ровней – оба одинаково чувственные и страстные, одинаково сообразительные и мудрые. К Ральфу я сама испытывала страстное вожделение, а от Гарри просто принимала весьма приятное мне поклонение, и он осыпал меня поцелуями, точно ошалевший от любви юнец.
Я и без того таила в своей душе вину за два достойных виселицы преступления; теперешняя попытка столь невероятным образом избавиться от ублюдка была бы сочтена тяжким преступлением. А потому больше никто и никогда не заглянет так глубоко в мою душу, как это было позволено Ральфу в те далекие дни. Никто и никогда не услышит от меня прямого ответа. Ибо не только Ральфа искалечили тогда челюсти того чудовищного капкана – моя честь, моя честность тоже навсегда были ими сломлены. И я была права, стараясь быть осторожной с Гарри. Его следующие слова это доказали.
– Позаботься о Селии, Беатрис, – сказал он, повязывая свежий галстук и критически изучая себя в зеркало. – Она была так мила в течение всего нашего путешествия. Я бы не хотел, чтобы она слишком сильно без меня скучала. Присмотри за ней и напомни мне, чтобы я перед отъездом дал вам сколько-нибудь денег на карманные расходы – вдруг ей чего-нибудь захочется, так пусть она непременно это себе купит.
Я кивнула, не сказав ему ни слова упрека, хотя он готов был бросить на ветер деньги Широкого Дола, лишь бы женщина, у которой и так всего довольно, могла купить себе очередную безделушку.
– Я буду тосковать по тебе, – сказал Гарри, вновь поворачиваясь ко мне и обнимая меня. Я прижалась лицом к его чистой накрахмаленной рубашке, с удовольствием вдыхая запах проглаженного полотна и теплый запах самого Гарри. И тут он вдруг заявил, словно чему-то удивляясь: – А знаешь, я ведь, пожалуй, буду тосковать по вам обеим! Приезжайте домой как можно скорее, хорошо, Беатрис?
– Конечно, – сказала я.
Глава девятая
Разумеется, я ему солгала.
Да и сложившиеся обстоятельства были мне на руку и позволяли лгать с необычайной легкостью. Но сперва я решила выждать, и мы еще около месяца прожили в Бордо, в той же старой гостинице, пока, наконец, не получили письмо от Гарри. Вскрыв его, я улыбнулась, ибо в нем было именно то, чего я и ожидала. Наша любящая мамочка, заполучив обратно своего «золотого мальчика», совершенно не собиралась вновь отпускать его из дома. Гарри нервным мальчишеским почерком писал, что в поместье возникли проблемы: во-первых, кое-кто оспаривает границы наших владений; во-вторых, невероятно расцвело браконьерство и дичь воруют прямо из устроенных егерями убежищ; в-третьих, одно из полей, которое мы хотели оставить под паром, по ошибке распахали; а у одного из арендаторов в амбаре случился пожар, и теперь он просит денег в долг, а кроме того…
«Мама, похоже, просто ошеломлена тем, сколько труда и забот требует управление поместьем, – писал Гарри. – Приехав, я обнаружил, что у нее бывают сильнейшие приступы удушья, после которых ей приходится несколько дней лежать, потому что она совершенно лишается сил. Она даже от доктора МакЭндрю скрыла, сколь тяжелы эти приступы. Я просто не могу сейчас оставить ее одну, не могу снова переложить всю ответственность за поместье на ее хрупкие плечи, а потому умоляю тебя, моя бедная милая Беатрис: наймите экипаж и незамедлительно отправляйтесь домой – либо по суше через всю страну, либо по морю».
Я читала и согласно кивала головой; я и не сомневалась, что наша мать не в состоянии справиться с таким хозяйством. Поместье требует полной отдачи сил и времени даже от тех, кто любит землю и понимает все, что с ней связано. А для таких слабых и некомпетентных людей, как моя мать, подобная ноша может оказаться и вовсе непосильной; их постоянно будет угнетать бремя чрезмерной ответственности и ощущение того, что все у них получается не так, как надо. Я сознательно пошла на этот риск, оставив поместье в слабых маминых руках, потому что не смогла позволить Гарри и Селии отправиться путешествовать вдвоем, без меня. Теперь мне снова приходилось положиться на удачу и надеяться, что Гарри не нанесет Широкому Долу еще больший вред, пока меня там не будет. Ибо Гарри теперь предстояло оставаться в Англии до тех пор, пока во Франции не появится на свет наш сын.
Я взяла перо и, рассеянно покусывая кончик, стала обдумывать ответное письмо. Вскоре я уже полностью погрузилась в дела поместья. Распаханное поле нужно засеять клевером; незадачливому арендатору следует дать заем под два процента, которые он обязан выплачивать либо наличными, либо тем, что производит на своей ферме, а в качестве залога можно забрать его скот; а егеря Гарри пусть либо заставит лучше охранять нашу дичь, либо уволит. Лорд Хейверинг подскажет, где можно найти другого егеря. Затем тон моего письма стал более интимным. Я написала Гарри, что ужасно по нему скучаю (и это была чистая правда), что без него мне во Франции мало радости (это лишь наполовину было правдой), что я мечтаю только о возвращении домой (а уж это была чистейшая ложь). Я еще немного погрызла кончик пера, подыскивая нужные слова, чтобы сообщить Гарри о беременности Селии.
«Но, как бы сильно я ни желала вернуться в Широкий Дол, моим желаниям в кои-то веки осуществиться не суждено! – написала я, как бы желая слегка пошутить. – Селия в данный момент никак не может пускаться в столь далекое путешествие, и существует один-единственный аргумент, который способен отвратить ее от попытки все же отправиться в путь, один-единственный аргумент, способный помешать и моему отъезду домой, ибо я ни в коем случае не хочу оставлять ее здесь одну. Не стану мучить тебя загадками. Я безумно рада сообщить тебе, что у Селии будет ребенок».
Все это звучало достаточно бодро и жизнерадостно, ибо я прекрасно сознавала, что Гарри может прочитать мое письмо вслух маме или леди Хейверинг. И я снова задумалась. Из моего письма должно было следовать, что здоровье Селии не позволяет ей совершать какие бы то ни было переезды, однако нельзя было допустить, чтобы Гарри пришло в голову, будто его жена до такой степени плохо себя чувствует, что ему важнее быть рядом с ней, а не с матерью. Ведь тогда он немедленно примчался бы сюда. Я, конечно, рассчитывала на то, что мать в любом случае постарается удержать Гарри дома, но с ней никогда ничего нельзя было знать наперед. Она, например, вполне способна была потерять голову от нахлынувших на нее нежных чувств к невестке и будущему внуку и сама отправить Гарри во Францию в приступе совершенно неуместного самопожертвования.
«Она прекрасно себя чувствует, – написала я, – и совершенно счастлива, но, к сожалению, любое покачивание – кареты или тем более судна – вызывает у нее приступы жесточайшей тошноты. Местная акушерка, которая, кстати, прекрасно говорит по-английски – особа, надо сказать, весьма внимательная и умелая, – советует нам не предпринимать вообще никаких передвижений, по крайней мере, до четвертого месяца беременности, когда, как она предполагает, все неприятные явления исчезнут и мы сможем, наконец, поехать домой».
Следующую страницу письма я заполнила уверениями, что неустанно забочусь о Селии и Гарри совершенно не о чем беспокоиться. Я сообщила, что пока мы планируем наш отъезд месяца через два, и осторожно намекнула, что Гарри не стоит и думать о том, чтобы ехать нас встречать в порту или тем более во Франции, заранее нас не предупредив. «Представь, какой ужас, если наши корабли разминутся в море – мы будем плыть домой, а ты из дома!» – написала я и подумала, что это достаточно веский аргумент, и теперь он постоянно будет сидеть дома и ждать.
Я также предусмотрительно заметила, что к тому времени, как неприятные симптомы у Селии пройдут, у нас, возможно, возникнут определенные трудности с тем, чтобы найти подходящее судно. Ведь тогда уже начнутся зимние штормы, да и срок родов приблизится, и придется серьезно подумать, что лучше: несколько дней трястись в карете по неровным дорогам или же медленно плыть по бурному морю. Я полагала, что если каждое письмо будет звучать так, словно мы вот-вот готовы тронуться в путь и Гарри может ждать нас со дня на день, то и моему брату не достанется никаких упреков от друзей и соседей в том, что сам он благополучно проживает на родине, в своем поместье, а эти бедняжки, его жена и сестра, одни мыкаются во Франции. Я понимала, что мне еще не раз придется прибегнуть в своих письмах к разнообразной лжи, но была уверена: я прекрасно сумею с этим справиться.
А пока что тело мое все больше округлялось, и я уже сама с трудом верила, что сумела обрести такую форму – точно толстый цветок тюльпана на тонком стебле. Из той гостиницы мы выехали сразу же после отъезда Гарри и сняли меблированные комнаты в пригородах Бордо на южном берегу реки Жиронды. Каждый день, просыпаясь, я видела на потолке своей спальни пляшущие солнечные зайчики, отражавшиеся от воды, и слышала громкие голоса рыбаков и лодочников, перекликавшихся с одного берега на другой.
Вдова, хозяйка нашего дома, считала меня молодой замужней англичанкой, а Селию – моей золовкой. Так что любые сплетни, если бы они возникли в дальнейшем, легко было бы свести на нет, столь близка была сообщенная нами ложь истинному нашему родству.
Неторопливый ритм первых зимних дней в точности соответствовал тому ленивому настроению, которое овладело мной к середине беременности. Я чувствовала себя тяжелой и бесконечно усталой; больше всего удовольствия доставляло мне сидеть, придвинув козетку поближе к жарко горевшему камину и подняв повыше ноги, и смотреть, как Селия шьет или вышивает изысканное приданое для новорожденного принца, наследника Широкого Дола.
Какой искренней радостью осветилось ее лицо, когда я однажды призналась:
– Он брыкается! – И милостиво разрешила: – Можешь сама потрогать, если хочешь.
– Ой, правда? – обрадовалась Селия, положив свою нежную ручку на мой вздувшийся живот. Она вся напряглась в предвкушении чего-то необычного, и удивительно нежная улыбка расцвела у нее на устах, когда она почувствовала слабые движения того комочка, что жил во мне.
– Ого! – радостно выдохнула она. – Какая она сильная! – И на лицо ее вдруг набежала тень. А я подумала: до чего же все-таки она глупа! Неужели она до сих пор ни разу не вспомнила о Широком Доле? – А что, если родится мальчик? – спросила она. – Наследник?
Лицо мое по-прежнему было ясным, а улыбка – уверенной. Я была готова к этому вопросу.
– Я знаю, что это девочка, – сказала я. – Я, может, и сказала «он», но я твердо знаю: это девочка. – Я была абсолютно уверена, что говорю неправду и на самом деле я ношу в своем чреве именно наследника Широкого Дола. – Это девочка, – повторила я. – Я обещаю тебе, Селия: будет девочка. Мать всегда знает, кто у нее родится.
Сильный холодный ветер, который всю зиму дул с моря, понемногу улегся; наступила чудесная ранняя весна. Я тосковала по Широкому Долу, точно преступник в ссылке, и лишь с трудом могла уговорить себя, что это время года во Франции поистине прекрасно. Как-то вдруг, совершенно неожиданно, стало очень тепло, даже жарко; позади остались долгие дни ожидания весеннего солнца. Я посмотрела на календарь, и сердце мое радостно подпрыгнуло: я поняла, что, если все будет хорошо и новый наследник родится точно в срок, мы еще успеем вернуться домой, когда в нашем тенистом парке будут цвести дикие нарциссы.
Мадам позаботилась об акушерке, с которой и сама была хорошо знакома; эта акушерка успешно приняла немало родов, и ее часто приглашали для подобных услуг в самые знатные дома. На всякий случай мы узнали также, какого хирурга следует звать в случае непредвиденных осложнений. К своему удивлению, я поняла, что втайне тоскую по спокойным, уверенным и довольно прохладным манерам доктора МакЭндрю; я даже улыбнулась, представив себе, что он сказал бы, узнав, что прелестная мисс Лейси готовится к родам во Франции. Когда старая акушерка стала втирать в мой раздувшийся живот целебные масла, а Селия принялась развешивать над дверью засушенные цветы и травы и посыпать дрова в камине каким-то особым порошком, меня охватило нетерпение, смешанное с отвращением: это уж были настоящие языческие суеверия! Я определенно предпочла бы, чтобы доктор МакЭндрю, глядя на меня своими светлыми честными глазами, прямо сказал мне, трудными будут эти роды или нет. Но его рядом не было, и мне пришлось полагаться на свои представления о крестьянских семьях, где даже у самых глупых женщин всегда было полно детишек, а я была уверена, что уж с моим-то умом я как-нибудь сумею со всем справиться и родить хотя бы одного.
Когда, наконец, пришло мое время, все получилось на удивление легко – по словам акушерки, благодаря тому, что я, девчонка-сорванец, в отличие от благовоспитанных французских барышень с раннего возраста ездила верхом в мужском седле. Я проснулась среди ночи вся мокрая и сказала сонно: «Боже мой, он выходит!» Я больше не прибавила ни слова, не закричала, но Селия все равно услышала меня, даже находясь в соседней комнате. Она тут же вскочила и через несколько секунд оказалась возле меня; затем послала мадам за акушеркой, а сама приготовила колыбель и свивальники, вскипятила воду и села тихонько в моем изголовье, в любую минуту готовая помочь мне.
Это была тяжелая работа вроде перетаскивания тюков сена или выталкивания конной повозки из конюшни. Это было действительно тяжело, но я понимала, что и должна так тяжело работать. Впрочем, особых болей я не чувствовала. Несколько раз я, по-моему, все же вскрикнула, но мой оставшийся вполне трезвым разум тут же напомнил мне, что следует сдерживаться и ни в коем случае не позволять себе произносить вслух ни одного имени.
Селия все время держала меня за руку, и лицо у нее становилось почти таким же белым, как приготовленные для ребенка свивальники, когда я, приподнявшись, почти садилась в постели, сгибаясь над вздувшимся, напряженным животом, мышцы которого буквально вставали дыбом, отчего он становился почти квадратным, как ящик. Я почти видела очертания тела моего сына, моего дорогого малютки, наследника Широкого Дола, который так храбро и уверенно прокладывал себе путь из моего тела на свободу и вот-вот должен был появиться на свет.
– Poussez, madame! – вопила акушерка.
– Poussez! – кричала вдова.
– Они говорят: «тужься», – выдохнула Селия, совершенно обалдевшая от шума, суеты и моих бесконечных физических усилий. У нее был такой вид, что я чуть не рассмеялась, но уже через минуту мне стало не до смеха: мышцы моего живота вновь мощно сократились, и благодаря этой волне мой дорогой мальчик продвинулся еще на дюйм, и акушерка отчаянно закричала:
– Arretez! Arretez![18] – Затем, низко наклонившись, она вытерла краем перепачканного кровью передника нечто, что больше уже не было мною. Я увидела, как глаза Селии наполняются слезами, и услышала слабенький журчащий плач. Мой сын, мой наследник приветствовал этот мир своим первым криком после того, как с последним толчком, извиваясь и суча крошечными ножками, выплыл, наконец, на свободу. Акушерка приняла его и сразу же, точно выброшенную на берег рыбку, положила на мой живот, вдруг снова ставший плоским.
Я восхищенно смотрела в глаза ребенка, такие густо-синие, что даже белки казались голубоватыми, как утреннее небо над Широким Долом. Я коснулась его влажной головки, покрытой темными, но, пожалуй, уже с рыжевато-каштановым отливом волосами – в меня. Я рассмотрела его крохотные пальчики, увенчанные идеальными миниатюрными раковинками розовых ноготков.
– Vous avez une jolie fille[19], – одобрительно сообщила акушерка и занялась пеленками.
Я оторвала взгляд от своего малютки-сына и с некоторым изумлением посмотрела в озабоченное лицо Селии.
– У тебя родилась девочка, – с нежностью и восхищением повторила Селия.
Но мне невыносимо было слышать эти слова ни по-английски, ни по-французски. Этот ребенок, которого я так старательно и долго вынашивала, ради которого целую ночь терпела родовые муки, мог быть только моим сыном, наследником Широкого Дола. Он был концом и триумфом моего грехопадения и мучительной борьбы за место в жизни. Он, мое дорогое дитя, должен был унаследовать Широкий Дол по неоспоримому праву. Это мог быть только сын, мой сын, мой сын!
– Чудесная девочка! – снова с восторгом сказала Селия.
Я так резко повернулась, что ребенок чуть не упал, но Селия оказалась достаточно проворной и подхватила малышку. Девочка пронзительно закричала, а я резко от нее отстранилась и заплакала.
– Забери это маленькое отродье, – с ненавистью сказала я обнимавшей меня Селии; теперь мне было совершенно безразлично, что кто-то может услышать эти слова. – Убери ее от меня, возьми ее себе. Ты же сама дала на это согласие. Ты все время хотела девочку, вот теперь ты ее и получила.
И всю ночь, не испытывая ни малейшего раскаяния, я слушала, как настойчиво и жалобно плачет голодный ребенок, а Селия ходит с ним на руках по комнате, пытаясь его успокоить и баюкая разными песенками. Впрочем, и ее голос в ночи звучал все тоньше и жалобней. Я то задремывала, слушая ее пение, то просыпалась, и каждый раз меня охватывали гнев и горькое разочарование. Всю жизнь мне отказывали в правах на Широкий Дол! Мне, которая больше всех любит эту землю, которая всегда лучше всех ей служила, которая ради этой земли строила заговоры и даже калечила людей! И вот в очередной раз мои мечты не сбылись. Один лишь миг удачи – и я бы на всю жизнь обрела там свое надежное место в качестве матери наследника. Я хранила бы свою тайну глубоко в сердце во имя собственного покоя, а может быть, воспользовалась бы ею ради собственной выгоды или удовольствия, или, возможно, шепотом поведала бы ее однажды своему повзрослевшему сыну – это стало бы ясно лишь со временем. Но я родила не сына, а какую-то жалкую, ничего не значащую девчонку, которую, естественно, вытеснит первый же мальчик, родившийся у Селии; а потом, когда она подрастет, ее выдадут замуж куда-нибудь подальше от Широкого Дола – в точности как теперь собираются поступить и со мной.
Рождение этой девочки означало крушение всех моих планов, и пока что я не находила в себе сил, чтобы справиться с жестоким разочарованием. Я так долго ждала этого разрешения от бремени, я вытерпела столько мук, совершила столько физических усилий и в итоге произвела на свет никому не нужную девочку – да, пилюля оказалась слишком горькой, чтобы я сразу сумела ее проглотить. В своих неясных полуснах я со странным ощущением утраты горевала по своему так и не рожденному сыну, по тому сыну, которого давно уже с гордостью и нежностью представляла себе. А во время своих полупробуждений я с горечью и смятением мысленно обращалась не к Гарри, а к Ральфу и думала: «Теперь и я понесла жестокую утрату, так что не один ты пострадал из-за Широкого Дола. И в этой борьбе ты потерял ноги, а я – сына». В этих мысленных разговорах с Ральфом я обретала некое утешение – ведь только он один способен был бы понять ту душевную боль, которая меня теперь терзала.
Но потом в мои полусны являлся некий ужасный всадник на огромном черном жеребце, и я с криком садилась в постели, не успевая толком проснуться.
На этот раз, когда я снова проснулась от собственного крика, уже наступило солнечное утро. Из-за закрытой двери доносились звуки и запахи готовящегося завтрака, и мне вдруг страшно захотелось съесть горячий круассан и выпить крепкого черного кофе, который, я надеялась, принесут мне мадам или Селия. У меня болело все тело, а внизу живота было такое ощущение, словно меня туда ударил копытом жеребец, и я чувствовала себя такой же усталой, как после целого дня охоты. Но живот мой опять стал плоским, хотя и выглядел белым и дряблым, как молочный пудинг. Ничего, я постараюсь как можно быстрее от этого избавиться! – подумала я и, задрав ночную сорочку, осмотрела свои бедра и колени, которые несколько месяцев кряду скрывались от меня за вздымавшимся горой животом. Затем я самым искренним образом поблагодарила наших древних богов за то, что мой пупок вновь стал прежним, лишь чуть-чуть выступающим, и больше не торчит, похожий на вход в кротовую нору, как в последние месяцы беременности.
Окутанная приятным настроением в связи с возвращением к прежней форме, я приветливо улыбнулась вошедшей Селии, которая принесла мне поднос с завтраком. Кто-то нарвал мне в саду букетик белых фиалок; их прохладный влажный аромат вызвал в моем сердце пронзительную тоску, напомнив о лесах Широкого Дола, где у корней деревьев были россыпи таких фиалок, белых и голубых, похожие на маленькие чистые озерца. Вместе с ароматом фиалок комнату наполнил также чудесный запах крепкого кофе, который всегда варила мадам, и на подносе были и золотистые круассаны, и мягкое несоленое масло. В общем, я была так голодна, словно целый год постилась.
– Замечательно! – воскликнула я и, поставив поднос на колени, налила в чашку черный как деготь кофе и набросилась на круассаны. Только когда я отполировала тарелку, облизав указательный палец и подобрав с его помощью каждую хрустящую крошечку, я, наконец, обратила внимание на то, какой бледной и усталой выглядит Селия.
– Ты нездорова? – с некоторым удивлением спросила я.
– Я просто устала, – тихо ответила она, но в ее голосе чувствовалась некая еще не знакомая мне, скрытая сила. – Малышка всю ночь плакала. Она голодная, но не берет ни пустышку, ни соску. И козье молоко пить не желает. А у той кормилицы, которую нам обещали, внезапно пропало молоко. Мадам сегодня с самого утра пытается найти другую кормилицу. Но девочка, боюсь, ждать не может: ребенок должен кушать вовремя.
Я откинулась на подушки, глядя на Селию из-под длинных ресниц с непроницаемым выражением лица.
– По-моему, тебе следовало бы самой ее покормить, – ровным тоном сказала Селия. – И делать это, пока мы не найдем кормилицу. Извини, но, боюсь, у тебя просто нет выбора.
– Но я надеялась, что мне не придется этого делать. – Я старательно притворялась, будто колеблюсь, испытывая на прочность эту новую, странно решительную Селию. – Я полагала, что ради самой девочки и ради всех нас мне лучше пореже видеть ее, особенно в первые дни, пока я еще весьма слаба и пребываю в несколько расстроенных чувствах. – Я позволила своему голосу чуть дрогнуть и впилась взглядом с Селию, ожидая ее ответной реакции.
– Ах, Беатрис, мне так жаль, что я заговорила об этом, – смутилась она. – Я была не права, думая только о малышке. Конечно же, я тебя понимаю; я понимаю, что тебе лучше не видеть ее, пока ты немного не привыкнешь… к тому, о чем мы договорились. Я просто не выдержала ее плача, и моя тревога за нее оказалась сильнее другой, более глубокой, тревоги за тебя. Пожалуйста, дорогая, прости меня!
Я кивнула, ласково ей улыбнулась и слабым движением руки попросила ее забрать поднос. А потом сползла пониже и устроилась на подушке со вздохом полного удовлетворения, который Селия приняла за вздох усталости.
– Да-да, я сейчас ухожу, и ты немного отдохнешь, – сказала она. – А за малышку можешь не опасаться. Я придумаю какой-нибудь способ, чтобы ее покормить. – Я кивнула. Да уж наверняка она это сделает! Вот если бы это был мальчик – мой сын, о котором я столько мечтала! – я бы никогда не позволила какой-то бедной французской крестьянке кормить его своим молоком и касаться его своими грязными руками. А эта девочка пусть выживает, как сумеет. В конце концов, сотни младенцев прекрасно растут на болтушке из муки и воды; вот и это отродье, наделенное неправильным полом, пусть так растет. Правда, сотни младенцев от подобной диеты попросту умирают, но такой исход во многих отношениях был бы, возможно, наилучшим для крикливой девчонки. Заставить Селию всю жизнь хранить тайну – задача достаточно сложная, она потребует от меня использования всех моих способностей и всей моей доброжелательности. Я не пожалела бы никаких усилий, чтобы увидеть моего сына в роли наследника Широкого Дола, но отдавать все свои силы ради какой-то жалкой девчонки, которая в лучшем случае займет одно из второстепенных мест, – нет, эта цена слишком высока, и никакой выгоды мне подобное самопожертвование не принесет. Дочка была мне совершенно ни к чему; девочки вообще никому не нужны. Разочарование было столь велико, что я закрыла глаза и постаралась снова уснуть.
Когда я проснулась, моя подушка была мокра от слез; по-моему, мне ничего не снилось, но, тем не менее, слезы так и лились у меня из глаз. Вот и сейчас, едва я ощутила под щекой влажное полотно, как к глазам моим вновь подступили слезы. Широкий Дол был так далеко, а я находилась в этой жарко натопленной комнате, в чужом городе, и между мной и родным домой лежало бескрайнее море с серыми волнами. Да, Широкий Дол был столь же далек от меня сейчас, как и моя заветная цель владеть им. Стремление к этой цели преследовало меня даже во сне, словно я ищу Священный Грааль, который никак не могу найти, и, возможно, потрачу на эти поиски всю жизнь, так и не обретя желаемого. Я слегка повернула голову, удобнее улеглась на подушке и прошептала одно лишь печальное слово – имя того, кто мог бы завоевать для меня Широкий Дол: Ральф.
И опять заснула.
Когда наступило время обедать, Селия принесла мне целую груду изысканных яств: артишоки, грудку цыпленка, овощное рагу, сладкие пирожки, бисквит, пропитанный вином и залитый взбитыми сливками, сыр. Я попробовала все и ела с таким отменным аппетитом, словно целый день ходила по полям Широкого Дола. Селия выждала, когда я покончу с обедом, а затем нала мне стакан ратафии. Я удивленно подняла брови, но все же сделала глоток, а она пояснила:
– Акушерка говорит, что тебе обязательно нужно каждый день выпивать стакан этой наливки, а вечером еще и бокал некрепкого пива.
– Господи, да зачем? – лениво сказала я, откидываясь на подушки и наслаждаясь сладким послевкусием ратафии.
– Чтобы было молоко, – храбро заявила Селия.
И я впервые заметила, что глаза у нее напряженно прищурены, так что в уголках даже появились морщинки, а на лице такое решительное выражение, какого я никогда не видела прежде. От этого ее нежное, как цветок, личико не утратило своего неяркого очарования, но бархатные карие глаза, всегда такие мягкие, смотрели по-иному. Я даже развеселилась невольно. Мне пришлось даже потупиться, чтобы Селия не заметила той насмешливой искры, что блеснула в моих зеленых глазах. Похоже, она как-то чересчур серьезно отнеслась к роли матери; если так пойдет и дальше, то к возвращению домой она совсем отощает и утратит всю свою привлекательность, а я рядом с ней буду выглядеть отдохнувшей и откормленной, точно избалованный хозяевами котенок.
– Видишь ли, – сказала Селия, – мы так и не сумели отыскать поблизости замену прежней кормилице, и мне пришлось послать записку священнику, возглавляющему приют Святой Магдалины. Бедные девушки приходят туда, чтобы родить там ребенка, но детей у них отбирают сразу после рождения. Я попросила мальчика с конюшни отнести в приют мое письмо с просьбой подыскать нам кормилицу, но не очень-то похоже, чтобы нам удалось кого-то найти. Между тем девочка все плачет, требуя материнского молока. Ничего другого она пить не желает – ни коровье молоко, ни козье, ни воду с мукой, ни просто чистую воду!
Я украдкой глянула на Селию. Меня эти известия по-прежнему совершенно не трогали. А вот выражение лица Селии меня встревожило, даже, пожалуй, потрясло: я поняла, что в некоторых ситуациях она может оказаться сильнее меня. Она так защищала эту никому не нужную девчонку, словно та и впрямь была ее родной дочерью! И тому, видимо, было несколько причин – месяцы подготовки и ожидания родов, волнение, желание угодить Гарри тем, как быстро у них появился первый ребенок и, наконец, сама нежная и любящая душа Селии с ее вечной потребностью о ком-то заботиться. Все это вместе и заставило ее так горячо полюбить малышку, едва та появилась на свет. Это она первой взяла новорожденную на руки. Это ее голос первым услышала девочка, и голос этот был полон любви. Ее руки впервые баюкали малышку, ее губы первыми коснулись нежной, чуть влажной, младенческой головенки. Селия испытывала все те чувства, какие женщина, впервые ставшая матерью, и должна испытывать по отношению к своему ребенку. И, естественно, теперь она своего ребенка защищала, сражалась за его жизнь и готова была растоптать любого, кто посмел бы ему угрожать. Я смотрела на нее с откровенным любопытством. В ней уже не чувствовалось прежнего абсолютного послушания и покорности забитой девицы, которой легко можно было внушить что угодно, которую я учила жизни, как учат породистого щенка. Передо мной была взрослая женщина, всецело преданная другому живому существу, пусть и очень маленькому, – и это делало ее невероятно сильной.
В данном случае Селия была, пожалуй, даже сильнее меня.
– Беатрис, – твердо заявила она, – тебе все-таки придется покормить малышку. Она не причинит тебе никакого беспокойства. Я сама ее принесу и унесу сразу же, как только ты ее покормишь. Я больше ни о чем тебя не попрошу – только корми ее, пожалуйста, каждые несколько часов, пока не будет найдена кормилица.
Она помолчала, ожидая ответа, но я по-прежнему не говорила ни слова. Хоть и была уже готова согласиться. Собственно, почему бы и нет? Вряд ли это так уж сильно испортит мою фигуру. Я была уверена, что вскоре сумею привести себя в порядок и стать столь же очаровательной, как и прежде. Зато, проявив чувствительность, я сильно выиграю в глазах Селии. И все же я колебалась: мне страшно хотелось узнать, на что еще способна эта новая, сильная Селия.
– Это ведь не более, чем на несколько дней, – продолжала она убеждать меня. – Хотя даже если бы это был год, я все равно непременно попросила бы тебя, Беатрис, чтобы ты ее кормила; я бы стала настаивать! Раз теперь этот ребенок мой, раз я приняла на себя всю ответственность за него, я во что бы то ни стало должна обеспечить его всем необходимым. А сейчас только ты одна можешь дать то, что ей, нашей девочке, более всего нужно.
Я нежно улыбнулась и с легкостью проявила великодушие:
– Конечно же, я ее покормлю, раз ты так этого хочешь, моя дорогая! Просто я даже не предполагала, что должна буду это делать. Мне казалось, что вы с мадам все прекрасно устроили. – Я чуть не расхохоталась, такое невероятное облегчение было написано у Селии на лице. – Можешь хоть сейчас ее принести, – милостиво разрешила я, – только не уходи и потом сразу же опять ее унеси. Мне наверняка снова захочется спать.
Селия стрелой вылетела из комнаты и тут же вернулась с маленьким плачущим свертком на руках. Каштановые волосики девочки оказались очаровательно мягкими и сами собой собирались в торчащий кудрявый хохол на макушке; впрочем, волосы ее еще, разумеется, могли измениться, как и темно-синие глаза. Она с такой серьезностью смотрела мне в лицо, словно хотела заглянуть прямо в душу, и я развлекалась тем, что пыталась играть с ней «в гляделки». Обычно я в эту игру побеждала всех – и кошек, и собак, и мужчин. Но синие-пресиние глаза этой малышки были совершенно невозможными; она так прямо, не мигая, смотрела на меня, что мне в ее взгляде чудилось даже некое безумие, и я испытывала не просто беспокойство, но даже, пожалуй, страх. Ее ручки были похожи на крошечные, съежившиеся морские звезды; из-под свивальника выглядывали ее маленькие ступни, напоминавшие не развернувшиеся еще молодые листочки; и от нее исходил тот самый запах, который я постоянно чувствовала и на себе – сладкий сильный запах родов и материнского молока. Я подавила в своей душе – без особых усилий, к счастью, – мимолетное ощущение своей неразделимой общности с этой крошкой. Увы, это был не сын. А девочка мне была ни к чему. Я в любом случае не желала ощущать свое родство с нею и испытывать к ней те чувства, которые уже успели начертить на лице Селии морщинки заботы и беспокойства, а под глазами у нее проложить темные круги.
Я довольно неловко прижала этот маленький сверток к груди, и руки Селии тут же взметнулись, желая помочь мне, но, как я заметила, она подавила это желание и решила подождать. Впрочем, ни она, ни я не знали, что и как нужно делать, но эта малышка явно отличалась бойцовским характером и, едва почувствовав запах молока, тут же ринулась в бой и потянулась своим смешным, каким-то треугольным ротиком к моей груди. На соске сразу выступила белая капля молока, и я почувствовала в груди странную тянущую боль, а потом огромное облегчение, когда девочка начала сосать. Она фыркала и сопела своим маленьким носиком, иногда сердито вскрикивая и протестуя против задержки, и тут же снова торопливо принималась за дело, смешно тараща глазенки и поглядывая в разные стороны. Потом смежила веки и принялась ровно и ритмично сосать. Я чуть подняла глаза над ее головенкой, прильнувшей к моей груди, и тут же встретилась с глазами Селии; мы обе улыбнулись, и я как ни в чем не бывало спросила:
– Как ты назовешь ее?
Селия наклонилась, слегка коснулась пальцем родничка, где сильно и решительно бился маленький пульс, и сказала со спокойной уверенностью:
– Это моя маленькая Джулия. И скоро мы вместе с ней поедем домой.
Я выждала еще пару недель, а потом написала письмо, которое давно уже составила в уме:
Мой дорогой Гарри!
С превеликой радостью и гордостью сообщаю тебе, что ты стал отцом! Ребенок родился чуть раньше срока, но вполне благополучно и совершенно здоровым. У тебя дочка, Гарри! Селия хочет назвать ее Джулия. Хрупкое здоровье твоей жены, правда, заставило нас немного поволноваться, особенно когда схватки начались на две недели раньше срока. Я даже немного испугалась, но у нас была очень хорошая акушерка, да и наша квартирная хозяйка очень нам помогла, так что роды продолжались менее одного дня. Ребенок был, конечно, маленький, но уже набрал вес благодаря отличной кормилице. А к тому времени, как мы приедем домой, девочка уже ничем не будет отличаться от тех детей, что родились в положенный срок.
Почти все выглядело вполне правдоподобно, и я осторожно добавила к нарисованной мной картине еще кое-какие весьма убедительные детали, а затем продиктовала Селии несколько слов, которые она неровным почерком приписала в конце письма, якобы только еще поправляясь после родов.
Я довольно мало знала о новорожденных, но была вполне уверена, что никто не сможет с уверенностью определить возраст Джулии, если мы задержимся здесь, пока ей не исполнится хотя бы месяц. И потом, правда о ее рождении была настолько убийственной, что вряд ли кто-то позволит себе о ней хотя бы догадываться. А если кому-то и покажется, что девочка слишком упитанная и крупная для недоношенной, то подозрения падут на Селию и Гарри – все попросту сочтут, что у них еще до брака была любовная связь, – я же, естественно, буду в стороне от каких бы то ни было подозрений. Да и Гарри – ибо только он один знает, что они с Селией не поддерживали супружеских отношений, кроме той злополучной ночи в Париже, – вряд ли сумеет по виду младенца определить его возраст. На случай возможных подозрений я сразу предложила Селии все даты привязать к той единственной и не принесшей им ни малейшего удовольствия брачной ночи. В спешке, в чужой стране, под давлением обстоятельств, да еще и будучи уверенной, что мое будущее дитя – мальчик, наследник Широкого Дола, я хитрила как могла.
Запечатав конверт, я положила его на свой прикроватный столик, чтобы Селия отнесла его на почту. Теперь я больше ничего уже сделать не могла и была вынуждена в остальном положиться на древних и весьма непостоянных богов Широкого Дола, которые так часто подталкивали ко мне удачу словно в благодарность за мою любовь и преданность их земле. Ну и, разумеется, я полностью доверилась Селии, которой еще предстояло сыграть свою главную роль, когда мы с ней благополучно прибудем домой.
И она все сделала отлично. С той же уверенностью, которую мне пока что довелось видеть в ней лишь однажды – когда мы пересекали этот ужасный Английский канал, – Селия спокойно организовала наш отъезд: нашла новую кормилицу, собрала в дорогу меня, пищащую крошку Джулию и себя самое, а потом всех нас погрузила на почтовое судно, отплывающее в Англию; причем управилась со всем этим прямо-таки невероятно быстро.
Я была очень рада, что все делается без моего участия. Как ни странно, я все еще чувствовала себя усталой, измученной, хоть и отдыхала, точно избалованная принцесса, и до, и после родов. Я хандрила в нашем маленьком французском pansion, слыша через стену, как по ночам плачет моя дочка; и хотя меня утешала мысль о том, что не мне приходится зажигать свечу в темноте, успокаивать малышку и часами носить ее на руках, пока она не уснет, тем не менее этот требовательный детский писк был способен вытащить меня из самого глубокого сна и мгновенно вызвать боль в полных молока грудях.
Я чувствовала себя раздвоенной. Ранее мое тело всегда пребывало в полной гармонии с душой и разумом. Но теперь, глядя на свою располневшую талию и все еще дряблый живот, на отвратительные бледно-розовые «растяжки» на бедрах, я думала: нет, это не я! Мои глаза сами собой открывались, а все мое тело невольно напрягалось, стоило мне ночью услышать детский плач. А мои туго перебинтованные груди ныли, желая покормить младенца. Все это было неправильно, все так на меня не похоже! Все это казалось мне частью вечных, утомительно скучных синих небес Франции, ее неправильно пахнущей земли, ее странного, непривычного хлеба, ее вонючих сыров – всей той весны, которую я должна была бы провести в Широком Доле, но проводила здесь, так далеко от родного дома.
Море оказалось обнадеживающе спокойным, и большую часть пути я наслаждалась запахом соленой морской воды и теплым южным ветром; я даже научилась переносить постоянное покачивание корабля. Тело мое постепенно избавлялось от излишней полноты и начинало обретать прежнюю стройность и гибкость, что помогало мне верить, что и сама я вскоре тоже вернусь к своему истинному «я». По утрам на ярком солнце мои каштановые волосы вновь стали отливать медью, как летом, а на щеках и на носу появилась россыпь едва заметных веснушек. Мне все еще казалось, что плечи мои несколько полноваты, да и груди налились и стали заметно тяжелее, но когда я, раздевшись догола у себя в каюте, смотрелась в небольшое зеркало, мне казалось, что вряд ли кто-нибудь сможет догадаться, что я выносила и родила ребенка, – даже Гарри, который так любит обследовать каждый дюйм моего тела и глазами, и руками, и языком.
Как только Селия нашла кормилицу, я сразу же перестала кормить сама и перетянула себе груди. Селии я сказала, что молоко у меня пропало, доказательством чему служила моя постройневшая фигура. Я действительно похудела, но стоило мне услышать голодный плач девочки, и груди мои начинали ныть от прилившего молока, а тесные, ужасно тесные бинты сразу промокали насквозь, ибо молоко так и сочилось из набухших сосков. Если бы Селия хотя бы случайно заметила, что у меня по-прежнему полно молока, она наверняка заставила бы меня снова кормить дочку, ведь для нее главное, чтобы ребенок был здоров и счастлив. Но я, даже чувствуя, как молоко теплыми ручейками сочится из моей груди, честно глядя Селии в глаза, клялась, что молоко у меня совершенно пропало.
Ужасные розовые «растяжки» у меня на бедрах постепенно сменялись едва заметными тонкими белыми линями, как и обещала мадам, а круги под глазами исчезли, как только я настояла на том, чтобы ребенок, кормилица и Селия перебрались в другие каюты, подальше от меня, чтобы я их совсем не слышала; я, кстати, занимала самую лучшую каюту на судне.
Я знала, что сами они почти не спят. И пока я прогуливалась по палубе или сидела на солнышке, любуясь голубыми волнами, расходящимися от носа корабля, или стояла на корме, опираясь о поручни и глядя на сверкающий белый след, тянущийся за судном и исчезающий на горизонте, точно проведенная мелом черта, Селия, укачивая ребенка, ходила взад-вперед по душной раскаленной каюте.
Очевидно, малышка просто плохо переносила плавание по морю, да и нанятая нами французская кормилица постоянно страдала от морской болезни, и у нее то и дело пропадало молоко. Молоко у нее, правда, вновь потом появлялось, но все же девочку кормили недостаточно часто, и она плакала от голода, упрямо отворачиваясь от предлагаемой бутылочки со смесью муки и воды. Когда я видела осунувшееся лицо Селии, вынужденной целый день возиться с изнемогающей от рвоты кормилицей, а потом всю ночь укачивать голодного беспокойного младенца, мне хотелось злорадно расхохотаться. Если бы у меня не было иной причины отказываться от материнства, мне бы хватило одного взгляда на мою измученную невестку, чтобы убедиться в правильности своего решения. Селия теперь выглядела существенно старше той застенчивой юной девушки, что девять месяцев назад покинула Англию. По ее виду вполне можно было предположить, что она действительно родила раньше срока, и притом, по крайней мере, тройню.
– Отдохни, Селия. Сядь и хотя бы минутку отдохни, – сказала я, подбирая юбки и освобождая ей место рядом с собой.
– Ладно, посижу немного, пока она спит. – Селия осторожно присела на краешек скамьи, прислушиваясь к каждому звуку, доносившемуся снизу.
– Интересно, отчего это девочка так беспокойна? – спросила я, словно сама не знала, в чем дело.
– Да все оттого же, – устало сказала Селия. – Во-первых, ей явно не нравится это постоянное движение судна. Кроме того, у кормилицы опять не хватает молока, и малышка часто остается голодной. Сегодня, правда, молока опять стало больше, так что Джулия и поела хорошо, и поспала спокойно.
Я ласково, но без особого интереса улыбнулась и сказала:
– Я думаю, воздух Широкого Дола подействует на нее целительно и она вскоре совсем перестанет плакать. – При этом думала я в основном о себе.
– Да, я тоже так думаю, – радостно подхватила Селия. – И потом, она, наконец, встретится со своим отцом, увидит свой дом! Я просто дождаться этого не могу, а ты, Беатрис?
У меня екнуло сердце при одной лишь мысли о Гарри и о доме.
– Я тоже, – сказала я. – Как давно мы не были дома! Как хочется узнать, что там творится!
И я невольно наклонилась вперед, глядя на линию горизонта, словно пытаясь усилием собственной воли создать там некую пурпурную кочку, обозначающую долгожданную сушу. Мысли мои крутились вокруг тех проблем и людей, которых я оставила где-то там, за той гранью, где небо встречается с землей. Разумеется, самой главной проблемой был Широкий Дол, хотя из подробных писем Гарри я уже знала, что весенний сев прошел хорошо, что зима была мягкая, что запасов кормов на зиму вполне хватило, так что никого из животных не пришлось прирезать. Фермеры-арендаторы теперь окончательно убедились в том, что зимой животных вполне можно кормить турнепсом – мы с Гарри доказали им это, используя турнепс на своей «Домашней ферме». Французские виноградные лозы, которые Гарри привез из Бордо, он посадил на южных склонах холмов, и они, по его словам, выглядели вполне живыми и не более кривыми, чем во Франции, так что, возможно, они все же принялись.
Что же касается непредвиденных расходов, то, поскольку в поместье не было меня и некому было сдерживать Гарри, он перенес два приступа «экспериментального безумия». Один не слишком значительный: Гарри велел распахать некоторые старые поля, но их при желании можно было вскоре опять превратить в пастбища. Тут самой большой потерей было недовольство крестьян, которые пользовались тропой, проложенной по этим полям, а также соседнего фермера, поскольку дорога, ведущая к его дому, после вспашки попросту исчезла. Гарри, не желая слушать советы наших стариков, решил посадить на бывшем лугу Гринлейн сад. Но вскоре обнаружил, что роскошная зеленая трава так хорошо росла там из-за необычайно мощного плодоносного слоя глины, в которой напрочь увязали плуги; казалось, он возделывает землю где-нибудь в Девоншире. Посаженные на новом месте деревья вяли и засыхали, ибо вывороченная наружу липкая глина под солнцем превращалась в камень. Весь луг, целая сотня акров, на целый год, по крайней мере, был испорчен, а покупку саженцев и прочие немалые расходы придется списать на не-опытность Гарри. Жаль, конечно, что меня там не было, что я не смогла этого предотвратить, но я радовалась уже тому, что стоимость этого поступка оказалась не слишком высока. Мудрые старики да и молодые крестьяне наверняка станут качать головой, видя безумные выходки молодого сквайра, и шепотом говорить друг другу: «Хоть бы поскорей мисс Беатрис домой возвращалась!»
А вот вторая дурацкая затея Гарри могла многим людям стоить жизни, и этого я ему никак простить не могла. Начитавшись своих книжек, он пришел к «гениальному» выводу о том, что способен управлять течением нашей реки Фенни, которая всегда по весне разливалась, становясь широкой и быстрой, а летом замедляла свой бег, и луга по ее берегам весьма напоминали болото. Поскольку всем (кроме Гарри, разумеется) это было известно, фермеры, чьи земли непосредственно соприкасались с Фенни, заранее готовились и к весенним разливам, и к возможности высокой воды зимой. На плоских участках полей они специально оставляли нераспаханными высохшие старицы, куда стекали паводковые воды и с ревом, но постепенно утрачивая скорость и мощь, устремлялись в основное русло реки. Обычно в теплый сезон во время разливов Фенни мы теряли несколько животных – овцу или глупого теленка, – а однажды, помнится, в реке погиб чей-то ребенок, оставленный без присмотра. И все же это был далеко не горный поток. Это была наша привычная милая Фенни, и, если вести себя правильно, за ней вполне можно было следить с помощью старых, надежных способов.
Но для Гарри эти способы оказались недостаточно хороши. Он подсчитал, что если бы уровень воды удалось регулировать, перегородив небольшую низину с довольно крутыми склонами плотиной, позволяющей удерживать напор разлившейся реки, тогда все те земли, которые мы до сих пор во время паводка оставляли затопленными, можно будет распахать и засеять. Таким образом, все пустующие берега в излучинах реки, все заливные луга, которые полностью затопляло дважды в год, можно было бы пустить под плуг и выращивать на них все больше и больше столь любимой Гарри пшеницы. В общем, он вполне любезно выслушал деревенских стариков и вежливо с ними распрощался, не обратив ни малейшего внимания на их мудрые советы и предостережения. Мои письма, полные негодующих протестов, он также проигнорировал, считая себя слишком умным и не желая ни с кем считаться. По просьбе Гарри наши старые арендаторы послали своих сыновей на строительство этой плотины, и те стали строить нелепые маленькие шлюзы и копать маленькие отводные каналы, посмеиваясь в кулак надо всеми этими напрасными и немалыми затратами. И я без ложной скромности предполагала, как они веселились, угадывая, что именно скажет мисс Беатрис, когда вернется домой, и в какую ярость ее приведет нелепая затея брата.
То, что случилось весной, легко мог бы предсказать любой дурак – но, увы, не тот дурак, что ныне хозяйничал в Широком Доле. Вода, которой преградила путь построенная Гарри плотина, отступила назад и залила эту небольшую низину куда быстрее, чем он предполагал. Ведь он, измеряя скорость течения Фенни, отчего-то не принял во внимание тот факт, что в период весеннего таяния снегов в нашей местности обычно еще и вовсю льют дожди, так что земля буквально насквозь пропитывается влагой и ручьи порой образуются в самых неожиданных местах. Короче говоря, образовавшееся в низине озеро разлилось настолько, что затопило ореховую рощу, которая была даже старше самого имения, и превратила в болото хорошие сухие луга, находившиеся значительно выше, уже на склонах холмов. Поскольку напор воды все усиливался, маленькие шлюзы тщетно сражались с ним, пытаясь как-то его удержать, но раствор, которым были скреплены камни в плотине, растаял, как весенний ледок, стена рухнула, и огромная масса скопившейся воды обрушилась в долину и ринулась к деревне.
В первой же атаке вода легко смела мост, и Гарри следовало благодарить Бога и свою удачу дурака, что на перилах в это время не сидели рыболовы – детишки или старики с их вечными трубками. Смертоносная стена воды в щепки разнесла крепкий деревянный мост и ринулась дальше, широко разливаясь по долине, всюду сея разрушения и смывая посевы с той же легкостью, с какой щетка-сметка смахивает крошки с резного обеденного стола. Ягодные кусты, живые изгороди и даже огромные ели с неглубокой корневой системой оказались вырваны из земли и образовали вал шириной футов в двадцать по обе стороны реки. Естественно, и новый сорт пшеницы, которым Гарри так гордился, посеянный на бывших заливных лугах, был начисто смыт еще до того, как зерно успело прорасти и пустить корни; да и все так называемые новые поля были теперь залиты жидкой грязью и завалены всяким мусором и обломками деревьев.
Потоп достиг новой мельницы, уже несколько растратив свои силы, так что, хотя весь двор и был затоплен, само здание все же устояло. Однако нижний этаж и подвал, разумеется, залило, окна и двери, снесенные потоком, оказались внутри; погибло и некоторое количество зерна, но сами строения, надежные и крепкие, уцелели. А вот старую мельницу, где мы с Ральфом когда-то устраивали любовные свидания, и ветхую лачугу Мег поток разнес в щепы и унес с собой. От старой мельницы остались только две стены да прелестный зеленый бережок, с которого теперь были начисто смыты все следы наших ног. Даже те соломинки, которые Ральф так заботливо обирал с моей юбки, унесла взбесившаяся вода.
Когда пик наводнения прошел, река вернулась в свои берега. Гарри писал, что люди по-прежнему встречают его с тревогой на лицах, но я-то знала: на самом деле они посмеиваются у него за спиной, ибо теперь каждый бездельник постарается извлечь свою выгоду из безумной затеи сквайра, а требования возместить убытки, вызванные наводнением, взлетят до небес. Теперь Гарри требовалось найти деньги и рабочих, чтобы заново выстроить мост и восстановить дорогу, а также компенсировать убытки арендаторам, чьи земли пострадали, а посевы загублены. Ему также придется купить миссис Грин новые оконные стекла и вощеный ситец для занавесок. Читая его горестное послание с описаниями нанесенного поместью ущерба и тех требований, с которыми он теперь столкнулся, я просто шипела от злости, настолько это был глупый поступок, приведший к безумным и совершенно напрасным тратам. И теперь мне еще больше хотелось поскорее попасть домой и все привести в порядок.
Кроме того, о некоторых вещах я просто не могла в письмах спрашивать у Гарри; мне непременно нужно было увидеть это собственными глазами. Меня, например, очень интересовало, как поживает наш молодой доктор. И удалось ли леди Хейверинг поймать его в свои силки и женить на одной из хорошеньких сводных сестричек Селии? А может, доктор МакЭндрю еще не забыл свое мимолетное увлечение мною? Но даже при мысли об этом сердце мое оставалось спокойным и холодным, как камень: этот мужчина, как мне казалось, не способен был пробудить во мне какие-то чувства или, тем более, бросить мне вызов. И потом, он никак не мог помочь мне завоевать Широкий Дол. Однако его внимание все же льстило моему тщеславию – особенно тогда, ибо мне просто необходимо было отвлечься, а он до некоторой степени заинтересовал меня своей полной непохожестью на всех знакомых мне мужчин нашего графства, так или иначе связанных с землей, – сквайров, грубовато-добродушных фермеров и даже представителей высшего света. Но сердце мое при мысли о докторе МакЭндрю отнюдь не начинало биться быстрее, ибо, на мой взгляд, в нем не было никакой тайны, никакой магии – в отличие, скажем, от Ральфа. И землей он не владел, и не был столь очарователен, как Гарри. Да, он мог заинтересовать меня, но только и всего. Хотя, если он все еще холост и по-прежнему будет так же улыбаться мне своими холодными голубыми глазами, я буду рада оказаться заинтересованной.
Я смотрела в морскую даль, на череду волн, вздымавшихся, точно округлые холмы, почему-то решившие сорваться с места, и пыталась разрешить самый главный из тех вопросов, которые ждали меня дома: что с теми преступниками, которые подняли бунт в Кенте? Были ли все они арестованы и повешены или все же один из них – самый главный их вожак со своими двумя черными псами и черным жеребцом – по-прежнему на свободе? Я, правда, больше уже не просыпалась с криком среди ночи, но этот черный жеребец все еще продолжал порой посещать мои сны. Но я понимала: мысль о том, что мой прекрасный сильный Ральф враскачку передвигается на костылях или, что еще хуже, с трудом волочит по земле свое искалеченное тело и, точно пес, роется в сточных канавах, всегда будет вызывать у меня тошноту, ужас и отвращение. Я старательно гнала подобные мысли, но страшный образ снова и снова возникал передо мной, стоило мне закрыть глаза и попытаться уснуть, и тогда я прибегала к уже знакомому спасительному средству: принимала добрую порцию настойки опия, неизменно спасавшей меня от этого наваждения.
Но если все участники хлебного бунта арестованы, тогда я могу спать спокойно. Да и вожак их, вполне возможно, давно мертв. Его могли казнить, так толком и не узнав, кто он такой, а потому никому и в голову не пришло сообщить о его смерти в Широкий Дол или тем более нам во Францию. Тот человек на черном коне, который все еще преследует меня в кошмарных снах, скорее всего – просто призрак, а я совершенно не боялась ни мертвых, ни призраков.
Но если он мертв, то я буду его оплакивать. Я чувствовала, что буду оплакивать его как моего первого любовника, сперва почти мальчика, а потом взрослого молодого мужчину, который с такой страстью говорил о своем праве на землю и наслаждения, о том, как необходимо ему иметь и то и другое. Он был умен и очень рано понял, что люди делятся на тех, кто отдает свою любовь, и тех, кто соглашается ее принять. Отчаянный, страстный, неожиданный, искренний, в любви он мог проявить даже грубость и не испытывать при этом ни малейших колебаний или угрызений совести. Его откровенная чувственность была сродни моей собственной, и в этом отношении мы друг другу не уступали, а вот Гарри никогда на это не был способен. Ах, если бы Ральф имел дворянское происхождение… впрочем, это были всего лишь мечты, не способные никуда привести. Я прекрасно знала: во имя Широкого Дола он совершил убийство и чуть не погиб сам. Так что единственное, на что мне оставалось теперь надеяться, – это виселица, которая должна была завершить то, что лишь наполовину удалось пружине страшного капкана, и теперь тот, кого я любила и в ранней юности, и в пору своего взросления, давно уже мертв.
– А это… не похоже на берег? – спросила вдруг Селия и указала на какой-то еле заметный темный мазок на горизонте, похожий на дымный след.
– Вряд ли, – сказала я, напрягая зрение. – Еще рано. Капитан сказал, что берег покажется не ранее завтрашнего дня. Хотя, с другой стороны, ветер-то весь день был попутный…
– А мне все-таки кажется, что это земля, – сказала Селия, и ее бледные щеки вспыхнули от радости. – Как чудесно было бы снова увидеть Англию! Я, пожалуй, схожу за Джулией – пусть малышка впервые посмотрит на свою родину.
И она поспешила вниз, а потом снова поднялась по трапу на палубу с девочкой и нянькой, которая тащила все необходимое младенцу. Селии страшно хотелось, чтобы Джулия посмотрела в сторону своей родной Англии, и я, глядя на это безнадежное занятие, сказала:
– Надеюсь, она проявит больше энтузиазма, когда увидит своего отца.
Селия рассмеялась. Она, похоже, не испытывала ни малейшего разочарования, ни малейшей досады.
– Ох, нет, – сказала она. – Она еще слишком мала, чтобы должным образом на него реагировать. Но мне нравится с нею разговаривать и показывать ей разные вещи. Она очень быстро начнет все понимать и всему научится.
– А если и не научится, то отнюдь не потому, что у нее будет плохая учительница, – сухо заметила я.
Селия быстро глянула на меня, уловив перемену моего настроения, и осторожно спросила:
– А ты… ты ни о чем не жалеешь, Беатрис? – Она шагнула ко мне, прижимая головку уснувшей девочки к своему плечу. Я видела, что она искренне тревожится за меня, но все же не выпускает из рук завернутую в шаль малышку.
– Нет. – Я улыбнулась, заметив промелькнувший в ее глазах испуг. – Нет, нет, что ты, Селия! Я же сама отдала ее тебе и благословила. Я сказала так только потому, что удивлена тем, как много она для тебя значит.
– Много? – Селия в полном недоумении уставилась на меня. – Но, Беатрис, она ведь само совершенство! Я сочла бы себя сумасшедшей, если б не любила ее больше жизни!
– Ну, тогда все в порядке, – сказала я, радуясь, что на этом тему можно закрыть. На самом деле мне действительно казалось странным, как инстинктивная страстная любовь Селии к этому ребенку, зародившаяся буквально в тот день, когда она узнала о моей беременности, теперь переросла в какую-то безграничную преданность. Я была ослеплена своей горячей мечтой о сыне, и это не позволило мне сразу разглядеть, какую прелестную девочку я родила. С другой стороны, Селия хотела ребенка, любого ребенка, чтобы просто любить его. Мне же нужен был только наследник Широкого Дола.
Я встала и прошлась по палубе; корабль слегка покачивало. Я снова посмотрела в ту сторону, где должна была появиться Англия; темное пятно на горизонте с каждым мгновением становилось все более отчетливым. Я наклонилась над поручнями и грудью почувствовала жар нагретого солнцем дерева. Возможно, уже сегодня вечером или самое позднее завтра я снова окажусь в объятиях Гарри. Предвкушение этой встречи вызвало у меня легкий озноб. Да, мы долго были в разлуке, но мое возвращение домой, к Гарри, искупит столь долгое ожидание!
Ветер переменился; теперь он дул с берега, хлопали паруса, и матросы все сильней чертыхались – мы явно приближались к заветному берегу. Капитан за обедом пообещал, что уже утром мы прибудем в Портсмут. Я склонила голову над тарелкой, скрывая разочарование: почему же не сегодня вечером? Но Селия улыбнулась, сказала, что это очень даже хорошо, и пояснила:
– К этому времени Джулия, скорее всего, уже проснется, а по утрам у нее всегда самое лучшее настроение.
Я кивнула, опустив ресницы и тая в глубине глаз презрение. Пусть Селия сколько угодно заботится о настроении этого младенца, но я искренне удивлюсь, если Гарри, лишь скользнув взглядом по дорогой колыбельке, не будет смотреть при встрече только на меня.
И удивляться мне действительно пришлось.
И до чего же горьким было мое удивление.
Мы едва успели позавтракать, как судно вошло в гавань Портсмута. Я и Селия стояли на палубе и, держась за поручни, с нетерпением вглядывались в толпу на пристани.
– Вон он! – крикнула Селия. – Я его вижу, Беатрис! А рядом твоя мама!
Я так и впилась глазами в Гарри, вздрогнув, точно испуганная лошадь, и что было сил вцепившись ногтями в деревянные поручни, чтобы не закричать: «Гарри! Гарри!», не протянуть к нему руки, не перекинуть мостик через узкую полоску воды, отделявшую наш корабль от берега. У меня даже дыхание перехватило, так жаждала я сейчас его любви. Это была мучительная, чисто физическая потребность. Заметив маму, выглядывавшую из окна кареты, я помахала ей рукой и снова невольно перевела взгляд на своего любовника. На своего брата.
Едва судно причалило, Гарри первым взбежал по сходням на палубу, и я первой с ним поздоровалась – хотя у меня и в мыслях не было кого-то опередить. Селия все равно была занята младенцем: склонившись над колыбелью, она вынимала оттуда полусонную девочку, так что у меня не было никакой причины отступать в сторону, а у Гарри не было никакой причины не обнять меня первую.
– Ах, Гарри! – только и сумела вымолвить я, будучи не в силах скрыть страстное желание, которое отчетливо прозвучало в моем голосе. Я обняла его и подставила щеку для поцелуя, но глаза мои так жадно скользили по его лицу, словно я хотела его съесть. Он быстро и ласково поцеловал меня в уголок рта и тут же посмотрел куда-то мне за спину. На свою жену.
– Беатрис! – сказал он и снова посмотрел мне в лицо. – Я так тебе благодарен, что ты привезла их домой, что ты мне их обеих привезла!
Затем он ласково, нежно – о, как нежно! – отодвинул меня и, невольно чуть толкнув, бросился мимо меня к той женщине, которую отныне обожал – к Селии. К Селии, державшей на руках мою дочь! Он обнял их обеих, и я услышала те тихие слова, которые предназначались только для ушей законной жены:
– О, моя любимая! – Затем, скрывшись за полями ее капора, он крепко поцеловал ее в губы, не обращая внимания ни на ухмыляющихся матросов, ни на толпу у пристани, ни на меня, буравившую взглядом его спину.
Всего лишь один долгий поцелуй – и глаза Гарри засияли от любви и нежности. Затем он обратил внимание на малышку, которую Селия прижимала к груди.
– Так это и есть наша маленькая дочка, – сказал он с удивлением и восхищением и осторожно, бережно взял ребенка на руки, позаботившись о том, чтобы головка девочки была на уровне его лица. – С добрым утром, мисс Джулия. Добро пожаловать домой! – И он, улыбаясь, сказал Селии: – Но это же вылитый папа! Вот уж истинная Лейси! Тебе так не кажется? Настоящая наследница Широкого Дола! И такая милочка! – И Гарри, одной рукой надежно прижимая к себе ребенка, взял крошечную ручку малышки и поцеловал ее.
Ревность, изумление и ужас – все это буквально пригвоздило меня к поручням, но я все же сумела взять себя в руки и обрести дар речи, чтобы нарушить эту чрезмерно аффектированную сцену.
– Нам еще нужно вещи забрать, – довольно резко сказала я.
– Ах, да, – сказал Гарри, не отрывая глаз от очаровательно разрумянившегося личика Селии.
– Ты сам позовешь носильщиков? – спросила я, стараясь все же быть вежливой.
– Да-да, конечно, – сказал Гарри, не двигаясь с места.
– Селия, наверное, хочет теперь поздороваться с мамой и показать ей внучку, – нашлась я, и Селия тут же с виноватым видом поспешила к сходням с девочкой на руках.
– Погоди, – нетерпеливо остановила ее я и, подозвав кормилицу, велела ей взять ребенка, а сама поправила на Селии капор и шаль, сунула ей в руки ридикюль и следом за ними сошла на берег, замыкая эту весьма достойную процессию.
Мама вела себя столь же нелепо, как и Гарри. Ни на Селию, ни на меня она почти не обратила внимания, зато сразу протянула руки к девочке, буквально не сводя глаз с ее хорошенького маленького личика, обрамленного сборками чепчика.
– Какое прелестное, изысканное дитя! – с наслаждением проворковала мама. – Здравствуйте, мисс Джулия. Добро пожаловать домой! Наконец-то!
Мы с Селией понимающе переглянулись. Селия, может, и была помешана на младенцах, но ей в последнее время здорово досталось; она почти каждую ночь глаз не смыкала, укачивая малышку. И теперь мы обе уважительно помалкивали, мама ворковала, а девочка отвечала ей довольным лепетом. Затем мама принялась изучать ее крошечные, идеальной формы пальчики и любовно поглаживать ее ножонки в атласных пинетках. Лишь через некоторое время она, наконец, подняла голову и приветствовала нас с Селией теплой улыбкой.
– Ах, мои дорогие, как же мне приятно видеть вас обеих! У меня просто слов не хватает, чтобы выразить свою радость! – Пока она все это произносила, глаза ее, несколько затуманенные нежностью, обращенной к малютке, прояснились, и я заметила, как в их светлой голубизне промелькнула некая тень. Мать перевела взгляд с открытого, как чашечка цветка, лица Селии на меня и быстро, остро, подозрительно посмотрела прямо в мои прекрасные лживые глаза.
И я вдруг испытала некий суеверный страх. Мне показалось, что она все поняла, что она настороже. Ведь ей был прекрасно знаком этот сладковатый родильный запах, а у меня все еще продолжалось небольшое кровотечение, хоть я и держала это в секрете, и сейчас мне стало страшно, что она это почует. Она, разумеется, ничего не могла знать наверняка, но все же смотрела на меня так упорно, что я вдруг чувствовала себя полураздетой; она, казалось, отмечала про себя новые очертания моей чуть пополневшей шеи, моих грудей и плеч. Она словно видела, что мои груди под платьем перетянуты плотной тканью. Словно чуяла – хотя я постоянно и весьма тщательно мылась – сладкий запах молока, все еще выступавшего из моих сосков. Она посмотрела мне в глаза… и все поняла. Клянусь, этого краткого обмена безмолвными взглядами было достаточно, чтобы она все поняла! Она увидела во мне женщину, которая испытала все женские страдания и наслаждения; которая, как и она, подарила жизнь ребенку; которая, как и она, познала и ту боль, и те адские усилия, и то победоносное чувство, которые неизменно связаны с приходом в наш равнодушный мир нового крошечного существа. Затем моя мать столь же пристально посмотрела на Селию и увидела перед собой девушку, хорошенькую, невинную, совершенно не переменившуюся с тех пор, как она была застенчивой невестой. И столь же неизменно добродетельную.
Я чувствовала, что мать все поняла, но принимать это ее разум не желает. Она просто не может заставить свой скованный условностями, испуганный умишко понять то, о чем ее инстинкты говорят ей столь же громко и внятно, как звон колокола. Она не могла не заметить моей новой, женской полноты и напряженной, девической худобы Селии. Она почувствовала исходивший от меня запах материнского молока; ее собственное материнство подсказывало ей, что перед ней недавно родившая женщина, женщина, принимавшая участие в создании новой жизни. Но она перевела взгляд на Селию и сказала:
– Как ты, должно быть, устала, моя дорогая! Пережить такое долгое путешествие после родов! Садись скорей, и поедем домой. – И Селия получила ее поцелуй и место с нею рядом в карете.
Затем моя мать снова повернулась ко мне.






