Широкий Дол Грегори Филиппа
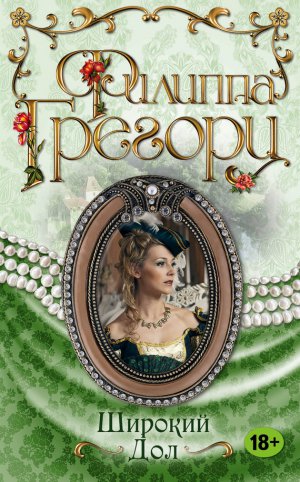
Мы еще немного посмеялись и вновь принялись за работу, причем работали так прилежно, что, похоже, к концу этих двух недель Гарри должен был получить не менее полусотни новых галстуков. Я представила себе, как чемодан с этими галстуками аккуратно погрузят в дилижанс вместе, с четырьмя чемоданами Селии и моими скромными двумя чемоданами и тремя шляпными коробками, и этот тяжелый экипаж – где будут сидеть лакей Гарри, моя горничная и горничная Селии – будет следовать за нами по всей Франции и Италии. Забавное это будет трио, да, впрочем, и наш допотопный дилижанс будет выглядеть не менее забавно; но еще интересней для любопытных будет выглядеть во время прогулок под нежарким осенним солнышком наша троица – жена-девственница, ее довольный, точно сытый кот, супруг и его нежно любящая сестрица.
– Я просто дождаться не могу, – сказала я, прислоняясь к плечу Гарри. Мы с ним стояли на конюшенном дворе и наблюдали за тем, как в карету грузят наши чемоданы и коробки. При этом рука Гарри незаметно поглаживала меня по спине и пониже спины, к нашему взаимному удовольствию. Его теплая квадратная ладонь скользила вдоль моего позвоночника, лаская меня, как кошку, и я невольно качнулась, чтобы быть еще ближе к нему.
– Два месяца мы каждую ночь будем вместе, – тихо промолвил он, – и не нужно будет никого опасаться! – Его рука все оглаживала мне спину, скользя по шелку платья, и мне приходилось очень следить за своим лицом, чтобы не зажмуриться от удовольствия и не замурлыкать. Допустим, с лицом я справлялась, но ничто в мире не смогло бы заставить померкнуть мои глаза, сиявшие яркой зеленью от сдерживаемой страсти. Впрочем, слуги были заняты погрузкой, и никто из них на нас даже не взглянул.
– Можно, я сегодня ночью приду к тебе? – шепнул мне на ухо Гарри, и я почувствовала его теплое дыхание. В последние недели мы очень редко бывали вместе – из-за моей болезни и возникшей у меня привычки каждый вечер принимать настойку опия, – и сейчас я почувствовала, что у меня разгорается прежний аппетит. – Я ведь скоро женюсь, если ты помнишь, – прибавил он.
Я захихикала.
– Тогда тебе следовало бы напиваться с твоими друзьями и наслаждаться последними деньками свободы, пока твоя ревнивая и страстная женушка не предъявила на тебя свои права.
Гарри тоже негромко засмеялся и сказал:
– Почему-то мне никак не удается представить себе Селию в роли моей жены. А вот с тобой, Беатрис, мне бы спать хотелось. Так я могу прийти к тебе сегодня?
– Нет, – сказала я, наслаждаясь двусмысленным удовольствием этого недолгого воздержания. Потом слегка отстранилась от Гарри и повернулась к нему лицом, прикрыв ресницами свои раскосые глаза, чтобы не выдать себя после этих тайных и почти невинных ласк.
– Нет, – повторила я, – но завтра, после свадьбы, я приду к тебе как твоя жена и проведу с тобой нашу первую брачную ночь. – И это мое обещание прозвучало почти как клятва. – Завтра я буду рядом с тобой стоять у алтаря, и каждое твое слово, каждое обещание «любить и беречь жену свою» будет звучать для меня. И каждый ответ, который ты услышишь, каждое обещание, каждое «да» будет моим, хотя произносить все это будут уста Селии. Она твоя невеста, а я буду твоей женой. Завтрашний день, возможно, и будет принадлежать ей, но завтрашняя ночь будет моей. Но завтрашняя, не сегодняшняя. Ты, мой дорогой, сегодня можешь только мечтать обо мне. Но завтра, когда все мы разойдемся по своим спальням, наша добрая глупышка Селия может спать сном младенца, мы же с тобой совсем спать не будем!
Голубые глаза Гарри сверкнули.
– Согласен! – быстро сказал он. – Это будет наш с тобой медовый месяц. Это на тебе я женюсь, это тебя беру с собой, а Селия может ехать с нами, как едут с нами наши слуги и чемоданы – для удобного и комфортного проживания.
Я вздохнула, предвкушая грядущие удовольствия и наслаждаясь одержанной победой.
– Да, – сказала я. – Завтра утром мы с тобой станем мужем и женой, а ночью предадимся радостям первой брачной ночи.
Так оно и вышло. Та волшебная волна, что все это время меня поддерживала, и в церкви поставила меня рядом с Гарри. И я, стоя перед алтарем, словно во сне слышала, как голос Гарри произносит брачную клятву, и в этом голосе для меня звучало обещание таких наслаждений в брачную ночь, что я больше ни о чем другом не могла думать.
Селия, как я и предполагала, едва держалась на ногах от охватившего ее нервного напряжения и чуть не упала, когда лорд Хейверинг подвел ее к жениху и на шаг отступил назад; слава богу, я успела ее поддержать. Между мной и Гарри было лишь хрупкое тело Селии, когда он давал брачную клятву, обещая молодой жене вечную любовь и верность; но он произносил эти торжественные слова, глядя в мои улыбающееся глаза, мне одной адресуя свои любовные обещания.
Затем Селия быстрым шепотом пробормотала слова своей клятвы, и брачная церемония была закончена. За ней последовал свадебный завтрак, который, как и следовало ожидать, оказался на редкость скучным и сопровождался жеманными улыбками и нелепым «оплакиванием» невесты. Селия без конца краснела, смущалась и в целом выглядела совершенно прелестной. Ни на меня, ни на Гарри никто особого внимания не обращал; Гарри, устроившись в уютном уголке с лордом Хейверингом, от души наливался вином. Все это было страшно утомительно. Мне даже поговорить было не с кем, и приходилось терпеть болтовню глупых сестер Селии и ее еще более глупых подружек. Даже алчные взгляды этого старого распутника, лорда Хейверинга, которые он бросал на меня, буквально пожирая глазами мое прекрасное тело, затянутое в серый шелк, мало меня утешали. Потом лорд Хейверинг и вовсе увлек Гарри в свой кабинет, и мы, женщины, оказались предоставлены сами себе, если не считать нескольких пожилых соседей. Именно поэтому появление доктора МакЭндрю стало и для меня, и для всех остальных приятным сюрпризом. Заинтересованный шепот и шелест пролетели по комнате, заставив меня поднять глаза, когда доктор прямо от дверей направился ко мне. Я улыбнулась ему, а он сказал, усаживаясь рядом со мною:
– Как приятно снова вас увидеть, да еще в такой счастливый день.
Я отметила его тактичность: он даже не спросил, как я себя чувствую. А также я отметила, причем впервые, что доктор – мужчина весьма привлекательный. Но это заметила не одна я. Остальные девушки – сестры Хейверинг и две другие подружки невесты – не спускали с него глаз и следили за ним исподтишка, точно ястребы-перепелятники за добычей; я не выдержала и, повернувшись, улыбнулась им; мне было приятно утереть нос этим тщеславным жеманницам.
– Вы долго будете в отъезде, мисс Лейси? – спросил доктор МакЭндрю. У него был мягкий выговор типичного шотландца.
– Всего лишь до Рождества, – сказала я. – Разве можно на Рождество быть далеко от дома? Нет, мы с Гарри хотим вернуться заблаговременно, чтобы успеть подготовиться к весеннему севу.
– Я слышал, вы умелый агроном? – Он сказал это без малейшего намека на снисходительность или насмешку, к которым я давно привыкла, ибо мне не раз доводилось их слышать от наших соседей; самое интересное, их земли давали в два раза меньшие урожаи, чем наши, и все же они считали мои занятия и увлечения не приличествующими молодой девушке.
– Да, неплохой, – сказала я. – Мой отец привил мне любовь к земле и интерес к ее возделыванию. Я действительно очень люблю наш Широкий Дол и всегда стараюсь узнать о нем как можно больше.
– Как это, должно быть, чудесно – иметь такой прелестный дом и такое очаровательное поместье, – сказал он. – У меня никогда раньше не было возможности достаточно долго пожить в сельской местности. Моя семья всегда занималась куплей-продажей собственности, и я просто не успел нигде по-настоящему пустить корни.
– Ваша семья из Эдинбурга? – с интересом спросила я.
– Мой отец – владелец «Линии МакЭндрю», – скромно сообщил он. И это сразу все объяснило; его сообщение послужило для меня неким ключом для решения головоломки, объяснявшей и его, обыкновенного врача, присутствие на торжестве в доме Хейверингов. «Линия МакЭндрю» была весьма успешной линией морских торговых перевозок, связывавших Лондон, Шотландию и Индию. Семья этого молодого врача обладала сказочным богатством. Наверняка леди Хейверинг решила позабыть о его необычной для ее круга профессии, заинтересовавшись его состоянием, одним из самых больших в Великобритании. Она бы с удовольствием поставила на нем тавро жениха одной из ее дочерей, а лорд Хейверинг тут же попытался бы убедить молодого врача вложить средства в некое надежное предприятие, которому он, Хейверинг, давно мог бы дать ход, если б у него имелось хотя бы несколько лишних тысяч.
– Странно, что ваш отец позволил вам уехать так далеко от родного дома, – сказала я.
Доктор МакЭндрю только усмехнулся.
– Честно говоря, он был страшно огорчен, когда я уехал, оставив и родной дом, и фамильный бизнес. Он очень хотел, чтобы мы с ним работали вместе. Впрочем, у меня есть еще два старших брата и один младший, которые, надеюсь, этим и займутся. Мое же сердце с ранней юности, почти с детства, было отдано медицине, и я, несмотря на возражения отца, сумел пройти полный курс обучения в университете.
– А я бы не хотела без конца иметь дело с больными людьми, – честно призналась я; мне совершенно не хотелось лукавить, разговаривая с этим милым молодым человеком, смотревшим на меня с таким теплом и лаской. – Да у меня просто терпения не хватило бы.
– Да, наверное, не хватило бы. Да и зачем вам это? – с полным пониманием признал он. – Я бы хотел, чтобы все люди в мире были такими же ловкими, сильными и красивыми, как вы. Когда я впервые увидел, как вы бешеным галопом несетесь по холмам на своей лошадке, я просто засмеялся от удовольствия, так приятно было наблюдать столь чудесную картину. Нет, комната больного вам совершенно не подходит, мисс Лейси! Я и сам предпочитаю любоваться такой молодостью и красотой на свежем воздухе.
Я была польщена и даже немного смутилась.
– Вообще-то вы не должны были видеть, как я гоняю галопом по холмам, – тихо сказала я. – Мне не полагается выезжать за пределы поместья, пока мы находимся в трауре, и уж тем более скакать галопом там, где меня могут увидеть. Но когда у тебя такая хорошая, резвая лошадка, а ветерок так нежно дует в лицо, я никак не могу удержаться!
Он улыбнулся, услышав это пылкое признание, и принялся рассуждать о лошадях. Я, кстати, и раньше, еще во время своей болезни, замечала, что в лошадях он разбирается отлично. Во всяком случае, в его двуколку была впряжена просто чудесная пара гнедых – высокий шаг, изогнутые дугой гордые шеи, красновато-бронзовый отлив шкуры.
Я, помнится, тогда удивилась: откуда у молодого врача столько денег, ведь такие красавцы стоят немало, но теперь мне все стало ясно. Я рассказала доктору о своем первом пони, которого купил мне папа, а он рассказал мне о своей первой охотничьей собаке, и мы так увлеклись беседой, что я совершенно позабыла о том, что по крайней мере половина всех присутствующих не сводят с нас глаз.
– Беатрис, дорогая… – услышала я неуверенный мамин голос и, подняв глаза, увидела, что прямо к нам направляется леди Хейверинг, которая тут же, будучи умелой хозяйкой, увела с собой доктора МакЭндрю, желая познакомить его с другими гостями. А мама напомнила мне, что именно я, подружка невесты, должна теперь отвести Селию наверх, помочь ей снять свадебное платье и переодеться для путешествия.
Вместо того чтобы зачем-то помогать Селии, я мечтательно смотрела в окно, а ее горничная хлопотала вокруг нее, заодно и на мне оглаживая дорожный плащ и поправляя шляпку. Меня вдруг охватила тоска; мне не хотелось уезжать из Широкого Дола, было больно расставаться с этим знакомым и таким любимым пейзажем – с холмами, с деревьями, листва которых еще только начинала менять свой цвет. На глазах у меня были слезы, когда я, прощаясь, целовала маму и садилась в карету. Она-то, моя дорогая глупышка, приняла эти слезы на свой счет и очень тепло меня расцеловала и благословила. В толпе людей, собравшихся вокруг дилижанса, целующих Селии руку и выкрикивающих всякие добрые пожелания, я поискала глазами доктора МакЭндрю. Он стоял позади этой толпы и, заметив мой взгляд, сразу же посмотрел на меня. В его глазах таилась такая легкая и теплая улыбка, предназначенная только для меня одной, что я вдруг совершенно успокоилась. Вокруг было так шумно, что я, разумеется, не смогла расслышать, что он сказал, но прочла эти два слова по его губам: «Возвращайтесь скорее».
Я с улыбкой на лице устроилась на сиденье, чувствуя себя окутанной неким теплым облаком доброты, карета тронулась, и наше свадебное путешествие началось.
Глава восьмая
Первая брачная ночь прошла именно так, как мы с Гарри и планировали; мое возбуждение только возрастало от понимания того, что мы обманываем Селию, спящую в соседнем номере, и Гарри приходилось зажимать мне ладонью рот, чтобы заглушить мои сладострастные стоны. Но этот намек на насилие и моя кажущаяся беспомощность только сильней нас распаляли. Когда же он сам достиг высшей точки наслаждения, ему пришлось зарыться лицом в подушки, чтобы никто, кроме меня, не услышал его глухого рычания. А потом мы долго лежали, не говоря ни слова, наслаждаясь полным покоем, и я даже не думала о том, что мне стоило бы тайком пробраться в свой номер.
Отель «Золотое руно» находился на набережной Портсмута, и я, соскальзывая в сон, слышала плеск морских волн, разбивающихся о волноломы. В воздухе так пахло морем, что мне казалось, будто мы уже плывем, будто наше путешествие уже началось и все мои надежды и страхи, связанные с Широким Долом, остались далеко позади. Гарри тяжело вздохнул во сне и перевернулся на другой бок, а я лежала тихонько в этой чужой комнате, наслаждаясь своей удаленностью от дома и чувствуя себя в полной безопасности – и все это делало мой далекий дом еще дороже для меня. Невольно мысли мои переключились на Ральфа – на того, прежнего Ральфа времен моего девичества, – и я вспомнила, как страстно он мечтал лежать рядом со мной в чистой постели, на свежих простынях. Он был прав, завидуя нам. Ведь нам принадлежала земля, дарившая благополучие, и это было самое главное.
Я лежала на спине, глядя широко раскрытыми глазами во тьму и слушая шелест волн, лижущих каменный парапет набережной; казалось, волны вздыхают, будучи в силах лишь прикоснуться к вожделенной земле. В эти мгновения Гарри полностью принадлежал мне, а за стенкой спала Селия, надежно оберегаемая моей «дружбой» от посягательств мужа. Прежний мучительный страх, боязнь быть лишней, нелюбимой, постоянная тревога – все это несколько ослабело. Я была любима. Мой брат, хозяин нашего поместья, обожал меня и готов был предстать передо мной по первому зову, стоило только пальцами щелкнуть. На моей родной земле мне ничто не грозило. Гарри, по праву став ее хозяином, все делает и будет делать так, как того захочу я. Но я, уставившись невидящим взором в серый, едва различимый потолок, понимала: этого недостаточно; мне нужно нечто большее, чем любовь Гарри. Мне нужна была та магия, которая превратила его в божество урожая, когда он въехал на мельничный двор на груде пшеничных снопов и сам точно живой сноп – стройный, золотоволосый, золотокожий. В тот день я, выйдя ему навстречу из полутемного амбара, приветствовала не просто мужчину, которого желала всем сердцем, но нечто большее – бога урожая; и он, глядя на меня с восхищением, видел перед собой не сестру, а древнюю повелительницу темных сил, зеленоглазую богиню земного плодородия. И теперь, когда Гарри превратился в обыкновенного мужчину, облаченного в ночную сорочку и тихонько похрапывающего рядом со мной, я утратила и свое восприятие Гарри как сказочного героя, и свою безумную страсть к нему.
Так что, естественно, думала я о Ральфе. Во время наших свиданий, страстных поцелуев и ласк где-нибудь в укромном местечке под жаркими солнечными лучами Ральф всегда был окутан этой древней магией земли, всегда казался воплощением неких темных лесных сил. Всегда дышал живой силой Широкого Дола. А вот в Гарри этого никогда не было; да он и сам говорил, что мог бы жить, где угодно.
Я повернулась на бок и, готовясь ко сну, пристроилась поближе к Гарри, обогнув его весьма пухлый зад. Я никогда бы не смогла так управлять Ральфом, как управляю Гарри. Но и сама бы я никогда не потерпела, чтобы мной управляли, чтобы мне приказывали. Однако же я не могла не испытывать тайного презрения к мужчине, который позволяет другим дрессировать его, как щенка. Любой хороший наездник предпочитает хорошо обученных лошадей, но, с другой стороны, какому настоящему наезднику не захочется принять вызов непокорного животного, не позволяющего сломить его свободолюбивый дух? Гарри всегда принадлежал и будет принадлежать к категории домашних любимцев. А я всегда была более дикой, порождением тех далеких времен, когда леса Широкого Дола еще полнились древней магией. Я улыбнулась, представив себя в образе необычного для тамошних мест зверя – гладкого, ловкого, с зелеными кошачьими глазами. И почувствовала, как меня охватывает сладкая дрема, на смену которой чуть позже пришел и глубокий сон.
Гостиничная суета разбудила меня достаточно рано, и я вполне успела незаметно проскользнуть к себе в номер и уже лежала в постели, когда моя горничная, как всегда, принесла мне утреннюю чашку шоколада и горячую воду для умывания. Из окна номера была видна бухта; вода гостеприимно сияла голубизной; на волнах слегка покачивались рыбачьи лодки и яхты. Я была страшно возбуждена и полна приятных предвкушений, Селия тоже, и мы с ней смеялись как дети, когда садились на паром, пришвартованный к высокому причалу.
Первые минуты и впрямь были восхитительны. Небольшое наше судно едва заметно покачивалось, крепко пришвартованное, и запахи вокруг были такие необычные, и на набережной толпился народ, и торговцы спешили всучить отъезжающим свои товары – фрукты и провизию в маленьких корзинках, маленькие красочные пейзажи Англии и сотни мелких безделушек, бессмысленных, но довольно хорошеньких, из ракушек или осколков стекла.
Даже когда я заметила какого-то безногого человека – бывшего моряка, очевидно, – то не вздрогнула от страха и ощущения опасности, незаметно подбирающейся ко мне. Хотя его отрезанные выше колен ноги и выглядели жутко, но он на удивление ловко и умело враскачку передвигался по земле. С первого взгляда заметив, что у этого инвалида волосы светлые, я окончательно уверилась, что, покинув Широкий Дол, сбежала от Ральфа, который неторопливо и неотвратимо двигался в сторону нашего поместья. Я бросила безногому монетку, и он, поймав ее, что-то профессионально проныл в знак благодарности. Мысль о том, что Ральф, мой прекрасный Ральф, стал таким же ничтожным, жалким, так же погряз в нищете и ползает по тротуарам, выпрашивая милостыню, ударила меня в самое сердце, но я, пожав плечами, постаралась поскорее прогнать эту мысль, и тут как раз Селия крикнула: «Смотрите! Смотрите! Мы поднимаем паруса!»
Ловкие, как обезьяны, матросы поползли по вантам и реям и развернули полотнища парусов. Паруса вздувались и хлопали на ветру, матросы, что-то хрипло крича, стали отвязывать причальные канаты и швырять их на палубу. Мы с Селией поспешили убраться подальше, когда эти свирепые мужчины с диким, как у пиратов, видом бросались от одного каната к другому, заставляя паруса ползти все выше. Стена причала поплыла прочь, машущие руками люди стали постепенно уменьшаться, и вскоре судно вышло из гавани, хотя причалы из желтого камня, точно протянутые к нам руки, словно пытались задержать корабль в Англии хотя бы на одну, последнюю секунду. Затем мы пересекли бурные воды устья, где воды реки встречались с морскими волнами, и вышли в открытое море.
Паруса наполнились ветром, выпрямились, надулись, и матросы, наконец, перестали метаться по палубе. Мы с Селией сочли это добрым знаком. Я прошла на нос судна, огляделась, желая убедиться, что никто на меня не смотрит, и почти легла на бушприт, вытянувшись как можно дальше, чтобы видеть волны, бегущие прямо подо мной, и острый нос судна, рассекающий зеленую воду. Я провела так добрый час, очарованная бегом волн, но затем качка стала сильнее, ветер дул все яростней, и среди бела дня стало темно от тяжелых туч, грозивших бурей и на берегу, и на море. Начал накрапывать дождь, и я вдруг почувствовала, что очень устала, и спряталась от дождя в каюте. Качка все усиливалась, и было очень утомительно смотреть, как стены моей каюты то взлетают вверх, то падают вниз.
Затем это стало не просто утомительно, а невыносимо, ужасно. Я была уверена, что мне стало бы лучше, если бы я смогла снова выйти на палубу, и я все пыталась вспомнить, как приятно было смотреть на волны и разрезающий их нос судна, но это не помогло. Качка казалась мне отвратительной, а судно я уже просто ненавидела и всем сердцем желала вернуться на добрую твердую землю.
Я открыла дверь и позвала свою горничную, которой следовало бы находиться в каюте напротив, но тут внезапный приступ тошноты заставил меня броситься к тазу для умывания. Горничная так и не появилась, хотя мне было очень плохо, я нуждалась в помощи и чувствовала себя совершенно больной. Особенно резкий рывок судна заставил меня кое-как, шатаясь, добраться до койки, и я без сил рухнула на нее. Все в каюте качалось и подпрыгивало, незакрепленные дорожные сумки и чемоданы скользили по полу, налетая то на одну стену, то на другую. Мне было настолько мерзко, что я даже сама себе помочь не могла. И я, вцепившись в край койки, громко заплакала – мне было страшно, меня ужасно тошнило, и никто не пришел мне на помощь. Затем меня снова вырвало, я упала на подушку, которая самым кошмарным образом подпрыгивала у меня под головой, и через какое-то время уснула.
Когда я проснулась, каюта по-прежнему раскачивалась вовсю, но кто-то уже успел все в ней прибрать и закрепить багаж, так что вещи оставались на своих местах, и маленькая каюта уже не выглядела настолько поглощенной хаосом. В воздухе слабо пахло лилиями, вокруг было чисто, и я огляделась, надеясь увидеть свою горничную, но увидела Селию. Она спокойно сидела в кресле, которое раскачивалось и подпрыгивало вместе с каютой, и улыбалась мне.
– Я так рада, что вам лучше, Беатрис, – сказала она. – Как вы теперь себя чувствуете? Не хотите ли что-нибудь съесть? Или хотя бы выпить немного бульона или чаю?
Я никак не могла вспомнить, где нахожусь и что происходит, и молча покачала головой: при упоминании о еде к горлу снова подступила тошнота.
– Ну, тогда поспите, – велела мне эта незнакомая, странно уверенная в себе Селия. – Сон для вас сейчас самое лучшее, а пока вы будете спать, мы, возможно, успеем добраться до места назначения и снова окажемся в полной безопасности.
Я закрыла глаза; мне было все равно, куда мы там прибудем, так сильно меня тошнило. Потом я снова уснула, а когда проснулась, меня в очередной раз вырвало, и кто-то успел заботливо подать мне тазик, а потом тщательно вымыл мне лицо и руки теплой водой, вытер полотенцем и снова уложил на подушку, не забыв перевернуть ее холодной стороной. Я даже подумала, что рядом со мной моя мама – ведь горничная моя так и не появилась. Лишь ночью, проснувшись, я поняла, что все это время со мной нянчилась Селия.
– Вы что же, так и сидели возле меня? – спросила я.
– Ну да, – сказала она, словно это было совершенно естественно. – Я, правда, порой оставляла вас на несколько минут, чтобы присмотреть за Гарри.
– Ему тоже так плохо? – удивилась я.
– Пожалуй, еще хуже, чем вам, – спокойно ответила Селия. – Ничего, вы оба снова почувствуете себя вполне нормально, как только мы доберемся до Франции.
– И вам не надоело возиться с нами, Селия? Вы ведь, наверное, устали?
Она улыбнулась, и ее нежный голосок донесся до меня словно издали, потому что я уже снова начинала соскальзывать в сон.
– О нет, – сказала она. – Я совсем не устала. Я гораздо крепче, чем может показаться.
Когда я проснулась в следующий раз, ужасная качка почти прекратилась. От слабости у меня звенело в ушах, зато меня больше не тошнило, и я решилась сесть. Я спустила на пол босые ноги и почувствовала, что вся дрожу, но мне, безусловно, было гораздо лучше. Я вышла в коридор и осторожно приблизилась к соседней двери, ведущей в каюту Гарри. Ноги подо мной подгибались, а я даже стул с собой не прихватила для поддержки. Дверь открылась совершенно беззвучно, и я в молчании застыла на пороге.
Селия стояла возле койки, на которой лежал мой Гарри; в одной руке у нее была чашка с бульоном, а второй она поддерживала его за плечи, и он понемножку пил бульон, точно больной младенец. Потом Селия уложила его на подушку и ласково, с бесконечной добротой спросила:
– Ну что, теперь тебе получше?
Гарри благодарно стиснул ее руку:
– Дорогая, ты так добра! Ты такая нежная, милая…
Селия улыбнулась и откинула ему волосы со лба интимным и вполне уверенным жестом.
– Ах, Гарри, какой ты глупый! – сказала она. – Я же твоя жена! Разве я могу не заботиться о тебе, когда тебе так плохо? Я же обещала любить тебя и в радости, и в горести. И мне очень приятно было оказаться вам обоим полезной – и тебе, и нашей милой Беатрис.
Я в немом ужасе смотрела, как Гарри взял руку Селии, которой она только что приглаживала ему волосы, и с нежностью поднес к губам. И Селия, холодная застенчивая Селия, наклонилась и поцеловала его в лоб! Затем она встала и задернула занавески вокруг его постели. А я поспешила отступить обратно в коридор и, бесшумно ступая босыми ногами, ретировалась в свою каюту и закрыла за собой дверь. Эта неожиданная уверенность Селии и ее нежное отношение к Гарри встревожили меня. Я снова ощутила острый укол ревности и боязнь того, что окажусь лишней, что буду совершенно не нужна им обоим во время их медового месяца. Желая вновь обрести мужество и найти хоть какое-то подтверждение собственной красоты и привлекательности, я повернулась к небольшому зеркалу, прикрепленному к стенке каюты. Зрелище было удручающее: лицо мое покрывала болезненная бледность, а кожа была тусклой и желтоватой, как воск.
Нечего было и думать о том, чтобы, снова проявив решительность, войти в каюту Гарри и устроить ему бурную сцену или просто забраться к нему в постель. Если ему так же плохо, как и мне, он не обрадуется ни ссоре, ни страстному примирению.
Пока я одевалась, с лица моего не сходило озадаченное выражение. Впервые, почувствовав себя плохо, мы оказались столь непохожи на самих себя, непохожи на тех, какими были, пока не оторвались от родной земли. Я была поражена тем, как мало у нас с Гарри общего. Вдали от Широкого Дола, вдали от моих навязчивых идей, испытывая слишком сильное недомогание, чтобы быть любовниками, мы оказались совершенно чужими друг другу. Если бы я зашла в его каюту за чем-то другим, а не ради страстной любовной сцены, я бы просто не знала, что ему сказать. Во всяком случае, мне бы и в голову не пришло заказать ему бульон, или покормить его с ложки, как какого-то отвратительного младенца-переростка, или заботливо задернуть занавески, чтобы он мог поспать. Я никогда в жизни не ухаживала за больным человеком; я даже в раннем детстве не играла в куклы; и у меня не было ни малейшей склонности к той разновидности любовных отношений, которая включает нежную, материнскую заботу и всевозможные милые одолжения.
Селия, расцветшая от сознания собственной значимости, и Гарри, откровенно благодарный ей за ее нежные заботы, представляли собой, на мой взгляд, довольно странную пару, но я никак не могла придумать, как можно было бы повлиять на развитие их новых взаимоотношений.
Да мне не так уж и хотелось сейчас – когда я уже стояла на палубе и любовалась восхитительно спокойным небом до самого горизонта – портить для Селии ее краткие мгновения славы. Если ей так нравится нянчиться с Гарри и со мной в такие отвратительные моменты, то в этом я ей не соперница. И если Гарри поцелует ей руку в знак благодарности и скажет спасибо за столь неприятную и тяжелую работу и заботу, то мне от этого хуже не будет. Вскоре от резких порывов ветра щеки мои снова порозовели, а уныло повисшие волосы стали завиваться кудрями, и во мне вновь проснулась надежда. Впереди Франция, впереди долгие дни отдыха, полные легкомысленного веселья. В чужой стране некому будет следить за нами, некому будет нас подслушивать, и обманывать нам придется только наивную, глупую, рабски преданную нам Селию.
Гарри и Селия вскоре тоже поднялись на палубу, и я простила им даже крепко сплетенные руки – особенно когда увидела, как мой некогда сильный и здоровый любовник бессильно прислоняется к Селии, ища поддержки. Гарри был очень бледен, апатичен и сумел улыбнуться, только когда я заверила его, что примерно через час мы уже высадимся на берег. Никакой тревоги я больше не испытывала. Я твердо знала: как только Гарри поправится настолько, что сможет с аппетитом пообедать и вновь почувствовать вкус к жизни, я опять обрету над ним полную власть.
Мы поужинали и переночевали в Шербуре, и утром Гарри чувствовал себя уже вполне хорошо. Я не жаловалась, но позавтракать так и не смогла, поскольку у меня возобновились приступы тошноты, хотя головокружение прошло. Меня затошнило, едва я подняла голову с подушки, потом все утро мне было не по себе. Пока мои спутники с удовольствием завтракали и пили кофе с круассанами, я поспешила выйти на воздух и, устроившись в гостиничном садике, стала смотреть, как грузят в дилижанс наши вещи, заранее побаиваясь долгого пути до Парижа. Мне казалось, что дурнота вернется, как только мы окажемся в тесной, мерно покачивающейся карете, поэтому я с трудом заставила себя поднять голову и улыбнуться Гарри, когда он помогал мне садиться в экипаж.
Мои опасения оправдались: я продолжала плохо себя чувствовать, когда море и запахи корабля остались далеко позади. Проклятье, но недомогание преследовало меня по утрам в течение всего пути в Париж, и в залитом солнцем Париже меня тоже каждое утро тошнило, и Гарри напрасно барабанил в дверь, приглашая меня покататься верхом в bois[16]. То же самое продолжалось и во время нашего путешествия на юг.
И однажды, когда меня в очередной раз утром вырвало, я высунулась в окно, хватая ртом воздух, и с отвращением призналась себе в том, в чем мне признаваться совсем не хотелось. Я была беременна.
Мы находились в трех днях пути от Парижа, в самом сердце центральной, сельскохозяйственной, Франции, и из моего окна открывался чудесный вид на черепичные крыши очаровательного старого городка. Я жадно вдыхала воздух, слишком теплый, пожалуй, для английской осени, и вдруг почувствовала запах выпечки и еще какой-то ужасный запашок вроде чеснока. Разумеется, меня снова вырвало, но одной слюной, потому что желудок мой был пуст.
Из моих припухших глаз брызнули слезы; я чувствовала, как они холодят мне щеки, словно я плачу от горя и совсем обессилела. Хорошенькие крыши из голубой черепицы, высокие старые колокольни, дрожащая голубоватая дымка на горизонте, признак приятной теплой погоды – ничто меня не радовало, ничто не могло меня согреть. Я понимала, что беременна, и мне было очень страшно.
В тот день мы как раз собирались ехать дальше, и остальные уже ждали меня внизу. Я спустилась, но, почувствовав, как к лицу приливает жар и к горлу вновь подступает тошнота, сказала, что кое-что забыла у себя в комнате, и стремглав бросилась наверх, чтобы избежать их удивленно-сочувственных взглядов. И вот сейчас я должна была снова спуститься вниз, сесть в дилижанс и почти весь день провести в нем, покачиваясь и подскакивая на колдобинах разбитых французских дорог и слушая, как Селия вслух читает свой проклятый путеводитель, а Гарри, как всегда, храпит. И некому было протянуть мне руку в минуту страшной беды и отчаяния. И сама я никого не могла попросить: «Помогите! Мне так плохо!»
Собственно, с тех пор, как началось это утреннее недомогание, я уже втайне догадывалась, в чем дело. И все же, когда у меня в положенное время не пришли месячные, я обвинила в этом нервы и чрезмерное возбуждение во время свадьбы и в начале путешествия. Но в глубине души мне все стало ясно еще недели две назад. Просто я никак не могла заставить себя повернуться к этой беде лицом. И я, уподобляясь Гарри и маме – хотя сама всегда мыслила очень трезво и отличалась решительностью, – упорно гнала от себя тревожные подозрения. Но они возвращались, и каждое солнечное утро, просыпаясь, я чувствовала себя больной и встревоженной. В течение дня, улыбаясь Гарри и болтая с Селией, я могла на какое-то время забыть об этом, успокоить себя необременительной ложью, что я совершенно здорова, а мое недомогание просто связано с переменой мест, с нашим путешествием. А ночью, лежа в объятиях Гарри и побуждая его проникать в меня как можно глубже, я каждый раз в глубине души надеялась, что это заставит мои месячные снова прийти, но с утра все начиналось снова, и мне с каждым днем становилось все хуже. Я уже всерьез стала опасаться, что Селия со своей нежной проницательностью заметит мое состояние, а я, чувствуя себя такой усталой и одинокой, не смогу скрыть от нее свою тайну, и тогда сильнее всякого здравомыслия станет моя потребность в помощи и любви, мое желание, чтобы хоть кто-то сказал мне: «Не бойся. Ты не одна. Вместе мы с этим как-нибудь справимся».
Теперь мне было уже очень страшно, и о своем ближайшем будущем я даже думать не осмеливалась.
Я вынула из ридикюля носовой платок и, держа его в руках в качестве извинения, спустилась вниз. Селия ждала меня в холле, пока Гарри расплачивался по счетам, и радостно улыбнулась, но я не сумела улыбнуться ей в ответ, настолько были напряжены мышцы моего лица. Вероятно, я была очень бледна, потому что Селия вдруг спросила:
– Вы хорошо себя чувствуете, Беатрис?
– Отлично! – ответила я, и она, приняв мою чрезмерную краткость за нежелание говорить на эту тему, больше ни о чем меня не спросила, хотя больше всего мне хотелось расплакаться, броситься к ней в объятия и попросить ее спасти меня от той страшной угрозы, что нависла надо всем моим будущим.
Я просто представить себе не могла, как мне теперь быть.
В карету я садилась, словно всходя на эшафот. И сразу же отвернулась и уставилась в окно, чтобы охладить вечное желание Селии поболтать. Загибая под ридикюлем пальцы, я подсчитала, что уже два месяца беременна и могу ожидать разрешения от бремени в мае.
С бессильной ненавистью я смотрела на солнечный французский пейзаж, проплывающий за окном, на приземистые домики и пыльные, хорошо вскопанные сады и огороды. Эта чужая земля, эти незнакомые места тоже казались мне частью кошмара, связанного с моим затруднительным положением. Я испытывала смертельный страх, думая о том, что может случиться самое худшее: я умру во время этих позорных родов и никогда больше не увижу ни своего милого дома, ни Широкого Дола. И мое тело будет похоронено на одном из этих ужасных тесных французских кладбищ, а не возле нашей деревенской церкви, не в моих родных местах. Еле слышное рыдание вырвалось из моей груди, и Селия, оторвавшись от книги, тут же посмотрела на меня. Я чувствовала ее взгляд, но даже головы в ее сторону не повернула. Она ласково потрепала меня по плечу своей маленькой ручкой – так взрослый мог бы утешить огорченного ребенка, и этот жест немного успокоил меня, но я никак на него не ответила, лишь сморгнула навернувшиеся на глаза слезы.
Два или три дня я ехала молча; это злосчастное путешествие все продолжалось, а Гарри ничего не замечал. Когда ему становилось скучно, он перебирался на козлы и ехал рядом с возницей, чтобы лучше видеть окрестности, или нанимал лошадь и с удовольствием садился в седло. Селия посматривала на меня с нежностью и тревогой, но не вмешивалась в мои мрачные раздумья, хотя я видела, что она всегда готова поговорить со мной, выслушать меня. Но я ничего ей не говорила и старалась сохранять на лице безмятежное выражение, особенно когда Гарри был поблизости; или же просто смотрела в окно, когда мы с Селией оставались одни.
К тому времени, как мы добрались до Бордо, я успела преодолеть первый шок; разум мой перестал метаться и шататься, как пьяный. И первое, что мне пришло в голову, это избавиться от нежданной обузы. Я сказала Гарри, что хочу как следует покататься верхом, чтобы стряхнуть, наконец, с себя всякое беспокойство. Он с сомнением смотрел, как я выбираю на конюшне самого зловредного с виду жеребца и при этом настаиваю на дамском седле, хотя мне все советовали этого не делать. Что ж, все они оказались правы. Даже будучи в самой лучшей своей форме, я бы на этом жеребце не удержалась. Он сбросил меня на землю в первые же десять секунд, еще на конюшенном дворе. Меня подняли, поставили на ноги, и я даже сумела улыбнуться и сказать, что не ушиблась. Потом я сказала, что, пожалуй, сегодня лучше посижу спокойно. Целый день я сидела в своем номере и ждала. Но ничего так и не произошло. Теплые лучи осеннего французского солнца вливалось в окно, и я показала солнцу язык, отвергая все здоровое, сильное, плодоносное. Эта хорошенькая светлая комнатка вдруг показалась мне чересчур тесной; стены словно смыкались, мне нечем было дышать. У меня было ощущение, что в воздухе разлит какой-то отвратительный запах, что им провоняла вся Франция. Схватив капор, я сбежала вниз и приказала подать мне маленькое ландо, которое Гарри нанял на то время, что мы проведем в городе. Но тут следом за мной вниз неторопливо спустилась Селия и удивленно спросила:
– Вы собираетесь ехать одна, Беатрис?
– Да! – резко ответила я. – Мне необходимо подышать свежим воздухом.
– Хотите, я поеду с вами? – предложила она. Ее уклончивая манера невероятно меня раздражала в первую неделю нашего путешествия, но вскоре я поняла, что это не от недостатка ума или уверенности, а из деликатности и простого желания угодить.
Ее вопросы – «Мне пойти с вами в театр?», «Мне пообедать вместе с вами или лучше одной?» – означали просто: «Вы предпочитаете мое общество или хотите остаться наедине?», и, кстати, мы с Гарри, к своему удивлению, вскоре обнаружили, что Селия не обидится ни в том случае, если мы от ее предложения откажемся, ни если мы его примем.
– Не стоит, – сказала я. – Лучше приготовьте Гарри чай, когда он вернется. Вы же знаете, как он это любит. Тем более здешние слуги совершенно не умеют заваривать чай. А я скоро вернусь.
Селия с улыбкой кивнула и проводила меня взглядом. Я сохранила спокойствие на лице, пока ехала мимо нее и раскрытых окон отеля, но как только мы отъехали достаточно далеко, я опустила на лицо вуаль и горько расплакалась.
Я пропала, пропала, пропала! – думала я и никак не могла придумать никакого выхода. Сперва я решила, что надо все рассказать Гарри и попытаться найти решение вместе с ним. Но некий мудрый голос в глубине моей души предостерег меня от этого, требуя подождать, не поддаваться панике и не делать признаний, от которых я потом не смогу отказаться.
В Широком Доле все было бы иначе. Там я первым делом направилась бы к Мег, матери Ральфа, которую в деревне многие считали колдуньей. Но какой смысл вспоминать о Мег? И я, пожав плечами, отринула эту мысль. Я выросла в сельской местности и, как и все деревенские дети, знала, что многим девушкам – работающим в господском доме, или неудачно вышедшим замуж, или соблазненным женатым мужчиной – помогают избавиться от непредвиденных сложностей такие знахарки, как Мег, ибо им известны тайны самых разных, в том числе и ядовитых, растений. Но сама я никогда не знала, что это за растения, и наверняка никогда не смогла бы узнать, как ими пользоваться.
Несомненно, и в этом сонном французском городе, как и в любом рыночном городе, нашлась бы знахарка-травница, и она, возможно, сумела бы дать мне дельный совет. Вот только как ее найти, чтобы об этом моментально не пронюхала вся гостиница, а затем и каждый заезжий англичанин, любитель сплетен? И с «естественным» падением с лошади мне тоже не повезло – я всего лишь до смерти напугала Гарри, да и сама испугалась, когда так больно ударилась и вся исцарапалась. Но толку-то не было никакого! И этот проклятый сорняк так и остался расти во мне!
Возница остановился, ожидая дальнейших указаний, и я сердито велела ему ехать вперед.
– Вперед, вперед! – почти с яростью крикнула я. – Не останавливайтесь! Я хочу куда-нибудь за город. – Он кивнул и щелкнул хлыстом, решив подчиниться требованиям эксцентричной молодой англичанки. Вскоре карета выехала за городскую черту, и богатые особняки сменились обычными сельскими домишками, окруженными небольшими, насквозь пропыленными садами, а потом потянулись поля и бесконечные виноградники, ряды которых уходили прямо за горизонт.
Вообще-то, пейзаж был довольно приятный, но я смотрела на него с тоской: он был так не похож на мой любимый Широкий Дол! Наши округлые, зачастую покрытые буковыми рощами и чудесной зеленой травой холмы волнами катились вдаль, а здесь каждый холм был изрыт террасами, засаженными монотонными рядами виноградных лоз; казалось, здесь возделан каждый дюйм земли, и бесконечные виноградники лишь кое-где прерывались небольшими крестьянскими огородами. В эту страну, возможно, приятно приехать ненадолго, в гости, поездить по этим пыльным дорогам под жарким, таким не-английским солнцем, но жить во Франции я бы не хотела и тем более не хотела бы быть здесь бедной. Наши простые люди тоже живут далеко не богато – если бы это было иначе, я решила бы, что я переплачиваю своим работникам, – но им не приходится буквально выцарапывать свой хлеб из сухой земли, как французским крестьянам. Мы с Гарри многому научились, разъезжая по окрестностям Бордо и беседуя со здешними землевладельцами, но нас откровенно поразило, как мало они знают о своих владениях и о тех людях, что трудятся на принадлежащей им земле; как редко они заглядывают за пределы того парка, что окружает их chateau[17]. Кроме того, мы теперь были совершенно уверены, что у себя в Широком Доле ушли далеко вперед, сочетая новые способы обработки земли с традиционными надежными методами ведения хозяйства.
Меня внезапно охватила острая тоска по Широкому Долу; мне очень захотелось оказаться в родном доме, на родной земле, а не здесь, в этой чужой засушливой стране, еще и потому, что мои платья становились все тесней и в талии, и в груди. Но эта болезненная ностальгия неожиданно породила некую весьма яркую мысль, показавшуюся мне поистине гениальной и настолько меня поразившую, что я даже вскрикнула. Возница тут же снова натянул вожжи и обернулся, чтобы выяснить, не готова ли я вернуться. Я выпрямилась, махнула ему рукой, веля ехать вперед, и снова откинулась на спинку сиденья, инстинктивно прижимая ладонь к своему слегка округлившемуся животу. Этот ребенок, растущий в моем чреве, которого я всего несколько секунд назад считала зловредным сорняком, был наследником Широкого Дола. Он был моим возлюбленным сыном – я совершенно точно знала, что это мальчик! – а значит, и будущим хозяином нашего поместья, а значит, отныне мне навсегда обеспечено там вполне достойное место. Я буду хозяйкой этих, столь драгоценных для меня, акров земли во всем, кроме фамилии. Сквайром будет мой сын. Именно он станет истинным хозяином Широкого Дола!
И все для меня сразу переменилось. Моя обида на весь свет растаяла без следа. Какая ерунда – все эти мелкие неудобства и даже грядущие родовые схватки! Ведь это связано с появлением на свет моего дорогого сыночка, который вскоре родится и будет расти и расти, пока не займет то место, что принадлежит ему по праву.
И я опять вернулась к мысли о том, что, может быть, стоило бы рассказать обо всем Гарри, сыграв на его гордости по поводу того, что у него будет сын и наследник. И снова какой-то внутренний голос предостерег меня от этого и велел действовать как можно осторожней. Гарри, безусловно, принадлежал мне, и это «свадебное» путешествие служило тому лишним доказательством. Каждый вечер, когда с наступлением темноты в комнаты вносили свечи или, если мы ужинали на воздухе, зажигали светильники, взгляд Гарри неизменно обращался ко мне, и он, похоже, переставал замечать что-либо вокруг; он видел лишь блеск моих волос в мерцающем свете и следил лишь за выражением моего лица. Вскоре Селия, тихонько извинившись, вставала из-за стола, а мы с Гарри еще долго сидели вдвоем. Эти вечера и эти ночи целиком принадлежали мне; мы в течение долгих часов дарили наслаждение друг другу, а потом засыпали, крепко обнявшись. Днем, впрочем, мне приходилось делить Гарри с Селией, и я замечала, что между ними начинают возникать некие любовно-интимные отношения, но помешать этому, разумеется, никак не могла.
Впрочем, еще когда мы плыли на том распроклятом корабле, у Селии установились с Гарри очень приятные, легкие и простые отношения. Ей доставляло удовольствие быть ему полезной, утешать его, если он устал или плохо себя чувствует; ей нравилось обустраивать наши комнаты в различных отелях, так что любой самый обычный номер становился и более уютным, и более элегантным. Селия, болезненно застенчивая, страдающая от постоянной неуверенности в своем французском, тем не менее, решительно спускалась на кухню и вступала в спор с самим шеф-поваром, доказывая ему, например, что он неправильно заваривает чай. И она вполне способна была остаться на кухне до тех пор, пока все не будет сделано именно так, как нравится Гарри, хоть и вызывала своей настойчивостью неизменное негодование слуг.
Она во всем прямо-таки умилительно его опекала – того мужчину, который целиком и полностью принадлежал мне, – и я позволяла ей это как некое безобидное хобби, которое к тому же освобождало меня от бесконечных хозяйственных забот. Именно Селия укладывала и распаковывала наши чемоданы с одеждой и постельными принадлежностями, когда мы переезжали из города в город, из отеля в отель. Именно Селия каждый раз подыскивала нам портных, прачек, сапожников, флористов и всю остальную нужную нам обслугу. Именно Селия весьма удачно, исключительно мелкими стежками, зашила прореху в нарядном вышитом жилете Гарри. Короче, главной заботой Селии было прислуживать Гарри, а моей – забавлять и радовать его.
Она явно стала более уверенной в себе после одной весьма напряженной ночи в Париже, когда они, наконец, стали мужем и женой. Мы с Гарри специально выбрали этот вечер, и уж я постаралась, чтобы он воспринял выполнение своего супружеского долга как задачу весьма неприятную. В тот вечер я надела платье с глубоким декольте, ибо мы собирались слушать оперу, а затем ужинать в ресторане. Собственно, траурные одежды я сбросила, едва ступив на землю Франции, но в тот вечер я прямо-таки сверкала красотой и была похожа в своем зеленом платье на юную березку с серебристым стволом. Волосы мои были густо напудрены белым, и это придавало коже оттенок прозрачного сухого вина. Ко мне были прикованы все взгляды, когда мы втроем – Гарри, Селия и я – шли к своему столику. Рядом со мной Селия в своем бледно-розовом платье выглядела невзрачной, почти незаметной.
Я болтала без умолку, стараясь быть остроумной, Гарри много пил и громко хохотал, слушая мои шутки. Он явно нервничал и был напряжен, как пружина, а потому абсолютно не замечал настроения Селии, которая выглядела так, словно ей предстоит путь на плаху, а не в супружескую постель. В своем девическом платьице она выглядела болезненно бледной, почти все время молчала и за весь вечер не съела ни крошки. Я послала Гарри в ее спальню, уверенная, что больше ничем не могу отсрочить для них обоих столь болезненный и начисто лишенный удовольствия процесс исполнения супружеского долга.
Гарри справился даже быстрее, чем я ожидала. Он явился ко мне прямо в халате, под которым виднелась ночная сорочка, перепачканная кровью Селии, и сообщил: «Дело сделано». И тут же залез ко мне в постель. Мы так и уснули, обнимая друг друга – словно союзники, словно я своей нежностью утешала его в некой тайной печали. Но утром, когда серый парижский рассвет прокрался в щели ставней, нас разбудили тележки водовозов, грохотавшие по булыжной мостовой, и мы страстно занялись любовью.
Однако безусловным свидетельством возросшей зрелости Селии – это я отметила про себя и никак не прокомментировала – было то, что я не услышала от нее ни слова об этой ночи, исполненной боли. Да, на этот раз наша маленькая, всегда все мне рассказывавшая Селия ничего мне не сказала. Ее заставила молчать невероятная преданность Гарри – Гарри-другу, Гарри-страдальцу и даже Гарри-насильнику, хотя в последней роли он выступил, будучи ее законным мужем. Она никогда ничего нам не говорила, никогда не высказывала никаких предположений и никогда впрямую не комментировала нашу с Гарри привычку засиживаться вдвоем по вечерам, когда она уходит к себе. Когда однажды утром она обнаружила, что постель Гарри так и осталась нетронутой – мы в тот день самым беспечным образом проспали, – то и тогда всего лишь предположила, что Гарри просто заснул в кресле, да так и проспал всю ночь. Возможно, про себя она и подумала, что ночью он мог находиться у другой женщины, но ничем этого не показала. Она поистине была идеальной женой и для Гарри, и для меня. Но при этом, полагаю, она была глубоко несчастна.
Однако не это, а то, как с некоторых пор реагирует на свою жену Гарри, заставляло меня испытывать некоторую нерешительность. Он, как и я, не мог не замечать неизменной преданности Селии мне, ему и всей нашей семье. Я видела, как ценит он ее ненавязчивые услуги, ее постоянное желание угодить. Я отмечала, как искренне любезен Гарри в обращении с женой, как усиливается их взаимное доверие, но никоим образом не могла остановить развития подобных взаимоотношений, как не могла и вмешиваться в них – это выдало бы меня с головой. К тому же у меня и не было причин так поступать. Пусть Селия сколько угодно радуется учтивости Гарри – тому, как он целует ей руку и встает, стоит ей войти в комнату, тому, как мило он ей улыбается за завтраком и с рассеянной вежливостью слушает ее рассуждения. Я предпочитаю этому страстную любовь Гарри и Широкий Дол. Благодаря Ральфу – да и сама по себе – я знала: страстная любовь и обладание землей являются самым важным в жизни любого человека. Они столь же важны, как важен прочный замковый камень в старинной норманнской арке над воротами, ведущими в обнесенный стеной сад.
В общем, хоть я и была уверена в Гарри, некие перемены в его отношениях с нашей малюткой Селией заставляли меня медлить с сообщением о том, что я беременна и скоро рожу ему наследника.
Со щелчком закрыв свой зонтик, я ткнула им в спину вознице и весьма нелюбезно потребовала: «Поехали домой!» Он неловко развернул экипаж на узкой и пыльной проселочной дороге и двинулся в обратном направлении.
Мне нужно было придумать, как втайне родить это дитя и некоторое время прятать его, пока я не смогу довести до сознания Гарри мысль о том, что у него от меня есть сын и наследник. Разумеется, я понимала, что мне придется скрывать беременность, а потом подыскать какую-нибудь надежную женщину, чтобы после родов она позаботилась о ребенке и держала его у себя, пока я не смогу убедить Гарри в том, что ему необходимо предъявить мальчика Селии, сказать, что это его сын, и настоять на том, чтобы она приняла ребенка и стала о нем заботиться.
Я задумчиво покусывала снятую с руки перчатку, глядя на проплывавшие мимо виноградники. Крестьяне как раз собирали урожай, продвигаясь вдоль рядов узловатых виноградных лоз и срезая огромные тяжелые грозди, из которых делают темно-красное чудесное бордо. Мы будем пить его сегодня за обедом. В это время года бордо пьют молодым, и его послевкусие ощущается на языке, точно веселые искорки. Впрочем, я понимала, что и от обеда, и от вина, и от всего остального мне будет мало радости, если я не сумею разрешить этот клубок желаний и обстоятельств. Во-первых, Гарри может попросту мне отказать. Или может сперва согласиться, а потом, охваченный очередным приступом совестливости, передумать и сказать, что не намерен навязывать Селии своего бастарда. Я прекрасно знала, что у многих наших знатных соседей имелись в доме бастарды, но, по-моему, никто и никогда еще не навязывал жене своего ублюдка и не пытался назвать его своим наследником. Во-вторых, и сама Селия может отказаться принять такого ребенка, и ее наверняка поддержит в этом даже моя мать (не говоря уж о ее собственных родственниках, особенно если она им кое-что порасскажет). И, естественно, после этого всем захочется узнать, откуда взялся этот ребенок, а я не могу быть уверена, что Гарри сумеет продолжать столь сложный обман.
Проблема введения этого малыша в семью Гарри в качестве нового наследника казалась неразрешимой, и вместе с тревогой в душе моей вновь стал разгораться огонь гнева. Похоже, перед моим сыном, как и передо мной, будет закрыт путь к трону Широкого Дола. Но он, как и я, все-таки своего добьется! И я должна увидеть, как он сидит во главе стола, как он ступает по земле Широкого Дола, чего бы это мне ни стоило! А пока мне нужно было подыскать какую-нибудь добрую, глуповатую женщину с развитым материнским инстинктом, которая стала бы заботиться о новорожденном и готовить его к той жизни, в которой ему со временем предстоит занять главенствующее место.
Ландо внезапно остановилось, и мне пришлось прервать свои размышления. Пока что мне было ясно одно: я должна найти в этой, совершенно чужой мне, стране, не зная ни слова по-французски, добрую, любящую детей женщину, чтобы она выкормила моего кукушонка. Я стояла, задумчиво чертя что-то на земле концом своего зонтика, когда мне навстречу с крыльца гостиницы устремилась моя невестка, нежная, любящая, глупая Селия – и решение всех моих проблем разом было найдено; так порой внезапно бьет в глаза луч осеннего солнца из-под низко нависшей темной тучи.
– Ну что, теперь вы лучше себя чувствуете? – ласково спросила Селия. Я продела ее руку себе под локоть, и мы вместе стали подниматься на крыльцо.
– Да, сейчас мне уже намного лучше, – уверенно сказала я. – Но я кое-что должна рассказать вам, Селия. Мне требуется ваша помощь. Пойдемте ко мне. Там мы сможем спокойно беседовать до самого обеда.
– Конечно! – с охотой воскликнула Селия. По-моему, она была польщена. – Но что же вам так срочно понадобилось поведать мне, Беатрис? Впрочем, вы же знаете: я в любом случае непременно постараюсь помочь вам.
Я одарила ее нежной улыбкой и с грациозным поклоном отступила на полшага, пропуская ее в гостиницу. В конце концов, какое сейчас имеет значение какой-то жест, признающий ее превосходство, если я намерена с ее же помощью, как всегда надежной и щедрой, навсегда лишить и ее, и всех ее детей возможности занять место хозяев Широкого Дола?
Как только мы вошли в мой номер и закрыли за собой дверь, я мгновенно придала своему лицу мрачное выражение, потянула Селию к козетке и, когда мы сели, вложила свою руку в ее ладони, посмотрела на нее печально и нежно, и зеленые кошачьи глаза как бы сами собой наполнились слезами.
– Селия, – промолвила я, – у меня страшная беда. Я просто не знаю, что мне теперь делать!
Она, широко раскрыв свои карие глаза, смотрела на меня и постепенно бледнела.
– Я пропала, Селия, – с рыданием в голосе произнесла я и спрятала лицо у нее на плече, чувствуя, что она вся дрожит. – Да, я пропала, пропала, – твердила я. – Я беременна!
Она охнула и застыла от неподдельного ужаса. Каждый мускул ее тела был предельно напряжен. Затем она решительно подняла мое лицо за подбородок, посмотрела мне прямо в глаза и спросила:
– Беатрис, вы уверены?
– Да, – сказала я. Полагаю, вид у меня был столь же потрясенный и испуганный, как у нее. – Да, я совершенно уверена. Ах, Селия! Как же мне быть?
Губы ее дрогнули; она ласково взяла мое лицо в ладони и сказала:
– Что бы ни случилось, я всегда буду вашим другом.
Мы немного помолчали – нужно же было ей как-то переварить эту новость, – и она неуверенно спросила:
– А кто… отец ребенка?
– Я его не знаю, – сказала я, выбрав самую безопасную ложь. – Помните, я приезжала к вам верхом, чтобы померить платье? Мне еще потом стало плохо?
Селия кивнула, не сводя с моего лица своих честных глаз.
– Так вот, мне стало нехорошо еще по пути в Хейверинг-холл. Пришлось даже спешиться. А потом я, должно быть, потеряла сознание, а когда очнулась, какой-то джентльмен пытался привести меня в чувство. Мое платье было в полном беспорядке – вы, может быть, помните, что у меня воротничок был разорван… но я же не знала… да и откуда мне было знать… – Я уже не говорила, а почти шептала, и мой напряженный шепот то и дело прерывался рыданиями: мне было очень стыдно. – Он, должно быть, успел меня обесчестить, пока я была без сознания.
Селия стиснула мои руки.
– Вы его запомнили, Беатрис? Вы узнали бы его, если б увидели снова?
– Нет, – сказала я, разом лишая ее надежды на какой-либо счастливый конец. – Я никогда его раньше не видела. Он ехал в легкой повозке, и сзади был привязан его багаж. Он явно куда-то направлялся и, возможно, проездом оказался на землях Широкого Дола, Возможно, он ехал в Лондон.
– О господи! – в отчаянии воскликнула Селия. – Бедная моя, дорогая Беатрис!
Рыдания помешали ей говорить; мы обнялись, прижимаясь друг к другу мокрыми от слез щеками, и долго сидели так, а я кисло размышляла про себя, что только девица, с детства перекормленная сказками и любовными романами, а затем изнасилованная собственным мужем, не проявляющим к ней должного внимания, способна проглотить подобную чушь. Впрочем, когда Селия обретет достаточный опыт, чтобы усомниться в возможности зачатия в бессознательном состоянии, она уже по уши увязнет в этой, изобретенной мною, лжи и не будет иметь ни малейшей возможности из нее выпутаться.
– Что же мы можем сделать, Беатрис? – в отчаянии спросила она.
– Я что-нибудь придумаю, – храбро заявила я. – Не надо плакать. Сейчас нам пора переодеться и идти к обеду. Мы еще успеем поговорить об этом – завтра, после того как хорошенько надо всем поразмыслим.
Селия послушно пошла к двери, но на пороге остановилась и спросила, вдруг перейдя на интимное «ты»:
– Ты скажешь Гарри?
Я медленно покачала головой.
– Нет, Селия. Ему невыносимо будет сознавать, что я опозорена. Ты же знаешь, какой он. Ведь он начнет настоящую охоту за этим человеком, точнее, за этим дьяволом. Он будет рыскать по всей Англии и не успокоится, пока не убьет его. Я все же надеюсь, что есть какой-то способ сохранить эту страшную тайну, о которой будем знать только мы двое – ты и я. Я вручаю тебе свою честь, дорогая Селия.
Она кивнула; к счастью, ей ничего не нужно было повторять дважды. Она просто подошла ко мне, поцеловала и поклялась, что никогда и никому ничего не скажет. А потом ушла, закрыв за собой дверь так тихо, словно я была тяжело больна.
Я села за хорошенький, во французском стиле, туалетный столик, выпрямилась и улыбнулась своему отражению в зеркале. Я никогда еще не выглядела лучше. Те перемены, что происходили где-то в глубине моего тела, возможно, и доставляли мне некоторые неприятности, так что порой я чувствовала себя совершенно больной, но на моей внешности они сказались самым наилучшим образом. Мои груди пополнели, налились, стали более чувственными и так соблазнительно выглядывали из узкого лифа моих девичьих платьев, что Гарри, глядя на них, прямо-таки сгорал от желания. Талия, правда, чуточку раздалась, но все еще была тонкой. На щеках играл какой-то новый, теплый румянец; глаза так и сияли. И теперь я, вновь обретя власть над течением событий, чувствовала себя прекрасно. Ибо теперь я была уже не глупая шлюха, забрюхатевшая ублюдком, а гордая женщина, которая носит в своем чреве будущего хозяина Широкого Дола.
На следующий день, когда мы с Селией сидели в залитой солнцем гостиной отеля, занятые шитьем, Селия, не теряя времени даром, вернулась к обсуждению нашей проблемы. Я вяло ковыряла иголкой, якобы подшивая кружева, которые собиралась послать маме в следующей посылке – сильно подозревая при этом, что ей придется весьма долго ждать, пока я их подошью, – а Селия увлеченно и весьма успешно снимала рисунок для вышивки с какого-то народного французского узора, распространенного в окрестностях Бордо.
– После нашего разговора я не могла уснуть всю ночь, но пока что нашла только одно решение, – сказала Селия. Я быстро глянула на нее. Под глазами у нее действительно были темные круги, и вполне можно было поверить, что она совсем не спала, встревоженная известием о моей беременности. Я тоже почти не спала, но отнюдь не из-за снедавшей меня тревоги. Просто Гарри среди ночи разбудил меня, обуреваемый желанием немедленно заняться любовью, а потом и еще раз – уже почти на рассвете. И мы никак не могли вдоволь насытиться друг другом; я содрогалась, испытывая извращенное наслаждение при мысли о том, что во мне сейчас и семя Гарри, и его дитя, и я улыбалась при мысли об этом, крепче сжимая бедра Гарри и не давая ему заходить в своих притязаниях слишком далеко. Мне казалось, что так я оберегаю ребенка в своем чреве, ибо теперь он вполне заслуживал моей опеки.
И в то время, как мы с Гарри занимались любовью, Селия, моя дорогая Селия, не спала, тревожась обо мне!
– Пока что есть, на мой взгляд, только один выход, – сказала она, – если, конечно, ты не хочешь признаться во всем твоей маме – а я пойму, если ты этого не захочешь, моя дорогая. Тебе нужно следующие несколько месяцев провести вдали от дома. – Я кивнула: Селия соображала быстро, а значит, я была избавлена от множества всяких неприятных объяснений. – Мне кажется, – осторожно продолжала она, – ты могла бы сказать, что больна и нуждаешься в моей помощи и поддержке; а потом мы с тобой отправились бы в какой-нибудь тихий городок, возможно приморский или в такой, где есть минеральные источники, и там нашли бы добрую женщину, которая помогла бы тебе во время родов и взяла бы на себя дальнейшие заботы о новорожденном.
Я кивнула, без особого, впрочем, энтузиазма, и с благодарностью воскликнула:
– Как ты добра, Селия! Неужели ты действительно готова остаться со мной?
– Ну конечно, – великодушно ответила она. И я даже усмехнулась про себя: она всего полтора месяца замужем, но уже готова обманывать мужа и лгать ему, не колеблясь ни секунды.
– Меня в этом плане тревожит только одно, – сказала я. – Что будет дальше с этим несчастным невинным младенцем? Я слышала, что многие из женщин, берущих детей на воспитание, вовсе не так добры, как хотят казаться; что порой они очень плохо обращаются со своими воспитанниками или даже убивают их. И хотя это дитя зачато при таких обстоятельствах, что я, кажется, вполне могла бы его ненавидеть, оно все же невинно. Ах, Селия, подумай, как эта милая крошка, маленькая английская девочка, будет расти вдали от своей родной страны, без семьи и друзей, одинокая и совершенно беззащитная!
Селия отложила свой рисунок; в глазах у нее стояли слезы, когда она воскликнула:
– Да, бедная детка! – И я поняла, что она вспомнила свое собственное печальное и одинокое детство.
– Мне невыносима мысль о том, что мой ребенок, возможно, дочь – твоя племянница, Селия! – будет воспитываться среди грубых и, возможно, неласковых людей, не имея рядом ни одного друга, – продолжала я терзать бедную душу Селии и добилась своего: по ее щекам потекли слезы.
– О, как это все несправедливо! – страстно воскликнула она. – Как несправедливо, что ее придется оставить в чужой стране! Нет, Беатрис, ты права: ее нельзя бросать здесь. Она должна жить рядом с нами, чтобы мы всегда могли знать, хорошо ли ей живется. Вот если бы было можно поселить ее в вашей деревне…
– Нет, только не это! – И я невольно руками попыталась отстранить от себя столь ужасную перспективу. – Только не в нашей деревне! Лучше прямо сразу дать объявление в газете, что я родила ее вне брака. Если мы действительно хотим позаботиться о девочке и воспитать ее, как настоящую леди, то единственное пригодное для этого место – наша усадьба в Широком Доле. Если бы мы сумели выдать ее за какую-то твою дальнюю родственницу-сироту или за кого-нибудь в этом роде…
– Да, это было бы хорошо, – сказала Селия, – вот только моя мама сразу все поймет. – Она задумалась и умолкла; я не торопила ее: пусть еще немного подумает. А затем я посеяла первое зернышко своего плана в ее взбудораженном тревогой умишке.
– Вот если бы ты, Селия, ждала ребенка, – со страстной тоской воскликнула я, – все бы только обрадовались, особенно Гарри! Узнав об этом, он не стал бы докучать тебе… требуя… исполнения супружеского долга. И твой ребенок мог бы надеяться на самую лучшую, самую счастливую жизнь. Если бы это была твоя дочка, Селия…
Я не договорила, услышав, что от моих слов у нее перехватило дыхание. Похоже, я своего добилась! Я вздохнула, втайне испытывая огромное облегчение и радость.
– Беатрис, я ведь тоже думала об этом! – воскликнула она, слегка заикаясь от возбуждения. – Почему бы нам действительно не сказать всем, что я жду ребенка? Почему бы мне, когда эта девочка родится, не признать ее своей? И тогда наша дорогая крошка могла бы спокойно жить вместе с нами, а я любила бы ее и заботилась бы о ней, как о своей родной дочке! И никому, совершенно никому не нужно было бы знать, что она мне не родная. Я была бы рада заботиться о малышке, а ты была бы спасена! Ну, что ты на это скажешь? Как ты думаешь, может из этого что-нибудь получиться?
Я была просто потрясена ее смелостью.
– Селия! Это же просто гениально! – искренне воскликнула я. – И, по-моему, у нас это вполне получится. Мы, например, до самых родов могли бы оставаться здесь, а потом вместе с девочкой вернуться домой и сказать всем, что она была зачата еще в Париже и просто родилась немного раньше срока! Но разве она тебе так уж нужна, моя бедная крошка? Может, все-таки лучше отдать ее на воспитание какой-нибудь старушке?
Но теперь уже Селия стояла на своем:
– Нет, Беатрис. Я ведь обожаю маленьких детей, а твою дочку стала бы особенно любить, и когда у меня появились бы собственные дети, она стала бы для них старшей сестрой, моей любимицей, и они бы росли и играли все вместе. И она никогда, никогда не узнала бы, что она мне не родная… – Голос Селии дрогнул, она с трудом подавила рыдание, и я догадалась, что ей вспомнилось собственное детство, когда она чувствовала себя изгоем в детской Хейверинг-холла.
– Я уверена: у нас все получится, – помолчав, твердо сказала она. – Я возьму себе твоего ребенка и буду любить его и заботься о нем, как если бы сама его родила. И никто никогда ничего не узнает.
Я улыбнулась, чувствуя, что с души моей свалилась огромная тяжесть. Теперь я снова вполне ясно видела свой путь.
– Ну что ж, хорошо, я принимаю твой план, – сказала я. Мы обнялись и поцеловались. Селия обвила мне шею руками; ее ласковые карие глаза с полным доверием смотрели прямо в мои прозрачные зеленые. В ней воплотилось столько честности, скромности и добродетельности, что казалось, будто она облачена в них, точно в дивное платье из тончайшего шелка. Я, разумеется, была бесконечно умнее и бесконечно хитрее, чем она, и обладала куда более властной натурой, а потому, добившись полной победы, встретила ее доверчивый взгляд с улыбкой столь же нежной, как и ее собственная.
– Итак, – возбужденно спросила она, – с чего мы начнем?
Я настояла, чтобы пока мы ничего не предпринимали и на ближайшую неделю никаких планов не строили. Селия никак не могла понять, почему я медлю, но восприняла это, видимо, как каприз беременной женщины и давить на меня не стала. А мне требовалось всего лишь спокойно обдумать собственные планы. Я по-прежнему видела весьма существенное препятствие в том, как уговорить Селию солгать Гарри. Мне не хотелось сразу же заставлять ее лгать мужу, которому она обещала верность и любовь; и потом, я прекрасно понимала, что врать она не умеет и все это у нее получится на редкость плохо. Я видела, что чем больше времени она и Гарри проводят вместе, тем крепче становится связь между ними. Они были весьма далеки от того, чтобы быть пылкими любовниками – да и как подобная страсть могла бы возникнуть, учитывая природную холодность Селии и ее страх перед интимными супружескими отношениями? К тому же Гарри по-прежнему был страстно влюблен в меня. Но его дружба с Селией крепла день ото дня, и я не могла быть уверена в том, что Селия сумеет скрыть от Гарри истинное положение дел; я не могла быть уверена, что смогу научить ее, глядя мужу в глаза, рассказывать ему одну откровенную ложь за другой.
В себе я не сомневалась. В постели, лежа в объятиях Гарри, я принадлежала ему душой и телом. Но его власть надо мной длилась ровно столько, сколько и сам любовный акт. Стоило мне блаженно вытянуться рядом с ним в полумраке гостиничных ставень, защищавших от слишком жаркого и яркого полуденного солнца и придававших нашим обнаженным телам зеленоватый оттенок, и я снова обретала способность мыслить рассудочно. Даже когда Гарри что-то восторженно восклицал, любуясь моей новой красотой, расцветшим и чуть пополневшим телом, округлыми грудями, которые налились и стали более тяжелыми, я не испытывала ни малейшего желания признаваться ему, что все это связано с тем, что во мне растет его дитя. Он и так видел, что я довольна и счастлива – это нетрудно было заметить по удовлетворенному блеску моих глаз, – но мне вовсе не хотелось говорить, что отныне я с каждым днем все ближе к тому, чтобы стать неоспоримой хозяйкой Широкого Дола; что благодаря ему я обеспечила себе это место. Но каким невероятно сильным было тайное наслаждение при мысли о том, что я ношу под сердцем будущего хозяина поместья и твердо знаю, что и все последующие сквайры станут моими потомками, что в их жилах будет течь моя кровь!
Когда утром я сидела у гостиничного окна, глядя на широкую красивую улицу, обсаженную раскидистыми тополями, мне виделись иные деревья, чудесные буки Широкого Дола. И я улыбалась, представляя себя пожилой дамой, всегда сидящей во главе стола: властной тетушкой сквайра, имеющей куда больший авторитет, чем он сам, и благодаря одной лишь силе своего ума и крови управляющей в поместье всем, в том числе и самим сквайром, и его женой, и его детьми.
И вот однажды утром, поглощенная подобными мечтами, я заметила на улице почтальона, направлявшегося к нашей гостинице. Вскоре в мою дверь постучались, и я с улыбкой поняла, что мне принесли письма из дома. Одно письмо было действительно от мамы – я узнала ее почерк, – но второй конверт был надписан незнакомым аккуратным почерком. Я тут же сломала печать и, взглянув на верхний угол письма, прочла стандартное приветствие: «Дорогая мисс Лейси». Письмо было подписано: «Джон МакЭндрю», и я улыбнулась. А может быть, даже покраснела. Итак, доктор МакЭндрю решил вступить со мной в тайную переписку? Ну-ну. Охваченная неуместным тщеславием, я машинально расправила свое шелковое платье, вернулась к началу письма и поняла, что ошиблась. Можно было так не вспыхивать: письмо оказалось в высшей степени деловым.
Дорогая мисс Лейси,
Извините, что пишу Вам, не спросив разрешения у Вашей матушки, но я был вынужден так поступить, ибо речь пойдет о состоянии ее здоровья. В последнее время она неважно себя чувствует, и, на мой взгляд, это связано с непосильной для нее ответственностью за управление имением.
Опасность ей пока не грозит, но я бы посоветовал Вам не продлевать поездку долее обещанных пределов.
Я недавно был у Вашей матушки в связи с неким небольшим недомоганием и убедился, что у нее слабое сердце, что, впрочем, особых неприятностей не принесет, если ей удастся избегать ненужных волнений.
Искренне надеюсь, что Вы, леди Лейси и сэр Гарри пребываете в добром здравии и наслаждаетесь вашей поездкой.
Ваш покорный слуга,
Джон МакЭндрю
Сперва я почувствовала инстинктивное раздражение: с какой это стати Джон МакЭндрю вмешивается в мои дела? И почему именно тогда, когда мне необходимо продлить мое пребывание во Франции, он велит мне поскорее ехать домой? Я же не ребенок, возвращающийся из школы! И никуда я, конечно же, не поеду! Хотя мне, возможно, придется преодолеть кое-какие неприятности, дабы избежать ответственности.
Однако вторая моя реакция на письмо доктора была более положительной. Проблемы с маминым здоровьем как раз могли оказаться тем самым ключиком, который поможет разрешить самую главную мою проблему и позволит нам с Селией остаться во Франции, тогда как Гарри спешно отправится домой. Пусть он сам держит маму за руку во время очередного приступа сердцебиения или еще чего-нибудь, что она там выдумала, чтобы заставить ее дорогого мальчика к ней вернуться. Эту идею – разумеется, соответствующим образом оформленную и приукрашенную – я и изложила Селии, которая тут же за нее ухватилась.
– О, это было бы хорошо! – воскликнула она. – Но разве ты, Беатрис, не будешь беспокоиться, как там твоя мама? – Мы были у нее в комнате, и она как раз одевалась, чтобы поехать на прогулку. Наши глаза встретились, отражаясь в высоком зеркале, и я, печально вздохнув, сказала:
– Конечно, буду. Но у меня нет выхода, и пока мы его не найдем, я домой поехать не смогу. Но я, по крайней мере, буду спокойна, зная, что Гарри там, у мамы под рукой, и всегда может о ней позаботиться. И потом, он сразу снимет с ее плеч все заботы, связанные с поместьем.
– Тогда давай все ему прямо сейчас и расскажем! – решительно предложила Селия. И мы, завязав ленты шляпок и раскрыв зонтики, поехали искать Гарри.
В тот день Гарри отправился на ферму, где весьма удачно использовали в качестве удобрения морские водоросли, и мы с ним думали, нельзя ли применить это у нас, в Широком Доле. Хотя я считала, что такую известковую землю, как у нас на склонах холмов, нужно удобрять исключительно навозом, а морские водоросли годятся только на песчаных или глинистых почвах низин. А Гарри был уверен, что водоросли можно использовать и на меловых холмах, если дать водорослям хорошенько перегнить. На той ферме, куда он поехал, водоросли сперва сушили на солнце, то и дело переворачивая, потом оставляли под дождем и только после этого запахивали в землю. Мы с Селией тоже направились в сторону фермы, надеясь встретить Гарри, когда он поедет обратно.
Я заметила, какой радостью вспыхнуло лицо Селии, когда на дороге показался какой-то всадник, едущий нам навстречу. Под влиянием французской моды и согласно традициям этого маленького провинциального городка Гарри приобрел привычку повсюду ходить без парика; его золотистые волосы сильно отросли и так и сверкали на солнце, выбиваясь из-под треуголки. Свою гнедую лошаденку он гнал галопом, точно арабского скакуна.
– Привет! – крикнул он, поравнявшись с повозкой и натягивая поводья. – Какой приятный сюрприз! – Улыбался он нам обеим, но смотрел только на меня.
– Мы прихватили с собой кое-что для пикника, так что перекусим на воздухе, – сказала Селия. – Ты не приметил какого-нибудь симпатичного местечка?
– А зачем? Давайте вернемся на ферму. У них там чудесная река. Жаль, я удочки с собой не захватил! Там вполне можно и форель попробовать поймать.
– Зато я их захватила! – победоносно заявила Селия. – Я же знала, что, раз я хочу устроить пикник, ты тут же отыщешь какой-нибудь подходящий ручей и будешь ловить форель. Значит, мне в первую очередь нужно взять с собой твои удочки.
Гарри наклонился и поцеловал ее руку, лежавшую на краю повозки.
– Замечательно! А ты – самая лучшая жена на свете! – с нежностью воскликнул он.






