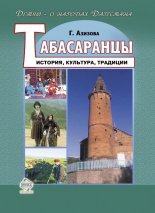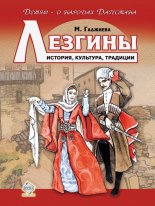Перехваченные письма. Роман-коллаж Вишневский Анатолий
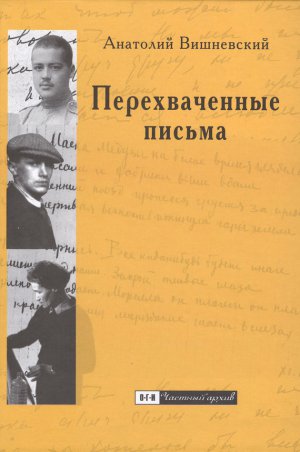
— Нельзя столько говорить о любви, нельзя, нельзя. Мы должны молчать о ней и капля за каплей достичь счастья. Запрем эту любовь в шкатулку. В твердой уверенности, что мы друг друга любим. Ведь мы, в сущности, совсем не знаем жизни друг друга. Самое важное — это воля видеться во что бы то ни стало, но если не каждый день, тогда, значит, все кончилось.
Встреча шестьдесят восьмая
— Борька, трогательный мальчик. А ведь совсем наоборот, как сперва кажется. Как это здорово! Да, может, быть ты только притворяешься?
Чтобы идти на рю Муфтар покупать перчатки, она надела розовую шапочку и сверкала красотой и нежной желтизной кожи на вырезе шеи легкого платья. И мне было больно от жажды прикосновения к этой коже, и к этому лицу, и к этим необыкновенным рукам. Покупая перчатки, ты шалила, и я прикоснулся к твоей щеке своей щекою. Может быть, ты хотела, чтобы я тебя поцеловал, потому что, расставаясь, ты как бы подставила свою щеку, а потом, мило подурачившись, ушла, не оборачиваясь.
Вечером лежал, как мертвец. Dieu guris-moi du mal des lvres[207]. Я решил разлюбить ее в мире форм, чтобы не мучаться. Ах эта кожа, я ничего в жизни не знал страшнее.
Встреча шестьдесят девятая
Встретились противно шаловливо, потом я всю дорогу изводил ее, впрочем очень добродушно, разными выдумками о письмах. Говорил, что читал Арапову любовные письма и что очень хотел бы, чтобы Шура писал бы ей вместо меня.
— Посмей только, я тебя задушу.
Страшно хотел поцеловать тебя — до боли, до боли. Потом уничтожал в себе это — с болью, потому что уничтожал любовь. На следующий день ее уже «совсем мало останется, и я напишу в дневнике: «бедный ангел и кретинка». Потому что поцелуй только один и в силах уничтожить расстояние между культурами, а не целуясь она как бы состязается со мной в прекраснословии. Самомнительный ребенок, со мной ли можно играть на такие карты.
Встреча семидесятая
Дурили и хохотали, как я этого страшно не люблю, как дети (как я не люблю детей!). Она была в черных перчатках, и руки ее были как бы выточены из слоновой кости [перечеркнуто] из черного дерева.
Я несколько раз хотел было ее поцеловать, решив играть ва-банк, потому что совсем уже не на что остается играть. На скамейке мы нежно прижались.
Ты сказала, что очень любишь трагедии и балет и любишь находить радость именно на дне боли. И все это с иронией. «Достоевский для детей», — хохотал я, потому что ничего больше не оставалось делать. Умна необыкновенно, но отвратительно дурнеет от счастья. В точности un esprit de la nature[208], который танцует на гребне волны или купается в языках пены. Как ты дурнеешь (хорошея) от счастья.
Встреча семьдесят первая
— Боба, зачем ты врешь? — когда я ошибся в чем-то.
Она пришла в старых туфельках, которые совсем промокли, и чулках, через которые нежно светилась ее прекрасная кожа. Валяли дураков в Люксембурге, она таскала меня за большие лиловые уши моего пальто и за это не позволяла шлепать по лужам. Несколько раз она так мило приближала свою щеку к моей и думала, кажется, без злобы, что я ее поцелую. Но я боюсь ее, и это, может, отравляет все.
Она дурнеет и пошлеет от счастья, и какая-то восхитительная человечность исчезает в ней, и она превращается в какого-то «духа природы», сильфа или саламандра, обитающего в морской пене или в туше пня.
Промокшие и счастливые расстались у St Sulpice.
Встреча семьдесят вторая
Говорили о Толстом, вспоминала с удивительной нежностью Анну Каренину.
— Больше всего люблю эту Каренину.
Конец «Войны и мира» она находит прекрасным — и даже то, что Пьер стал скуп, что прямо-таки величественно.
И так это было красиво, как она говорила о Толстом, что и Толстого, и ее вдруг я как-то понял и полюбил необыкновенно, хотя и в точности не знаю, что понял, но это потом выяснится, важно, что понял.
Слушать ее было драгоценно. Илья за пять минут по-своему скажет больше, чем она за пять лет. Но я никогда не слышал в жизни ничего более прекрасного, чем этот разговор о Толстом, впрочем, может быть, просто потому, что человеческая душа говорила, а не выдающаяся и оригинальная душа. Написав это ad absurdum и примерив к этому необыкновенный рост уважения к ней, я соглашаюсь, что она довольно необыкновенный человек. Или, может быть, просто я женщин с этой стороны не знаю? Да нет же, довольно знаю все-таки. И, как во всех сомнительных случаях, душой верю в великолепие ее, а не в случайность, как я всегда горжусь делать. Ибо всякое сходство с божественностью всегда есть уже наполовину божественность.
Как я любил ее тогда на скамейке, но коротко, ибо тотчас же начался ужасный разговор о поцелуях.
Я случайно сказал:
— Я никогда не думал о вас «сладострастно» (действительно, я никогда не думал, но иногда ведь бывало что-то сексуальное в моей нежности).
Она очень грубо, у нее был глубокий и грубый тон:
— Да, иначе я вас и не любила бы. Но я верю, верю вам.
— Пожалуйста, не доверяйтесь сверх меры, ибо я часто совсем не люблю вас.
— Тогда уходите (дура!).
Я говорю, что люблю, но что я столько мечтал в детстве о любви, что разочарование прямо-таки убивает иногда ее: так вот она в чем, эта знаменитая любовь, сплошной поток красивых слов и даже не очень красивых часто.
Встреча семьдесят третья
Я сказал ей, что мне ни к чему дурить, что я суровый и торжественный человек, хотя и окружен смехом как магометанская мечеть белыми голубями. Сказал, что гораздо больше люблю ее взрослой, чем резвящимся эльфом огня.
Поцеловать ее мне не хотелось совсем. Хотел бы я, чтобы какой-нибудь очевидец сказал бы мне, люблю ли я ее, только я знаю, что ее не нужно любить.
Встреча семьдесят четвертая
Кружились по Люксембургу и по уличкам, невроз радости и подвижности. Мне это было неприятно и мучительно.
Я все меньше ее люблю и все больше устаю и тоскую от встреч.
Встреча семьдесят шестая
Я погладил по гладким волнам твоей коротко стриженой головы, и ты с удивлением сказала:
— Это икому ведь не разрешается, попробовала бы Нина.
Я растрепал тебя, и тотчас же все вымазанные бриолином пряди закудрявились. Я любил тебя всем сердцем в эту минуту, и в следующую минуту, и следующий час, и весь этот вечер, об котором я написал тебе в письме. Когда я вспомнил его на следующий день, как будто окно на солнце открылось вдруг в темной комнате. Ах, этим светом можно будет расплачиваться по множеству векселей тьмы, и уже приходится расплачиваться.
Пришла Вера, и вы оживленно говорили о театре, это был род состязания в остроумии, в котором во всем побеждала Таня. Хотя я болезненно удивлялся, до чего она иногда запоминает мои слова.
Она была прекрасна, когда в каком-то ожесточении девочки, борющейся с великанами, говорила:
— Как величественно претендовать на что-нибудь, хотя бы и неудачно. Ах, нет ничего трогательнее человека, претендовавшего на многое и потом оказавшегося ничем. (Дура, я всю жизнь буду помнить эти слова!).
Потом мы опять сидели на диване, я положил свою голову на твои необыкновенные желтоватые ладони и был совершенно, совершенно счастлив. Ты гладила меня по лохматой голове и говорила какие-то необыкновенно скромные и нежные вещи, которые я все забыл.
Это был наш самый счастливый вечер — и не шаловливо счастливый, а вечный какой-то. Его свечения надолго хватит поправлять дела.
Встреча восемьдесят первая
Я был весел и равнодушен, решив делать ей тяжелую жизнь, если счастье так губит ее и уменьшает. Долго и пространно говорил о том, что вместо воды в жизни она оказалась водою, прекрасно нарисованной на картинке и не достигшей жизни, и что, конечно, ее интеллигибельно жалко. Она потемнела, глаза ее сделались ужасно жесткими.
— То, что ты любишь меня не много, это я знаю. Расстанемся лучше сейчас, потому что тебе потом худо. Мы, в сущности, совсем, совсем чужие люди, и наши встречи ни к чему не обязывают нас.
И тут я понял, что все золотое может погибнуть и что я должен что-то сделать, чтобы ее спасти и все спасти, иначе она оторвется от золотого острова на век. Нет, я не должен принять ее такой, она не смеет так уничтожать свое золотое свое незабвенное, свои воспоминания. Ударить ее, что ли? Да, ударить! Я ударил ее по лицу. Ладонь моя беззвучно прикоснулась к чему-то мягкому и неприятному, милая челюсть ее слегка двинулась, хотя концы пальцев пришлись по розовому уху Танечки. Все это вышло отнюдь не эстетно и потому как-то совсем по-настоящему и само собой. Потом я прижал ее плечи к себе, и целовал ее, и чуть не плакал, но не просил прощения, а каким-то странным голосом восклицал.
— И ты это сказала! Ты, ты это сказала!
Она выкручивала руку.
— Пусти меня сейчас. Это ничего, увидимся по-прежнему завтра.
Я крепко держал ее руку и с каким-то странным удивлением смотрел в темноту бульвара, потом, не скоро разжал руку и, не говоря ни слова, ушел от нее или меня отнесло само собой.
Встреча восемьдесят вторая
Она пришла в коричневой шапочке, и я отдал ей оранжевое письмо в грошовом конверте, сочиняя которое я так сильно просил Бога, чтобы он навеки привязал меня к ней (а не ее ко мне) на все века, на все жизни. Ибо да не будет сказано, что я порвал какую-нибудь нить, которую соткала София великолепная сквозь внешний мрак. Только все это было от сердца, совсем от сердца, хотя просыпаясь утром, я еще колебался, увеличивать ли еще ставку на эту страшную карту. Но потом вдруг решил, чего очень уже давно не было, что, может быть, мы все-таки женимся.
Встреча восемьдесят третья
Очень долго шел под дождем к своей Тане, как будто через лес, на какой-то неяркий, но необычайно дорогой огонь (керосиновую лампу на балконе). Я целовал ее прекрасные руки, и нам было очень радостно. Она касалась своим некрасивым и милым лбом моих волос, а потом я совсем растрепал ее, и она сказала:
— Мило все-таки, что ты любишь меня такою растрепанною.
Этот вечер был необыкновенно счастливым. Я говорил:
— Вот тебе теплота сердца. Наш дом стоит на золоте, и поэтому все на него, сколько можно только будет поставить, поставлю. Хочешь войти в мою жизнь, — пожалуйста, хочешь сделать что-нибудь в жизни — вот тебе случай. А если нет — будет очень больно, но жизнь идет дальше, ибо я обошелся без тебя в труднейшие годы и теперь, какой я есть, тем более смогу вновь поселиться на крайнем севере. Она молчала как-то.
Потом я сидел без очков, что самое замечательное, может быть, в этой истории.
Потом пришла М. Л. и меня выгнала.
Встреча восемьдесят пятая
Встретились у «первой скамейки» за заставою. Ты очень опоздала, а я, твердо решив совсем тебя не любить больше, был вежлив и все смеялся. Ты же заметила, как вообще все сразу замечаешь в известной сфере жизни, в которой ты истинный Моцарт, хотя вне ее пассивна необыкновенно.
Я взял тебя за плечи, и ты сказала:
— Как-то это фамильярно у тебя получается.
Ты рассказала мне о том, что твоя мама написала мне письмо. Расстались мы как-то отрывисто и странно.
Встреча восемьдесят седьмая
Консьержка сказала:
— Какие у вас, барышня, руки красивые.
— А я бы на земле работать хотела.
Я принес портрет, который странно понравился. Здорово, детка моя, с твоей стороны любить спокойные и серьезные вещи.
Мать твоя убеждала меня видеть тебя, в интересах твоего здоровья, только два часа в неделю. Я скрылся в хорошо у меня выходящую немецкую тупоголовость: мол, в интересах ее спокойствия, нужно ей поддакивать во всем. Решили с тобой мне приходить в три часа и жульничать до шести. Потом ты писала письмо и спрашивала у меня, как нужно писать: «ученица» или «учиница», и так мила была, прилежно качая головой в такт письму, что я подошел сзади к твоему креслу и положил свои руки тебе на плечи. Так я стоял довольно долго.
— Сядьте…
— Если я буду стоять, так запомню на всю жизнь, отойду — забуду.
Мама пела романсы, а я гладил тебя, сидя на ручке кресла, по шелковой щеке и по намасленным волосам и так любил тебя, что сам удивлялся — и еще больше потому, что ты, вместо того, чтобы многозначительно молчать, по-детски болтала, показывая мне китайские кисточки. Так что я вместо двух часов сидел шесть, и мать твоя разочарованно сказала:
— Смотрите же, а то наша дружба врозь.
Потом я провожал тебя под дождем все дальше и дальше, так до самого Данфер Рошро дошли. Ты сказала одну вещь, которая меня страшно огорчила, что тебе кажется, что я не сильный. Хотя ты прекрасно знаешь, что я страшно горжусь тем, что выбрасываю 4 пуда 10 фунтов. Ты, может быть, больше меня любишь, думая что я обманщик, но это лишает меня веры в себя.
Встреча восемьдесят девятая
Мои часы отстали, и я опоздал. Ты слегка посердилась, но я так страшно любил тебя в тот вечер, что ты простила меня очень скоро. Ты дала мне письмо, в котором говорилось, что все поставлено на серьезную, серьезную ногу, отчего я громко захохотал, читая это под фонарем, так что было очаровательно просто. Около аптеки я смотрел на горящий автомобиль и вспоминал, как ты сказала мне там: «А как я любила вас на этой же уличке» — в убийственном pass dfini[209]. И мне вдруг стало казаться, что, может быть, когда-нибудь мы даже поцелуемся, потому что ведь так кажется, что все серьезно пошло, что это должно когда-нибудь само собой выйти.
Встреча девяностая
Меня страшно обрадовало, что, несмотря на то, что я написал уже 60 писем, они тебе приятны и теперь или, может быть, вдруг стали приятны, и ты сама написала об этом.
Я ждал тебя у Самаритен и думал, что, когда я слишком сильно люблю тебя, я сержусь за то, что ты меня никогда не поцелуешь. Но потом я, хоть и сердился немного все время, но любил тебя очень, очень. Когда мы расстались, мы сурово попрощались, но милая судьба не захотела, чтобы мы расставались так на три дня. Я забыл тебе отдать твои книжки, и, когда догнал тебя, ты, мило нахмурившись, подставила свою побледневшую щеку, чтоб я поцеловал, и я тк смутился, что даже рассердился на все и на всех за это.
Завтра в пятницу мы не встречаемся. Страшно интересно, как это, можно ли нам не встречаться и что будет в сердце от этого.
Встреча девяносто первая
— Я убежала из дома на пять дней к одному композитору, у которого было 17 пар ботинок и монокль. С тех пор я бросила музыку и возненавидела монокли. Узнав, что меня зовут Таня, он сказал: «Таня — это пахнет антоновским яблоком». Я влюбилась в него в передней зубного врача и на следующий день убежала из дому к нему.
Была ли она его любовницей? Да, кажется, выходит вроде, что так. А я что подумал? Ничего не подумал, только это вызвало у меня некоторое уважение к ней. Ах, вот все-таки как, значит, человек способен не только на мистическое красноречие и на любование своими необыкновенными ощущениями.
Между 90 и 91 встречей прошло три дня, я получил два письма и послал пять. Таня была больна гриппом, и я тоже, кажется. Я очень любил ее в тот вечер, когда у меня было 38° и я, как мертвец, сидел в кресле, обмотавшись шарфами. Но встреч не так не хватало мне, может быть, потому, что я был слишком спокоен за себя и за нее.
Мать сказала ей в лицо: «Я потому не хочу, чтобы он приходил, потому что он тебе нравится». Это нечто вроде объявления войны, конец дипломатической ипокризии[210]. Что же. Разве я не германец по душе и не солдат?
Сперва мы играли в шестьдесят шесть, и она снова в суматохе подставила щеку для поцелуя — или мне так показалось? Мы снова сдали карты, но не до карт вдруг стало. Я сказал ей:
— Спроси меня, и я подумаю опять сегодня и скажу раз навсегда, люблю ли я тебя. — Она спросила.
Я начал думать, вернее, я не думал, а решался на что-то. Любить ее всегда? Жениться на ней? Не знаю. Губы мои кривились непроизвольно, ибо меня смущало, что она так упорно на меня смотрит. Потом я ее спросил. Она, конечно, тотчас же: «Да, да». Я говорю ей, но скажи мне, любишь ли ты меня так, что тебе кажется, что ты будешь меня вечно любить. «Не знаю». Я тотчас же принялся сдавать карты, что-то сорвалось в моей душе, и я уже не знаю, что.
— Ты знаешь, — говорю я, сдавая, — если бы ты сказала «да» и завтра меня бросила, это было бы выше, чем, сказав нет, любить меня всегда.
Она рассердилась и встала, и стало вдруг пусто и страшно как-то. А как же отцы говорили перед алтарем, на всю жизнь? Ведь я считаю, что я калека, что только человек, который меня страшно, страшно полюбит, сможет быть со мной счастлив.
Я взял ее за руку. «Пусти, пусти», — со скукой и болью. Я поцеловал ее в неприятно мягкую, как кисель, щеку, она обиженно вырвалась. Но что я мог еще сделать, что я мог еще сделать? Божий свет померк у меня в глазах. Божий свет померк.
Нет у нас ни взглядов, ни поцелуев, ни писем почти нет, а теперь, кажется, нет больше и слов, ее ангел, может быть, хочет ее покинуть, не знаю. Что же, пусть будет, я своего засыпающего ангела не оставлю до конца, до конца. Я ее не покину до конца, бедная моя, дорогая, засыпающая в снегу Светлана.
Встреча девяносто вторая
Теперь у меня был грипп, 39,4 и боль в затылке, я как-то отупел или оглох. Получил два мертво каменных письма, думаю: «Не любит меня больше совсем моя Таня, надо к этому привыкать».
И вдруг Таня приходит — такая, какою я ее в первый, кажется, раз у себя помню, и говорит, увидев мой рисунок:
— Нет, ну разве у меня такой нос? Да нет, но разве у меня такой нос? — И потом еще по-другому: — Нет, ну разве у меня такой нос?
И как такого человека не любить? Тем более, что она страшно подурнела с воскресенья, и лицо при свечке блестит, как медное. Милая девочка, дорогая, тебя не любить совершенно невозможно (на следующий день вдруг маленький поваренок принес большущий пакет, книгу, карты и письмо — одно из четырех моих самых дорогих).
Какое это счастье, а мы дураки.
[Тетрадь обрывается].
Март 1929
Сегодня — открытка от Т. Ш. — все тем же важным детским почерком и отчасти с той же болью.
Апрель 1929
Прочел сегодня одно твое письмо, Таня, Таня. Как давно все это было и как прекрасно.
Май 1929
Вчера был страшный день. Утром пришла похудевшая, подурневшая Т. Ш. в перекрученной шляпке и грошовых чулках.
— Я и К. — это одно. Да люблю, страшно люблю. Он добрый, чуткий, женимся в июле. И сейчас бы отдала год (за тебя), но это никогда не повторится.
— Ну, еще увидим.
— На порог тебя не пустим.
Ну, Бог с ними. Не оборачиваясь, ушел, радуясь только тому, что портрет получу.
Итогом была короткая ебля и медленная агония солнца за окном. А ведь я знал, что у С. П. будет ебля, а все-таки поехал.
Июнь 1929
Сильно влюблен в Саломею. Молился в церкви мертвых и еще один раз, раз же еще в St-Julien-le-pauvre. Татьяна — лорд, по сравнению с нею.
Вчера день никакой. Позавчера работал, читал Пруста. Целое утро Т. Ш. — вот она меня совсем не хвалит. За это-то я тебя и люблю. Даже раз за плечо взяла: «К. изнервничался, ему надо отдохнуть». Нежно попрощались.
Июль 1929
Татьяна все обнимала меня за плечо. Расставаясь, я подарил ей синий стеклянный камешек. Руки ее такие призрачные. Такие острые и крепкие. Она пришла, как Паллада, как победительница, но в общем она была побеждена.
Страдаю. На службе у Татьяны было много легче в смысле недоразумений и грубости, ибо она очень умна была. Ну, ничего. Я был на земле, я встаю, теперь следующий раунд, так пусть всю жизнь.
Август 1929
С десяти до четырех переписывал 35 ранее забракованных стихов, нашел хорошие. Сейчас усталость и предвкушение писем Блока. Вот бы Т. Ш. их читала вслух!
Февраль 1930
Видел страшный астральный сон. Как будто я в Константинополе иду через старый мост (а он высокий и узкий), и вдруг буря без ветра, и огромные зеленые волны несут разбитые корабли (в частности, наш корабль лежит на боку с красным флагом), и потом было какое-то мрачное состояние — не то сон, не то явь, когда в каком-то золото-розовом сиянье (но с усилием) вспомнил Татьяну и Адамовича.
Сегодня хочется писать без конца, и ведь так приятно старые дневники читать, хотя чужие — не очень. Надо взять письма Татьяны, с которой все-таки все было высоко-высоко, в синем, звездном (гипнотическом [дурак]) огне.
Декабрь 1930
Близость Рождества, тоска о Танечке, безумный протест против измены. Увы, ебля — и дикое раскаяние. 50 страниц Каббалы, скитанья в тумане, угрызения совести. Блюм, как всегда, меня утешал.
Сентябрь 1932
Я люблю Наташу так, как никогда не думал, что могу когда-нибудь любить. Это сравнимо только с тем, что было на мгновенье с Татьяной, но то был шум юности, а это — вся моя жизнь, дошедшая до предела своей силы и муки.
Ноябрь 1932
Боже, как в последнее время вспоминаю Татьяну… Это опять какие-то сказочные города, золотые долины, торжественные античные сибиллины разговоры, и все это в отсветах роз и звуках отдаленных оркестров, и опять зима. И тогда мне ясно, что я не люблю Наташу.
Декабрь 1932
— А Танечка? — вдруг спросил голос.
Она была откровением о воскресении из мертвых в Ибуре-Гимель[211], которого мне самому никогда не суждено было постичь. «Богиня жизни на вершине бытия, но в золотых латах, мстительница, — Афина Паллада — полгода страх ее перед сексуальностью был ей мщением за ошибки не знать этого».
— Потому что она была старше тебя в эту минуту, — сказал голос, впервые сейчас, впервые об этой тайне, о которой я ни слова никогда не писал с 28-го года, и я должен буду понять все до конца, уцепившись за это указание. Хотя, может быть, Татьяна была слишком на меня похожа и поэтому параллельна, как две правые руки (ненужные), а не дополняющая, как левая правую, — как Наташа.
ЧАСТЬ VI
СТРАННАЯ ВОЙНА
Александр Гингер
- Не солдат, кто других убивает,
- Но солдат, кто другими убит.
Глава 1
РАДОСТНЫЕ НАДЕЖДЫ И ТЯГОСТНЫЕ ОЖИДАНИЯ
1941
Я родился в 1935 году во Франции в Париже. Мою маму звали Дина, а моего папу зовут Николай. В ту же весну мы переехали в Малабри, и там сестра мамы тетя Бетя стала жить с нами. Мама каждый день мыла посуду, стирала, убирала, варила, занималась мной и огородом, ходила за покупками. Тетя Бетя ездила работать в Париж. А я лежал, смотрел на потолок или на небо, и когда я был голоден, так я плакал, чтобы мне скорей принесли есть. Мы всегда жили во Франции, но мы были русские. Меня возили в детской коляске в наш лес, называется он Веррьерский лес… Когда тятя и тетя Бетя приезжали, тогда мы садились за стол ужинать, а мне давали молоко. У нас была собака Утнапиштим. Эта собака была очень добрая. Когда меня водили гулять, то я был очень рад. Мы проходили мимо нашего будущего дома, где мы теперь живем, и ничего не знали. То молоко, которое мне давали, оно было очень вкусное и сладкое. И я его до сих пор люблю. Но вы знаете, что надо все любить. И брать, если дают. Если дают — так нужно брать, если не дают, не просить. В Малабри меня крестили 15 августа.
Я знаю по рассказу, что в конце сентября мы переехали в Плесси-Робенсон, и я там в первый раз увидел елку на Рождество. И через месяц родился мой брат Борис. Когда Борис родился, так его наш Утнапиштим облизал. В тот день мама была больна и тятя пошел в аптеку за лекарством. А меня отослали к соседям, и у них я очень кричал…
На следующую весну приехали мои дедушка и бабушка. В это лето мы поехали к морю, и там я очень любил подходить к морю, и у моря я кричал: каабики, каабики, Баис! А Борис больше любил лошадей и называл их: И-и-и-пам! Всего я этого не помню, но знаю по рассказу.
А на следующую весну мы поехали в Ажонтер[212] и там лазили на горы, и раз мы пошли на горы, и сделали костер, и положили в него томаты…
Моя мама была очень добрая, и вы увидите, что будет потом.
Лето 1937
Дорогая Бетинька! Спасибо за письмо. Очень они меня радуют, твои письма. Ты пишешь, что дети хорошо едят и спят. Как они выглядят, не похудели? Не капризничают ли? Очень без них тут скучно. Ешьте все трое побольше. Как Степушкина рука? А Бобик? Не кашляет ли? Лучше купай их пореже. Смотри, не слишком уставай. Не тащи коляску на пляж, это слишком утомительно, ее никто не украдет, если оставить у входа.
Сегодня с утра ясно и солнце (но еще не жарко), и я рада за вас, значит вы на пляже и веселитесь. Считаем дни, когда к вам поедем, точно не знаем, думаю, что через две недели. Посылаю письмо тяти Степану и Бобику. Хорошо, что написали Баба-оки[213], она будет очень обрадована.
Мой доктор находит, что печень совсем оправилась, а легкие тоже поправляются, еще только с сердцем сложнее. В тех случаях, когда сердце проваливается, рекомендует выпить крепкого кофе и положить грелку на печень, так что в следующий раз приеду с грелкой.
Снимала ли ты уже детей? Послать ли тебе что-нибудь? Пиши всякий раз, что нужно. Хватит ли тебе денег до 1-го? Постарайся немного отдохнуть, если можно, спи днем.
Целую крепко и жажду увидеть, а пока жду писем.
Лето 1937
Дорогая Бетинька. Мы едем к Дине в Plessis, на сколько, — точно не могу сказать, все зависит от того, насколько мы будем их стеснять. Это для нас самое лучшее, что можно было придумать. Все-таки деревня, все-таки все отдохнем, и близко от Парижа, проезд Сережи не будет утомлять и не отнимет всего дня. Остальное тебе Дина расскажет, они к тебе на днях нагрянут.
Дорогая моя, отдохни и ты, тебе это необходимо, может быть, еще больше, чем нам. Я люблю, когда у тебя полные, красивые руки.
Судя по твоему письму, жизнь там как будто дешевле, чем тут. Здесь морковь стоит 2.50, poireaux[214] — то же самое.
Детишки, наверное, страшно смешные, наверное, все к воде тянутся, а? Очень хотела бы их видеть. Степушка, Степушка, я тебя ам, ам! А как поживает Бобик? Наверное черные-черные приедут?
Целую крепко тебя и детишек.
Лето 1938
…Боюсь, ты по-прежнему много работаешь и очень устаешь. Не делай ничего лишнего по дому и не забывай есть. Не поливай ты огорода, это ужасно утомительно.
Тут жара перемежается с грозами, во время грозы обильно льет дождь, так что в саду и по огороду текут ручьи, но это пока нам нисколько не мешает — грозы то вечером, то днем, пока дети спят. А потом сразу блестит солнце, блестят камни, и мы идем гулять. Гуляем очень много и с удовольствием, так как очень красиво вокруг и любопытство толкает нас посмотреть, а что за вид откроется за той горой, за этим перевалом… Вчера поднялись по крутой тропинке довольно высоко, за следующей горой — швейцарская граница в шести километрах. Нашли наверху очаровательно красивые горные лилии и принесли домой букет.
Степан — прекрасный альпинист, ходит, опираясь на палку, и требует все выше, а Бобик все прыгает, как котенок, не желая понять опасности, но, к счастью, как будто окреп немного, во всяком случае, больше не падает, и колени у него совсем целы. Он вызывает восторг англичанок.
Если жасмин цветет, сразу подрезай цветы, для того, чтобы шире был куст в будущем году. А лаванду ты собрала? Неужели розы еще не расцвели? А гвоздики на круглой клумбе какого цвета?
Письма из дому перешли. Я домой написала и послала две фотографии.
Дети спят, Николай тоже, я тоже.
Сутин пообещал, что в воскресенье придет смотреть мои работы. Наступило воскресенье. Пять часов, шесть, половина седьмого, а его все нет. Наконец, он пришел вместе с Гингером. А мой Мишенька как назло раскричался. Обычно я как-то умудрялась так его уложить, чтобы он тихо спал, — а тут ничего не помогает, кричит!.. Сутин спокойно наблюдал за этой сценой, а потом сказал:
— Карская, да оставьте… Сам успокоится. У меня тоже что-то такое есть: не то сын, не то дочь.
— Мэтр, отвечаю, — я женщина и мать, в этом разница.
— Да, но вы прежде всего художник. А это вырастет само собой. Потом мы долго смотрели работы, и перед уходом Сутин сказал, что хотел бы следить за моим творчеством:
— Учить вас буду я. Не учитесь ни у кого.
…Сутин стал приходить ко мне. Моими работами часто бывал недоволен: «Это можете выбросить — плохо». Он был очень суров и, бывало, ругал меня последними словами. Я преклонялась перед ним, но продолжала делать, что мне хотелось.
Я встретила ее впервые накануне войны. У нашей общей подруги. Чудесное видение.
Как сейчас, вижу ее, сидящую на кушетке, нога на ногу, высокую, худую, угловатую, в черной юбке и светлом свитере. Стройную, как свеча. Вижу ее продолговатое, меловой белизны лицо чуть-чуть монгольского типа. Ее короткие черные волосы и большой рот с яркокрасными губами — единственное цветное пятно.
Она что-то говорила грудным, хрипловатым, странно привлекательным голосом, побыла еще минут пять, потом ушла. Меня поразило то, что ее красота (а она была красива) не соответствовала никаким известным канонам красоты. И в ушах еще звучал ее странный голос. Кто это такая? Ида Карская, художница.
31 августа 1939
Soldat Karfunkel-Karsky, Serge
7е S.I.М.
Caserne Bernard
Dle (Jura)
16 av. Jean-Jaurs
Montrouge, Seine
Дорой мой Сергушенька, где вы сейчас, мой родненький? У нас пока все спокойно, вчера перевезла вещи из Meudon'a и отвезла Джеки, оставила его у консьержки и дала ей 10 fr.
Сынишка наш очень притих. Каждый раз спрашивает, где папа? Папа la guerre[216]. Его поражает, он выбегает на балкон и кричит: papa, ку-ку! За мной следует повсюду и все боится сирены…
Когда поезд ваш ушел, мне показалось, что почва из-под ног уходит. Mais je suis trs brave[217].
Сегодня ходила с Мишей на rue Clotre-de-Notre-Dame, там выдают маски детям с двух лет, но, оказывается, что только парижанам, а я — Montrouge.
Думаю пойти на Raspail в «Femmes Volontaires»[218] и записаться в dfense passive[219] в районе Maintenon или Chartres, но это я еще не окончательно решила.
После объявления войны мой отец был призван в армию, где служил в качестве санитара (он был слишком близорук для строевой службы).
В сентябре 1939 года, после мобилизации и отъезда мужчин, среди гражданского населения пронесся ветерок паники, стали распространяться слухи о бомбардировках, о возможном вторжении немцев… Один из друзей моих родителей, Сусланский, не призванный в армию, отец четырех детей, предложил нескольким друзьям, женам ушедших на фронт солдат, в том числе и моей матери, отвезти их подальше от фронта, в центр Франции. Мы — кроме нас, было еще три или четыре человека — отправились в путь на Ситроене. Во время одной из остановок наш водитель, вместо того, чтобы утолить жажду кофе, выпил пива. В результате неподалеку от Тура он задремал за рулем, и мы попали в аварию.
У матери была сломана нога, у меня — ключица, остальные пассажиры, кажется, серьезно не пострадали. Сидевший за рулем Сусланский тоже не получил видимых повреждений, но удар о руль был таким сильным, что это вызвало внутреннее кровоизлияние, которое через два или три дня привело к остановке сердца.
3 сентября 1939
Exp. Mme Joseph
55, rue de la Goutte d'Or.
Дорогой Сереженька!
Вчера вечером я тебе отправила открытку, в которой написала, что Ида с Мишенькой уехали первого вечером в направлении Bordeaux. Но я точно не знаю, в Bordeaux ли они уехали и вообще уехали ли уже. Дело в том, что Ида в 9 вечера упаковалась и сказала мне, что ждет к 10 или немного позже, чтобы за ней приехали или Котляр с женой или кто-то другой. Я с ней рассталась, и она обещала мне прислать pneumatique, если не уедет. Но сегодня прошел день, a pneumatique от нее я не получила, из чего заключаю, что она уехала.
2 сентября 1939
Hpital Bretonneau
Salle 14 Clinique
Tours, Indre et Loire.
Дорогой мой, золото мое, не волнуйтесь, когда получите письмо из Tour'a, теперь нужно ждать всяких неожиданностей.