Десять вещей, которые я теперь знаю о любви Батлер Сара
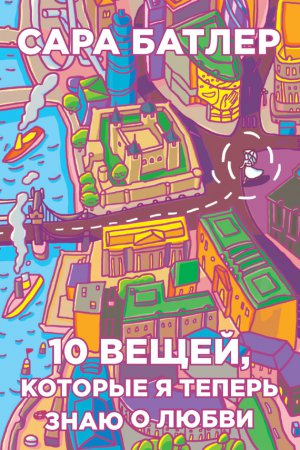
Она склонила голову набок, как птичка. Глаза у нее были зеленые, красивые зеленые глаза.
— Обнаженной? — спросила она.
Сердце учащенно забилось.
— Нет… в смысле…
Тут она запрокинула голову и рассмеялась так, словно мы были не на людях, будто все остальные не имели значения.
— Я не хочу… — начал я, думая о том, что как раз хочу.
— У меня двое детей, — сказала она.
— Вы красавица.
Я выбрал верные слова: на ее лице промелькнула радость.
— Давно мне такого не говорили.
— Даже ваш муж? — спросил я и тут же вздрогнул.
Она улыбнулась, чуть погрустнев:
— Все приедается, похоже.
— По-моему, вы удивительно красивы. — Я запнулся. — Я хотел бы написать ваш портрет.
— У вас есть студия?
Я покачал головой, чувствуя, как дыхание перехватывает.
— А вы хороши?
— В чем?
Она улыбнулась:
— В рисовании.
Я пожал плечами и посмотрел на свои руки:
— Ничего так.
— Покажите.
Она полезла в один из пакетов, достала оттуда большой белый конверт и тонкую черную авторучку и положила их на стол между нами:
— Вперед.
Она подняла подбородок, расправила плечи, поправила волосы, спадающие вдоль щеки.
Я велел себе не торопиться. Сказал себе, что это, возможно, мой единственный шанс рассмотреть ее вот так. Я выявлял форму ее черепа под кожей, линии подбородка, выискивал детали: маленькая родинка на левой щеке, немного разный изгиб век, почти невидимая разница между линией губ и контуром помады.
— Вы же не рисуете, — сказала она несколько минут спустя.
— Сначала мне надо посмотреть.
— Такое чувство, что вы заглядываете мне прямо в душу.
— Этого я не могу.
— Сказать вам, о чем я думаю?
— Не шевелитесь, сидите вот так.
И я нарисовал ее тогда, быстрыми уверенными штрихами, — наклон головы, чертовщинка в глазах, легкий изгиб губ.
Закончив, я подтолкнул к ней конверт. Она смотрела на него невыносимо долго.
— Вам не нравится? — спросил я.
— Вы нарисовали меня красивой и немного вредной.
— Я не нарочно… в смысле, про вредность.
Она улыбнулась и собралась было положить рисунок в сумку.
— Можно я оставлю его себе? — спросил я.
Она вскинула бровь.
— Я нарисую вас снова. Но мне бы хотелось…
Она кивнула и протянула мне конверт. Мы помолчали немного, прислушиваясь к стуку чашек о блюдца.
— Что ж, — она слегка вздохнула и улыбнулась, — рада была с вами встретиться, Даниэль. И хорошо, что мы… — Она покачала головой, будто пытаясь выкинуть из нее какую-то мысль. — Вы прекрасный художник. Я под впечатлением.
Она стала собирать пакеты.
— Не уходите, — выпалил я, не сдержавшись. В голосе сквозило отчаяние.
Она смерила меня спокойным взглядом огромных, словно из зеленого стекла глаз.
— В смысле, вы не хотели бы, скажем, взглянуть на мои картины?
— Нет, не сегодня. У меня столько сумок, и потом, мне пора домой, к девочкам.
Ее слова камнем рухнули мне на сердце. Я ждал, что она встанет, но она все сидела не шевелясь, будто размышляя над вопросом. В конце концов она опустила пакеты, порылась в сумочке, достала ту же ручку, которой я ее рисовал, и маленький линованный блокнот. Быстро черкнув что-то на листке, она вырвала его, перевернула и положила на стол. Несколько секунд она не отнимала руку, будто не могла решить, оставить записку или забрать.
— Мне правда пора. — Она вдруг засуетилась, снова превратившись в вихрь из сумок, пальто, зонтика и волос.
Я тоже встал и попытался ей помочь, но безуспешно. Она наклонилась, чмокнула меня в щеку и исчезла.
Я сел обратно. Мой взгляд застыл на следе от красной губной помады, очертившем контур ее губ на чашке. Чувствуя, как кровь бежит по венам, я перевернул листок бумаги. Адрес в Блумсбери. Дата — через три дня, жемчужно-белая пятница. Время — 3 часа пополудни. Больше ничего. Ни номера телефона, ни сообщения. Я посмотрел на ее записку, потом на свой рисунок. Не знаю, сколько я просидел там.
Рисунок нельзя доставать слишком часто. Чернила и бумага не так долговечны, как нам хотелось бы. Столько лет прошло; чудо, что я и теперь могу взглянуть на него. Клей на конверте высох и пожелтел еще много лет назад. Бумага размягчилась с годами. Снимаю целлофан, чтобы увидеть лицо. Чернила выцвели, но не настолько, чтобы нельзя было разглядеть искорки в глазах, приподнятую верхнюю губу. Похожа ли ты на нее? У тебя такая же белоснежная кожа и россыпь веснушек на плечах? Я склоняюсь над рисунком, чтобы ни один лучик солнца не коснулся его. Мне хочется дотронуться до ее лица, провести пальцами по линиям, но я уже научился думать наперед, научился беречь вещи.
Порой в те дни в Блумсбери она говорила о том, что чувствует себя в западне. «Дети разрушают твое тело, потом нарушают твой сон. Нет, конечно, я люблю их, но порой мне так хочется выйти из дома, пока они спят, закрыть за собой дверь и никогда больше не возвращаться».
Заворачиваю конверт в целлофан и аккуратно кладу рисунок обратно в карман. Вдруг мне приходит в голову, что она, может быть, тут, на этом кладбище. Даже вполне вероятно.
Я обхожу все вокруг, осматриваю каждый памятник. Ищу ее броское, ярко-красное имя, но тут только Жанна, Жорж, Жюлиетт.
Прямо напротив церкви есть еще одно кладбище. Становлюсь рядом с ним, держась за угол ограды, и жду тебя.
Два черных «мерседеса» степенно приближаются к храму. В окне первой машины, сзади, виднеются семь красных букв: головки гвоздик складываются в слово «Дедушка».
Отец. Дед. Конечно, я думал о том, что у тебя могут быть дети. Прошло столько лет. Ты уже совсем взрослая.
Машины останавливаются. Я замираю, но чувствую, будто попал в бурю, — мощное, невероятное буйство стихии. Дверцы со стороны водителей открываются, и из них появляются мрачные мужчины в строгих костюмах и начищенных ботинках. Сколько же у них таких костюмов? Наверно, они числятся постоянными клиентами в соседних химчистках? Интересно, они сами относят туда костюмы или это делают их жены? Спокойствие. Замечаю, что сжимаю в пальцах край куртки. Поднялся легкий ветерок, и я чувствую, как он касается моих щек. Спокойствие.
Отец. Дед.
Водители открывают задние дверцы машин и становятся рядом. Первым выходит мужчина — полный, низкорослый. Не могу вообразить, чтобы ты была с ним. Следом вылезают трое мальчишек. Двое из них почти одного роста с мужчиной, третий мальчик — помладше. Мужчина кладет руку ему на голову, и мне вдруг отчаянно хочется ощутить ладонью мягкость его волос и округлость черепа.
Я уже думаю, что умру, едва увидев тебя, но когда ты ступаешь на тротуар, камень на моем сердце обращается в пыль и улетучивается.
У тебя ее волосы. Я знал, что так и будет. И ты такая же крошка. Ты держишься напряженно, и по тому, как поникли твои плечи, я понимаю, что ты любила его. Одна из твоих сестер подходит к мужчине, который гладил мальчика по голове.
Ты отворачиваешься от церкви, от всех тех, кто стоит у входа, и я могу разглядеть твое лицо.
Ты так похожа на нее, что мне страшно: те же миндалевидные глаза, маленький рот, нижняя губа чуть полнее верхней. Волосы сколоты на затылке, но я знаю, что стоит тебе распустить их — и рыжевато-коричневые кудри рассыплются по плечам. Ты изучаешь взглядом улицу, будто ищешь, за что зацепиться.
Вот и всё. Мы встретились взглядом. Ветер бушует в листве, все вокруг мерцает пестрым, неверным светом. Мы с тобой стоим лицом к лицу, нас разделяют лишь дорога и полоска тротуара.
Пора бы мне уже знать, что наши мечты никогда не сбываются точь-в-точь так, как мы себе их представляем. В моих фантазиях ты узнавала меня. В моих фантазиях я поднимал руку, как сейчас, и ты отвечала. Порой ты хмурилась, а затем смеялась; порой ты сразу все понимала; иногда я произносил четыре слова: пурпурный, светло-голубой, рыжевато-коричневый, жемчужно-белый. Но сейчас твой взгляд скользнул по мне, словно по незнакомцу. Я не опускаю руку. Вскидываю брови и улыбаюсь. Тебе. Моей дочери.
Ты поворачиваешься обратно к храму и берешь сестру за руку. Мое сердце не выдерживает. Такое чувство, будто кто-то давит мне на середину грудной клетки и тянет за затылок. «Вам нельзя сильно огорчаться, — говорила мне доктор. — Надо избегать стрессовых ситуаций».
Я мог бы позволить этому случиться. Быть может, ты обернулась бы, если бы я упал на землю. Но ты уже слишком далеко. Вынимаю спрей из кармана, распыляю его под языком. Потом пересекаю улицу и захожу в церковь вместе с последними гостями в черных костюмах.
Сажусь на то же место, где я уже был утром, стараясь не встречаться взглядом с викарием. Он стоит за аналоем и улыбается. Наверняка оттачивал эту улыбку перед зеркалом как раз для таких случаев.
Вижу твой затылок. Волосы. Почесываешь затылок правой рукой. Твои мышцы, должно быть, ноют от горя. Ты оглядываешься по сторонам. Проследив за твоим взглядом, я вижу высокого темнокожего мужчину с густой копной волос и аккуратной бородкой. Он сидит, наклонив голову к коленям. Ты отворачиваешься, и я вижу, как твои плечи разочарованно опускаются. Меня охватывает приступ злобы к этому человеку. Я стараюсь сосредоточиться на словах викария. В моих глазах они вспыхивают разными цветами. Ум. Профессионализм. Преданный отец. Три прекрасные дочери. Гордость.
Интересно, что скажут на моих похоронах? Какие слова подберут? «Почти»; «не совсем»; «очень старался». Да и кто туда придет?
Та сестра, что без мужа и детей, встает, подходит к аналою и представляется: Матильда. Впервые я встретился с ними и с твоей матерью в Национальной портретной галерее. Не знаю, помнят ли твои сестры об этом, они тогда были уже достаточно взрослыми. Я рассматривал картину Лауры Найт; подошел вплотную, изучая характер мазков на ярко-красном кардигане художницы. Мне нравится выяснять, как создавалась та или иная вещь. Ты знаешь эту картину? На ней художница стоит за мольбертом и рисует обнаженную женщину. Модель стоит справа от мольберта, ее левая грудь едва видна, руки лежат на затылке, ягодицы чуть порозовели. А художница смотрит не на мольберт и не на натурщицу, а куда-то вдаль, будто думает о чем-то совершенно постороннем.
— Мам, почему этот дядя смотрит на голую тетю?
Я отпрянул от полотна. На меня в упор смотрела Сесилия — потом я узнал, как ее зовут, — решительная, строгая девочка с каштановыми волосами, заплетенными в косички. Я поднял глаза, увидел ее маму — и мое сердце рухнуло в пропасть. Она держала за руку другую девочку, Матильду, более нежную и скромную.
— Простите, пожалуйста, — сказал я.
— За что же? — спросила она и улыбнулась.
Мое сердце заколотилось.
— Милая, это галерея, здесь люди смотрят на картины, — обратилась она к негодующей девочке справа. — Так что давай не будем мешать дяде продолжать осмотр.
Она снова улыбнулась, и в ее глазах сверкнул тот самый огонек. Я словно врос ногами в пол.
— Мамочка, а почему он теперь смотрит на нас?
Мое лицо вспыхнуло. Женщина шикнула на дочь и виновато посмотрела на меня.
— Простите, — сказал я снова, вдруг осознав, что мои руки повисли вдоль тела, беспомощно и неловко. — Леди… может, вы позволите угостить вас чашкой чаю?
Это прозвучало нелепо, но я не мог позволить ей уйти. Она выпрямила спину и посмотрела на меня, будто пытаясь понять, кто же я такой.
— А можно мне горячего шоколада? — подала голос Матильда.
Я готов был обнять ее.
— Конечно, можно, — ответил я. — Если твоя мама не против.
Твои сестры были славными девочками. Я видел, что они получили хорошее воспитание. Не представляю, о чем я думал, когда попросил ее бросить мужа и уйти ко мне. Тогда мне казалось, что я смогу стать ему заменой, справлюсь не хуже.
Я наблюдаю за тем, как ты смотришь на Матильду. Она всхлипывает, прерываясь на полуслове, но справляется и продолжает. Любящий отец. Самоотверженный. Всегда справедливый.
Он знал. Твоя мама сказала мне, что он всегда знал. Надеюсь, тебе это не навредило.
Перекатываю твое имя во рту; оно такое льдисто-голубое, что от холода сводит зубы.
Встаю вместе со всеми и протискиваюсь к выходу. Не поднимаю головы. Ты — единственная, кого я хочу видеть. Выхожу из прохладного храма на светлую жаркую улицу.
Но в дверях меня приветствует Сесилия. На мгновение мне показалось, что она узнала меня, но потом я понимаю, что она приняла меня за того, кто я сейчас, и хочет, чтобы я ушел. Ты отвернулась, рыдая. Матильда гладит тебя по спине между лопаток. Мужчина, на которого ты смотрела во время службы, стоит у ворот в нерешительности, будто не знает, что сделать — обнять тебя или уйти.
— Сожалею о вашей утрате, — бормочу я Сесилии.
— Благодарю, — отвечает она и выжидательно приподнимает бровь.
Я редко общаюсь с людьми, так что слова даются мне с трудом, приходится добывать их, как воду из колодца. А когда они уже готовы появиться, всегда есть опасность не совладать с ними, выплеснуть, залить все вокруг.
— Я хотел прийти, чтобы сказать… чтобы выразить соболезнование…
Она похожа на человека на диете — лицо слегка вытянутое, в глазах сквозит недовольство.
— Ваш отец…
Ты все еще не оборачиваешься. Я не могу потерять тебя.
— Вы знали… его?
— Малкольма.
Складки возле губ чуть разглаживаются.
— Малкольм, — повторяю я, словно это пароль. — Он был… Я просто хотел почтить его память.
Подбородок Сесилии слегка дрогнул — она почти кивнула, где-то наполовину. Явно хочет, чтобы я ушел. А ты на расстоянии вытянутой руки. Твоя сестра следит за моим взглядом.
— Что ж, спасибо, что пришли, — говорит она.
Низкорослый мужчина подходит, обнимает ее за талию и что-то шепчет на ухо. Она качает головой, потом вновь поворачивается ко мне.
— Думаю, вы понимаете, какое трудное время настало для нас всех, — говорит она. — Время, когда лучше держаться вместе, в кругу семьи.
— Я был знаком с вашей матерью, Жюлианной.
Долгие годы я не произносил вслух это имя цвета алой губной помады.
В глазах Сесилии отражается внутренняя борьба, но моя кожа, волосы, одежда и мой запах указывают ей мое место, и я терплю поражение.
Орган замолкает.
— Спасибо, что пришли, — твердо произносит она и отворачивается от меня.
Не знаю, что сестра сказала тебе, но когда ты смотришь на меня — я понимаю, что все потеряно. Теперь вы обе считаете меня бродягой, которому здесь не место.
Матильда провожает тебя до машины. Я не знаю, где ты живешь. И бежать быстро я не могу. Остальные гости расходятся, поворачивают за угол, захлопывают дверцы своих машин. Я не слышу звука мотора, но твой автомобиль трогается с места. В затылке снова тянет, грудь сдавило.
Кроме мужчины, который любит тебя — или причинил боль и хочет загладить вину, — возле церкви остались только пожилая пара, низенькая черноволосая женщина, то ли крашенная, то ли в парике, и семья с двумя детьми. Младшая девочка совсем маленькая, и отец держит ее на руках.
Я делаю выбор в пользу женщины. Приглаживаю волосы рукой, вытираю пальцем уголки губ, одергиваю куртку, расправляю плечи и вспоминаю обращение, которое скрывал столько лет, что оно уже кажется каким-то чужим.
— Прошу прощения.
Она резко оборачивается, будто я напугал ее:
— Да?
По мелодичному голосу, по росту и по серо-голубым глазам я догадываюсь, что это Марина. Мы никогда раньше не встречались, но мне описывали ее со смехом и любовью, а еще ее фотография была у нее в квартире: ее лицо в меховом капюшоне на фоне заснеженных деревьев. «Мы с Мариной раньше были таким вольным ветром», — сказала мне однажды Жюлианна.
— Я забыл захватить с собой адрес, — говорю я. — Адрес их дома.
Глаза женщины сужаются. Я ошибся.
— Вы друг семьи? — спрашивает она.
— Друг Малкольма, да. Бывший коллега.
Мне удается наполнить голос богатыми, сливочными оттенками — и это срабатывает. Женщина открывает сумочку и достает оттуда сложенный лист бумаги:
— Вот, держите.
Адрес напечатан черными чернилами. Нужные мне слова — два оттенка одного цвета: насыщенный темно-синий и более светлый ярко-синий.
— Я слышал, Алиса и сейчас живет там, — говорю я. Голос контролировать очень сложно.
— Временно, между поездками, я думаю. Я так сочувствую бедняжкам. Так тяжело, когда и второй родитель умирает. Вас подвезти?
— Нет, нет. — Я вижу подозрение в ее взгляде. — Моя машина здесь недалеко, на другой стороне улицы. — Взмахиваю рукой, указывая назад. — Увидимся уже там.
— Марина, — представляется женщина, протягивая руку. На пальцах три кольца, каждое сверкает драгоценными камнями.
Сглотнув, пожимаю ей руку. Ладонь у меня грубая, вся в мозолях. Ногти слишком длинные. Вижу, что Марина хочет отдернуть руку, но не делает этого. Я разжимаю пальцы и произношу свое имя, потому что чувствую, что уже нечего терять. Возможно, она единственная, кто все поймет. Смотрю ей в глаза пару секунд, а потом отворачиваюсь и ухожу. И, даже услышав, как она произносит мое имя, которое звучит в ее устах призывом, заклинанием, вопросом, я не сбавляю шаг.
Я знаю дорогу. Я не сдавал The Knowledge[3], но прекрасно помню, где улицы разветвляются и переходят одна в другую. Заставляю себя идти медленно: Хит-стрит, Перринс-Лейн, Гейтон-роуд. Сливочный, темно-синий. Оливковый, золотой. Лиловый, каштановый. «Избегайте огорчений». Смотрю на дорогу где-то на фут вперед от носков моих ботинок. Иду по линии между тротуарными плитами, замечая, как кое-где среди них прорастают упорные травинки или кусочки мха. «Временно, между поездками». Откуда она приехала? И когда уезжает?
Сворачиваю на Уиллоу-роуд — песчано-желтый, ореховый, — потому что я еще не совсем готов, мне нужно подумать. Захожу в парк Хэмпстед-Хит, огибаю пруды, потом поворачиваю на запад и возвращаюсь обратно, к тебе.
Дом будет большой, я уверен. Представляю: тусклые лондонские кирпичи, высокие окна, деревья в горшках. Дом для взрослых, а ты такая хрупкая. Не могу отделаться от этой мысли. Хочется привести тебя в кафе и поставить перед тобой полную тарелку еды. Сесть и смотреть, как ты будешь есть. Потом, когда тарелка опустеет, я спрошу, не хочешь ли ты добавки: «Может, торт или еще чашечку чаю?», а ты отрицательно покачаешь головой. Вот тогда я расскажу тебе все.
С чего же мне начать? С того, как первое время я пытался найти вас обеих — после того, как она подсела ко мне тогда в кафе и сказала, что мы зашли в тупик, она связана по рукам и ногам, что она ничего не может поделать и ей очень жаль. Как я в бешенстве крушил все вокруг. Как потерял работу. Нет, это покажет меня не с лучшей стороны. Может быть, стоит рассказать тебе о том, как однажды, когда я был еще маленьким, у нас во дворе летом умерло много пчел — в черно-желтых шубках, с нежными крылышками. Я подобрал их, вырыл могилки для каждой: длинный ряд маленьких ямок возле забора. Потом нарвал цветов, сделал крошечные надгробия из картона и соломинок для коктейлей и похоронил пчелок, напевая самую мрачную песню из тех, что я знал.
Кэннон-Лейн. Холфорд-роуд. Кэннон-плейс. Темно— синий. Золотой. Оливковый. Черный. Сливочный. Ореховый. Снова темно-синий. Ярко-синий.
Дом 33.
Двойная дверь, темно-красная.
Две узкие панели из матового стекла, по углам овитые узором в виде плюща.
Медный звонок, слева от косяка.
Серые истертые ступеньки, пятнисто-черные снизу.
Лавровое дерево загораживает половину окна, и все же мне видны красные занавески, движение людей в комнате. Рука с бокалом вина. Лысеющий затылок.
Я искал этот дом почти тридцать лет.
Она переехала. Он заставил ее — конечно, заставил. И женщина, которая поселилась в квартире Марины, тоже не знала, где вы. Даже угрозами — да, я так отчаялся, что уже думал об этом, — мне вряд ли удалось бы добиться ответа.
Я стою на другой стороне дороги. Воображаю, как нажимаю на кнопку звонка — и раздается резкий звук, будто кто-то кричит на улице.
Я зашел уже так далеко.
Перехожу через дорогу и медленно поднимаюсь на крыльцо.
Ты стоишь у дальней стены, с бокалом красного вина в руке. Говоришь с коренастым мужчиной — с мужем сестры. Морщишь лоб, почесываешь подбородок. Я тоже так часто делаю — когда стараюсь не заплакать. Ты поймала мой взгляд, я уверен, и вот уже пересекаешь комнату, идешь к выходу. Ко мне. Я стараюсь пригладить волосы. Облизываю губы, готовясь к разговору. Сердце колотится. Я жду.
Ты не подходишь к двери.
Ты увидела меня, я уверен.
Я жду. Ты обязательно выйдешь.
Но ты не подходишь к двери.
«Временно, между поездками». Ты куда-то уезжала, вернулась — и, наверно, пробудешь тут хоть пару дней. Когда кто-то умирает, появляется столько дел. «Время еще есть», — говорю я себе. Я могу подстричься, приодеться. Время еще есть. Да и на поминках не поговоришь толком — у тебя сейчас столько забот. Что ж, по крайней мере, я теперь знаю, где ты.
Жду еще немного, пока не становится ясно, что ты точно не выйдешь. Потом спускаюсь по ступенькам и медленно иду прочь. В конце улицы я нахожу пустую пачку сигарет. Вытаскиваю серебристую фольгу и бросаю картонку в урну. Однажды я познакомился с человеком, который собирал куски проволоки — вы удивитесь, если узнаете, сколько их валяется вокруг, стоит лишь присмотреться, — и выгибал из них имена, бабочек… все что угодно. А еще он скручивал цветы из фольги от сигаретных пачек.
Труд кропотливый: надо порвать фольгу на мелкие квадратики и из каждого свернуть лепесток. Тонкая работа. Красота. Способ концентрации. Тот человек обучил меня этому, и вот я скручиваю цветок, сидя на лавке на островке между двух дорог, отгороженном черными столбиками, чтобы тут не ездили машины. Посредине лавки — подлокотник. Это чтобы такие, как я, не лежали на ней. Раскладываю крошечные кусочки фольги вдоль досок и придавливаю, чтобы они не разлетелись. «Я смастерю его для тебя», — бормочу себе под нос. А потом пойду в приют, закину что-нибудь в рот, помоюсь, продумаю план.
Я снова возвращаюсь к темно-красной двери с медным звонком. В комнате по-прежнему много народу, но тебя уже не видно. Кладу подарок на крыльцо, слева от ступенек, поворачиваюсь и ухожу.
Десять вещей в отцовском сарае1. Зеленые резиновые сапоги 11-го размера.
В детстве мне ужасно нравилось засовывать туда ноги и вертеться, раскачиваться в них.
2. Газонокосилка со шнуром, который можно протянуть по всему саду. По-моему, я ни разу в жизни не стригла газон.
3. Восемь одинаковых стеклянных банок с гвоздями, гайками и шурупами. Раньше в них хранился густой мед из акации. Отец всегда ел на завтрак почти подгоревшие тосты с медом.
4. Лопата. Деревянная ручка треснула вдоль.
5. Фонарь без батареек, с одного конца тяжелее другого: неустойчивый. Папа подарил мне фонарик на Рождество. Он был в том потерянном рюкзаке.
6. Шестнадцать мертвых трупных мух; два мертвых паука.
7. Белое блюдце с голубым ободком, запачканное пеплом от сигарет. Мы с отцом никогда не курили вместе; тот раз, перед его смертью, был единственным.
8. Паутина. Она такая красивая, когда новая, — жаль, превращается в серый порошок, стоит только ее коснуться. Терпеть не могу, когда она прилипает к коже и не отцепляется.
9. Отцовская красная кружка с ярко-белой щербинкой на ручке.
10. Спичечный коробок, полный черных зернышек. Однажды отец выделил в саду аккуратный прямоугольный участок, за которым я должна была присматривать. Но я не проявила энтузиазма. Надо было хоть притвориться, что мне интересно.
Это началось в день похорон. Первую находку обнаружила Тилли. Серебряный цветочек. Крошечный, идеальный, он лежал у порога, в выемке между кирпичами. Работа была изумительная — малюсенькие лепестки, скрученные из сигаретной фольги, сверкали как бриллиантики. А в самом низу стебля даже был листик.
— Одна моя знакомая могла сделать такое, — сказала Тилли и вручила мне цветок.
Я подумала было на Кэла, но это на него не похоже.
Потом несколько дней — ничего. Я уже почти забыла об этом, как вдруг в четверг обнаружила на том же месте розовый цветок, на этот раз настоящий. В трубочке из бумаги для записей, закрепленной гвоздиком и перевязанной золотой ленточкой. «Какой-то мусор», — подумала я, но это показалось мне неслучайным. Цветок я поставила в бокал с водой. Он упал на бок и всплыл, лепестки потемнели. Остальное я выкинула.
Вчера появилась гирлянда из бутылочных крышек, нанизанных на электрический провод, потертый стеклянный кружок и несколько кусочков коры. Я как раз возвращалась из супермаркета, чувствуя, как острые углы коробок впиваются мне под мышку. Наклонившись, я подняла провод и обнаружила, что к нему привязан аккуратный оранжевый квадратик из картона, истыканный ручкой, — узор из маленьких дырочек с бледными следами чернил по краям. «Наверно, дети играют. Просто детские шалости».
Я выставила поделки на подоконник, и от этого на душе почему-то стало легче.
И вот сегодня, открывая дверь агенту по недвижимости, я замечаю блеск золотой фольги на крыльце. Но гость закрывает мне обзор.
Серьезно настроенный молодой человек лет двадцати пяти так прижимает к дорогому пиджаку синюю папку, мобильник и ключи от машины, будто кто-то грозится их отнять. Подозреваю, что он пользуется автозагаром.
Конечно, еще слишком рано, но Си уже вошла в раж. «Она так пытается справиться с болью», — всё твердит Тилли. А когда я напомнила, что справиться с болью пытается не только Си, Тилли предложила мне пожить у нее, пока сестра разбирается с папиным домом. Тилли живет в Вест-Хэмпстеде, в однокомнатной квартире — милой, но маленькой. Я буду там целыми днями валяться на диване, завернувшись в одеяло, пить слишком много кофе и все время мешать. Тилли будет для меня готовить каждый вечер и постоянно беспокоиться обо мне, а Тоби станет делать вид, что я ему не досаждаю. В итоге я снова начну мечтать о путешествиях или просто куплю билет на самолет. Когда я сказала Си, что, на мой взгляд, оценивать дом сразу после похорон отца немного бестактно, сестра вспыхнула, упрекнула меня в несправедливости, а потом предложила — Господи, спаси и сохрани! — переехать к ней, пока она все уладит. Ну и дальше завела свою вечную пластинку о том, как трудно быть работающей матерью с тремя детьми: намек на то, что я — лентяйка. Тут уж я все-таки не выдержала и выпалила, что тогда сама покажу дом агентам по недвижимости, выберу фото с лучшими видами и сделаю все остальное, что там нужно для продажи. Си надула губы и сказала, что, возможно, я права и стоит подождать еще пару недель, а я взорвалась, схватила телефонную книгу и позвонила в три первых попавшихся агентства. Все они предложили прислать к нам своих людей на той же неделе.
— Майкл, — представляется агент, высвобождая руку, чтобы протянуть ее мне. — А вы, наверное, Алиса. Приятно познакомиться. У вас прекрасный дом. — Он делает шаг назад и смотрит наверх. — Сейчас не лучшее время для продаж, но дом расположен просто прекрасно.
Его глазки бегают по сторонам. Зубы слишком ровные и белые. Может, он нюхает кокс? Вырос в очень требовательной семье? Или ему грозит сокращение? Я хочу посмотреть, что лежит на крыльце, но вместо этого пожимаю ему руку и приглашаю войти.
— Ну что, сорвем большой куш, да?
Агент сдвигает ногой в сторону кучу писем. Все они адресованы мистеру М. Таннеру. Я не могу к ним прикоснуться. Выглядываю на улицу и поднимаю голову. Небо все в облаках, совершенно белое. Ветерок залетает в прихожую, заставляя меня поежиться.
Провожу Майкла по всем комнатам. Он трогает стены, обнюхивает окна, разглядывает розетки и лампы. Включает душ, проверяет слив унитаза, прощупывает ногами скрипучие половицы. Делает пометки синей ручкой, корявым убористым почерком. Представляю, как отец смотрит на нас, скривившись. «Не напрягайся так, Алиса, — сказал бы он. — Это же просто бизнес. Бизнес — и больше ничего».
Последнее место осмотра — кухня. Смотрю, как Майкл ухмыляется при виде линолеума на полу, шкафов из семидесятых, цветов в горшках и того мусора с крыльца, который я разложила на подоконнике. «Это мои талисманы», — хочу я сказать ему, но он не поймет.
— Ну, что скажете? — спрашиваю я.
— Да, да. — Агент кивает, вымученно улыбаясь.
— Вам не кажется, что тут мрачновато?
Он нервно смеется:
— Все можно исправить парой взмахов кисти с краской.
— Я всегда… — тут уже я смеюсь невпопад, — боялась этого дома… вроде как…
Покачиваю головой.
— Может, кофе? Вы как насчет кофе?
Он просит черный, с тремя кусочками сахара. Выкладываю на тарелку шоколадное печенье; оно смотрится как-то жалко. Майкл съедает четыре штуки. Теперь у него все щеки в крошках. Мне трудно сосредоточиться на том, что он говорит.
— Дело в том, Алиса, что нужно думать как покупатели, нужно представить себя на их…
Смотрю на его ботинки. Они плавно сужаются к носкам. Мягкая коричневая кожа, пастельно-голубые шнурки.
— …мне приятно, что кажется, будто мы прилагаем много усилий, Алиса…
Он помахивает руками в такт словам. Пальцы у него тонкие, с короткими ногтями, без колец.
Вчера я нашла мамин портрет. На чердаке, в коробке без надписей. Я пыталась уговорить себя, что пора начать разбирать вещи, поэтому вытащила коробки из угла. Первая была набита книгами: «451° по Фаренгейту», «Снятся ли андроидам электроовцы?», «О дивный новый мир». Во второй был набор посуды — резной, покрытой коричневой глазурью. Третья полыхнула яркими цветами. Бирюзовый шелк. Золотая нить. Я слышала об этих подушках — Тилли и Си любили водружать их на голову и воображать себя принцессами. Они думали, что папа выбросил их вместе со всем остальным. В коробке лежали три подушки, а на самом дне — мамин портрет в рамке. Графика, рисунок черными чернилами. Она чуть наклонила голову, но смотрит прямо на художника и улыбается. Подписи нет.






