Десять вещей, которые я теперь знаю о любви Батлер Сара
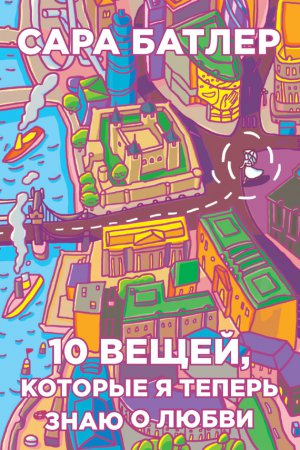
— Алиса, ради всего святого! — Си не сводит глаз с затылка водителя.
Тилли нервно постукивает ладонью по колену.
— Я просто спросила. — Складываю руки на груди. — Может, она ехала не в том направлении?
Сестры молчат.
— Может, она убегала?
По-моему, Си бормочет что-то вроде «так же, как и ты», но я не уверена.
Мы приезжаем слишком быстро. Я цепляюсь за Тилли, сплетаясь с ней пальцами. Проходим между двух толстых колонн и оказываемся в застланном коврами зале со скамейками — как в храме. Четверо незнакомых мужчин вносят гроб, бережно водружают его на узкий стол. Они явно делали это и раньше. Шторки из желтого бархата. Гроб стоит на полозьях. Мой отец…
Женщина, которая ведет церемонию, тихим, раздражающим голосом постоянно повторяет «почтить память». Мальчики за моей спиной ерзают по скамейке. Хочется, чтобы Кэл сидел рядом, обнимал меня за плечи.
Надо было вернуться и поговорить с отцом. О чем я только думала? Пыталась его наказать, когда времени уже почти не осталось. Вспоминаю, как в тот вечер накануне моего отлета он сидел напротив меня в баре, за маленьким круглым столиком с красной скатертью, на котором стояли шероховатые глиняные тарелки, расставленные вокруг свечи. «Уверена, что поступаешь правильно? — спросил он. — Мне казалось, у тебя с работой все гладко». — «Так и есть, — ответила я, — но мне нужно выбираться отсюда». — «Сбежать — это не единственный выход, Алиса, — сказал он тогда. — Порой стоит задержаться на одном месте и все-таки попытаться справиться со всем».
Если бы я осталась, то смогла бы подольше побыть с ним. А если нет…
Женщина замолкает. Тилли сжимает мою руку почти до боли. Шторки дергаются, потом смыкаются желтой завесой. Кто-то наверняка сколотил состояние на самодвижущихся шторках: один щелчок переключателя — и гроб исчез. Слышу, как заработал другой механизм, колесики зашевелились. Представляю, как отец там, в ящике, движется навстречу жару.
Каждый год, под Рождество, он водил нас на балет. Папа в костюме, мы — в новых платьях и лакированных туфлях. Суета и волнение. Ложа, красные бархатные кресла, края кулис. Блеск и сияние. Потом свет гаснет. Миг тишины, ожидания — и вот, будто по волшебству, занавес поднимается. Представление начинается. Мне очень нравилось смотреть, как танцоры сходят со сцены — и превращаются в обычных людей.
Вот и всё. Мы встаем. Из колонок доносится тихая музыка — кажется, что-то из Форе. Мы выскальзываем из узкого пространства между скамейками и идем к двери. Все кончено. Отца больше нет.
Катафалка тоже нет. Наверно, он уже на пути к другим похоронам. «Дедушка» из красных гвоздик переместился на заднюю полку другого автомобиля. Отцу это бы не понравилось. Он счел бы это пошлым.
Сворачиваем с Хэмпстед-Хай-стрит и медленно едем к остановке около храма. Ветви деревьев, тяжелые от листвы, перевешиваются через кованую ограду, рассеивая солнечные блики на бетонном тротуаре. Я покидаю уютное сиденье машины и только тут замечаю Кэла.
Желудок прилипает к спине, адреналин ударяет в ноги. Кэл стоит у ворот церковного дворика и смотрит на меня. Темные глаза. Широкий рот. Я отворачиваюсь, обвожу взглядом улицу: ряд деревьев в середине дороги; белый дощатый дом с желтой дверью; кладбище за высокой оградой; мужчина в куртке из плащовки, который поднял руку, будто приветствуя кого-то. Чувствую, как колотится сердце.
Тилли стоит рядом со мной. Я смотрю на нее в упор.
— Я пыталась тебе сказать. Алиса, он захотел бы об этом узнать. Да, иногда отец бывал… но они ведь поладили, правда?
Сидели вдвоем, попивали виски, обсуждали крикет, политику, статьи в медицинских журналах.
— Ты не имела права, — прошипела я.
Сестра берет меня под локоть, и мне стоит больших усилий не оттолкнуть ее. Раcправляю плечи и поворачиваюсь к церкви, лицом к Кэлу. Он в костюме. Всегда хотела увидеть его в костюме. Так, прекрати. Вот если бы он сдвинулся с места, сделал хоть шаг или зашел в церковь, было бы куда проще. Но он стоит и смотрит на меня. Эти глаза. Прекрати. Я хватаю Тилли за руку и стискиваю ее.
— Не бросай меня, — шепчу я.
— Не брошу. — Она накрывает мою ладонь своей.
Прохожу мимо него. Пытаюсь пройти мимо него.
— Алиса, — произнес он, только и всего.
Я чуть было не споткнулась. Сжимаю губы и киваю в его сторону. Не могу даже взглянуть на него. Рассматриваю церковь: дверь и окно справа покосились; трещины на стене замазали, но их все равно видно. Похоже, проблемы с фундаментом.
Тилли ведет меня в храм. Так-то лучше. Потолок возвышается над нами белыми арками. Витые золотые линии тянутся вверх и переплетаются, словно крашеные канаты. Мы рассаживаемся на передней скамье. Глядя на алтарь, я вспоминаю желтые бархатные шторки в крематории. Вспоминаю папину кровать, уже без простыней. А потом представляю маму за рулем: шляпка смята как листок бумаги, ветровое стекло разбито.
Церковь полнится глухим шумом: звуки шагов, шепот; люди листают распорядок поминальной службы, устраиваются удобнее. Я позволяю себе один раз быстро оглядеться вокруг. Кэл сидит по другую сторону от прохода, на несколько рядов дальше меня. На нем тот зеленый галстук, что я привезла ему из Вьетнама, из моей первой поездки после того, как мы с ним съехались. Помню, как стояла в магазине и перебирала пальцами ткани, отмахиваясь от назойливого продавца. «Он прямо в цвет твоих глаз», — сказал Кэл, получив подарок. «Едва ли». — «Я теперь каждый раз буду надевать его и вспоминать твои глаза». — «Прекрати».
Первым слово берет Хьюго Уэллс, коллега отца. Он подстриг седые волосы и аккуратную бородку. У него изящные кисти. Руки пианиста. Помню, отец говорил: «Это лучший хирург из всех, с кем мне доводилось работать». Голос у мистера Уэллса сильный и уверенный. Не забудь обо мне, ведь я лишь недоступен для глаз. Но я жду тебя, верь, уже скоро. Я близко. И все хорошо. Цело все, ничего не потеряно. Свет золотом льется в храм сквозь витраж, сверкает в латуни, делает вид, что мир прекрасен.
Я не могу сосредоточиться на службе. Ерзаю на месте. Кэл опустил глаза, не видит меня. Может быть, я ошиблась? Может, мы смогли бы начать все снова — с того места, где остановились?
Тилли встает. Смотрю, как она неловко поднимается к аналою, потом поднимает голову и слабо, напряженно улыбается. Я подбадриваю ее.
«Наш отец был исключительным человеком». Голос дрогнул, но снова выправился. «Нам повезло, что мы его знали». Люди ерзают, кивают. «Он был тихим, серьезным, настоящим тружеником, но вместе с тем у него было отличное чувство юмора». Тилли бросает взгляд на Си, потом на меня, и я невольно расплываюсь в улыбке и киваю. «Когда мне было десять, а моей сестре Сесилии восемь — Алиса тогда еще не родилась, — мы поехали отдыхать в Нормандию».
Теперь я слышу только шум крови в ушах. Пока не родилась Алиса, было сплошное веселье. Пока Алиса не родилась, отец не становился таким закрытым, таким отстраненным. Вспоминаю, как Си однажды уперла руки в боки и заявила, пылая злостью и яростью, что я вообще не должна была появляться на свет, что я была большой ошибкой и мама и папа очень расстроились, когда я родилась. Я прибежала к отцу вся в слезах. Мне было тогда лет шесть или семь. Он усадил меня к себе на колени, убрал челку с глаз и стал укачивать, пока я наконец не успокоилась и, всхлипывая, не рассказала, что случилось. Отец, конечно, ответил, что ничего подобного не было, что я просто красавица и настоящий подарок для них с мамой. Сказал, что любит меня, что ничего страшного не случилось, а с Сесилией у него будет серьезный разговор, потому что она не должна была говорить такие ужасные вещи. И все равно я вышла из его кабинета с мучительным чувством неуверенности, застрявшим в горле, как галька.
Закрываю глаза и заставляю себя вспоминать. Вот мы едим мороженое на Вестминстерском мосту, а папа пытается растолковать нам политику. Вот рождественское утро и папины носки на спинках наших кроватей, по одному на каждой, а внутри них, в самом низу, по апельсину, потому что в детстве папа всегда получал в носке апельсин. А вот и мой выпускной: отец держит меня за плечи, и его глаза светятся гордостью.
Смотрю, как Тилли шевелит губами, и пытаюсь снова вслушаться в ее речь. «Помню, как он усадил Алису себе на плечи и поднял над толпой, чтобы ей было лучше видно», — говорит сестра. Шел какой-то парад, на улицах было полно народу, а я была еще слишком маленькой, чтобы что-то разглядеть, но, честно говоря, слишком большой, чтобы брать меня на руки. Помню, как держалась за папины волосы, прижимаясь пятками к его груди — пошатываясь, но ощущая себя в безопасности. На вершине мира.
«Мы всегда чувствовали, что он нас очень любит. Знали, что, если будет нужно, он для нас не пожалеет жизни». Дыхание Тилли неровное, и микрофон это выдает. «Мы будем очень скучать по нему». Сестра склоняет голову и бредет вниз по ступенькам, обратно на скамейку. Едва усевшись, она пускается в слезы. Когда приходит время вставать, чтобы спеть последний гимн, я обнимаю Тилли за плечи и стараюсь удержать ее. «Господь — Пастырь мой», — пою я, не веря ни единому слову.
— Тебе повезло, — сказал мне однажды Кэл, — что у тебя такой отец.
— Какой? Которого вечно нет рядом?
— Это неправда.
— Говорит мне его приятель-хирург.
— Он мне нравится.
— Мне тоже.
— Он не…
— Что?
Кэл пожал плечами, прикрыв глаза, как всегда, когда речь заходила о его родителях.
Воображаю, как Кэл сидит позади меня, слева. Если бы его отец… никто бы даже не подумал сказать мне об этом. Раньше я часто фантазировала о его семье. Когда он ужинал с родителями, я сидела одна в квартире, пила вино и представляла себе их дом, весь, от синего ковра в прихожей до мраморно-серой плитки в ванной. Мысленно разыгрывала их разговоры: «Ты еще не встретил хорошую девушку, Калиф?» — «Нет еще, мама». — «Пора бы уже. Вот у Абадов дочь недавно закончила Кембридж. Хочешь, покажу тебе ее фото».
Все снова закончилось. Идем с Тилли по проходу. Чувствую, как люди бросают на нас взгляды вскользь. Кто-то играет на органе, впрочем, не слишком умело: фальшивит на сложных пассажах. Отца это бы не впечатлило. Ни это, ни цветы, водруженные на скамейку в глубине церкви. Ничего из происходящего.
Си выстраивает нас рядком у выхода. Я позволяю гостям брать меня за руку и говорить приличествующие случаю слова. Понятия не имею, кто все эти люди.
Я жду Кэла. Когда он появляется, в голову ударяет адреналин, сердце припускает; я уже готова сбежать. Может, он пройдет мимо? Нет, не прошел. Берет меня за руку — и дыхание перехватывает.
— Алиса, мне очень жаль…
Громко сглатываю. Не могу вымолвить ни слова.
— Он был замечательным человеком.
Отец свыкся с Кэлом куда быстрее, чем Си. Он беседовал с ним о здравоохранении, о крикете, а на Рождество получал от него в подарок бутылку солодового виски.
— Как ты? — спрашивает Кэл.
Я удивленно вскидываю брови.
— Прости. Я… я слышал, ты была в отъезде.
Вспоминаю о Монголии: цвет, в который солнце окрашивает землю, опускаясь за горизонт; пара юрт, небольшой табун лошадей — и пустота, на мили и мили вокруг.
— Ладно, не буду тебя задерживать. — Кэл бросает взгляд на редеющую толпу.
— Приходи на поминки, — выпаливаю я слишком быстро. — К нам домой.
Смотрю на свои черные лаковые туфли и думаю, помнит ли он их тоже.
Кэл задумывается, но лишь на секунду.
— Спасибо. Было бы здорово поднять бокал в память о нем.
Я кусаю ногти.
— Рад был повидаться с тобой, Алиса.
Держу себя в руках, пока Кэл не доходит до дороги, и лишь потом отворачиваюсь к стене. Откуда-то из глубины груди рвутся рыдания, сгибая меня пополам. Чувствую, как кто-то гладит меня по спине. Не он. Люди все выходят и выходят из церкви. Но мне все равно.
— Алиса, идем.
Си наклоняется ко мне. Я оборачиваюсь к ней и замечаю незнакомца, стоящего у дверей храма. Он будто сомневается в чем-то. Ему явно надо принять душ и побриться. Покорно иду вслед за Си. Решено: вернусь и сразу лягу в кровать. Спрячусь под одеялом. Забаррикадирую дверь.
Но в доме полно людей, и меня выносит потоком в гостиную. Перед книжными стеллажами появились два раскладных стола, накрытых белыми скатертями. Понятия не имею, откуда они здесь взялись. На одном из них выстроились ряды бокалов; некоторые уже наполнены красным и белым вином. Чуть левее низенькие пузатые бокалы сгрудились вокруг остатков папиной коллекции виски. Второй стол ломится от еды так, что даже немного неловко.
Кэл стоит возле камина, держит в руке бокал, до середины наполненный янтарным виски, и разговаривает с каким-то стариком. На вид тому лет восемьдесят: кожа иссохлась и сморщилась, как скорлупа грецкого ореха, жидкие прядки седых волос осели на рябой лысине. Я понимаю, что теперь никогда не узнаю, как мой отец выглядел бы в восемьдесят лет.
— Может, бутербродик, Алиса?
Стив цепко держит в руках тарелку с сэндвичами и парой кусков торта, примостившихся с краю. Пиджак он уже снял; голубая рубашка под мышками потемнела от пота.
— Нет, спасибо.
— Давай, тебе сейчас полезно. Скорбь утомляет, так что надо подкрепиться.
— Как ты думаешь, почему он решил сделать эту комнату красной?
Стив озирается по сторонам, хмурится:
— Тут довольно просторно.
— Тебе не кажется, что тут темновато?
— Ну, может, стоит подстричь лавровое дерево… — Он кивает в сторону окна, откусывая от сэндвича с креветками. Капля майонеза падает на запястье, и он слизывает ее. — Хочешь вина?
— Красного, пожалуйста.
Стив улыбается, убегает и быстро возвращается с бокалом, полным до краев. Беру его, и наши пальцы соприкасаются.
— Спасибо. Мне, наверно, пора уже к гостям…
Я собираюсь улизнуть, но тут к нам присоединяется Си.
— Представляешь, этот подлец даже не соизволил явиться! — Сестра возмущенно потрясает стеблем сельдерея. — И чего она никак не избавится от него, не пойму.
Си никогда не жаловала Тоби. Мужчину Тилли. Который не считается официальным, потому что женат на другой. Он славный малый и довольно привлекательный — такой классический типаж, который меня никогда особо не интересовал. Но факт остается фактом: он женат, а значит, безусловно, подлец. Я даже не заметила, что он не пришел.
— Якобы, — продолжает Си, — он обещал прийти, но что-то вдруг случилось. Господи, да что могло случиться? Она вечно за него извиняется. И делает вид, что ей это не в тягость, но я-то вижу по ее глазам, что это не так.
А еще по рукам. Тилли всегда выдавали ее руки. Представляю, как она сжимает маленькие кулачки, стараясь справиться с очередным разочарованием.
Однажды я задала ей вопрос в лоб.
— Ничего не попишешь, — ответила она тогда. — Я сделала свой выбор, и это он.
— Но почему он не уйдет от жены? — спросила я.
Тилли грустно покачала головой:
— Это жизнь, а не голливудский фильм, Алиса.
В итоге я решила, что ей так больше нравится. Сейчас она — любимое блюдо, вишенка на торте, самая вкусная конфета из коробки. Ее похищают на выходные, ей делают тайные подарки. Есть в этом всем некий флер запретности — вот он-то ее и заводит. Правда, от Тилли я такого не ожидала, но могу ее понять. Си все это кажется безумием, но в ее представлении романтический вечер — это заказать доставку китайской еды, купить пачку мятных шоколадок и сидеть смотреть комедию, пока дети спят наверху.
— Вам, девочки, теперь большое дело предстоит, — вдруг произносит Стив.
Си бросает на него взгляд.
— Что ты имеешь в виду? — спрашиваю.
— Дом-то большой.
— Уже прикидываешь?
Стив хмурится.
— Алиса, он просто хочет сказать, что нас ждет много хлопот, — поясняет Си.
Она уже взялась за дело. Вчера я застала сестру в папином кабинете в окружении стопок бумаг, картонных папок, черных пластиковых мешков. Ее лицо покраснело, плечи ссутулились, кончик языка высунулся. Когда я открыла дверь, Си вскинула голову, быстро взглянула на синюю папку возле ног, задвинула ее под стул и прикрыла ногой. Пальцы при этом нервно теребили края стопки бумаг на коленях. Представляю, как они со Стивом обсуждали это за завтраком. Что мы оставим. Что выбросим. Сколько выручим.
— Пойду, пожалуй, пообщаюсь с гостями, — говорю я, натянуто улыбаясь.
Поднимаю глаза и вижу в окне того мужчину из церкви — небритого, с грязными волосами. Кто-то может его впустить. Я начинаю пробиваться к двери, но это все равно что плыть в бассейне с клеем. Опускаю голову, стараюсь не встречаться ни с кем взглядом.
Но едва я добралась до прихожей, как меня все-таки поймали.
— Ты, наверно, Алиса? — Женщина очень маленького роста, даже по сравнению со мной. Глаза ярко-голубые, волосы выкрашены в вызывающий цвет. — Господи, да ты вылитая мать. — Она оглядывает меня с ног до головы. — Последний раз я видела тебя совсем крошкой, а заранее никогда не угадаешь, сохранится ли сходство. Меня зовут Марина. Рада увидеться с тобой снова. — Рукопожатие твердое, а в голосе слышатся мелодичные шотландские нотки.
Мне она сразу понравилась, но разговаривать с ней я не хочу.
— Тебе наверняка хочется, чтобы мы уже убрались восвояси, — сочувственно кивает она. — Справедливо. Но я рада, что мы свиделись. Мне тут сказали, что отец всегда отзывался о тебе с гордостью. — Она улыбается, по-моему, слегка фальшиво. — Это греет душу, правда?
Стою, смотрю куда-то поверх ее плеча. Она уже собирается отвернуться, как вдруг у меня вырывается невольно:
— Вы знали отца? Откуда?
— О, — она покашливает, прижимая пальцы с вишневым маникюром к узким губам, — я знала твою маму. Мы были близкими подругами. — Марина поднимает вверх два скрещенных пальца и отводит взгляд в сторону. — Я давно не виделась с твоим отцом. — Пауза. — Про Малкольма мне написала твоя сестра. Честно говоря, не ожидала, что буду в списке приглашенных. Но я хотела приехать выразить соболезнование всем вам. — Пристальный взгляд на меня. — Мы не так уж часто общались, но он был хорошим, порядочным человеком.
— Вы знали маму?
— Да, еще со школы. — Марина трогает меня за локоть. — Мне до сих пор ее не хватает, — произносит она со вздохом.
— А вы не знаете, куда она ехала?
— Что, прости?
— В тот день, когда она… в машине.
Марина хмурится.
— Она должна была забрать меня с балета, — рассказываю я. — Но нашли ее на другой дороге.
Чуть поколебавшись, Марина слегка вздыхает:
— Господи, опять ей что-то взбрело в голову. — Она смотрит на меня, склонив голову набок, будто птичка. — Твоя мама была с причудами, — объясняет она, улыбаясь. — Наверно, ехала за тобой и тут вдруг увидела указатель с названием места, где давно хотела побывать, или просто живописную дорогу — вот и свернула не туда. Она всегда была такой. Сны наяву, безумное вождение, беспечность… — Марина осекается, встречаясь со мной взглядом. — Я никогда больше не встречала никого похожего на твою мать.
Мы обе молчим. Допиваю вино, кручу пустой бокал в руках.
— Кстати, ты не виделась сегодня с неким Даниэлем? — спрашивает вдруг Марина.
Она права: я хочу, чтобы она убралась отсюда. Чтобы все они убрались прочь. Отрицательно мотаю головой и делаю знак, что мне надо уйти по делам. Марина открывает рот, чтобы что-то сказать, но я отворачиваюсь и выхожу из комнаты. На кухне Тилли моет посуду. Когда я прохожу мимо, сестра забирает у меня бокал, но ничего не говорит. Перешагиваю через порог, прислоняюсь к стене кухни и закрываю глаза. Теплые лучи касаются лица, но мне все равно холодно.
— Он никогда не был завзятым садоводом, так ведь?
Заслышав голос Кэла, я вздрагиваю, но тут же одергиваю себя, чувствуя, как мой топ цепляется за кирпичи.
— Почему же? Был, немного, — вступаюсь я за отца. — По выходным он выходил из дома, слушал радио и полол сорняки.
— Но лето — та еще зараза, правда?
Так и есть, все уже заросло. Траву надо подстричь. Сорняки не дают расти цветам.
* * * Мы с Кэлом познакомились на карнавальной вечеринке нашего общего друга. И оба смухлевали. Я тогда только вернулась из Непала и надела золотое сари, которое привезла оттуда. А он был в медицинском халате, заляпанном искусственной кровью.
— А, индийская богиня.
Я испугалась, что оскорбила его.
— Не переживай так, — рассмеялся он. — Ты выглядишь шикарно.
— А ты… э…
— Хирург-убийца? У меня был топорик, но я его где-то посеял.
С ним было легко болтать. Ему было интересно слушать о моих поездках: где я уже была, куда еще только собираюсь. Он не расспрашивал меня о работе или о планах на жизнь. Он был старше меня почти на шесть лет. Под конец вечеринки, когда римские легионеры и супергерои в трико спешили на последний поезд в метро, я потянулась к нему и коснулась губами его губ, а он ответил на поцелуй.
Протягиваю руку к стене и прижимаю ладонь к кирпичу. Кэл подстригся, бороду подровнял.
Чувствую сладкий мускусный запах его лосьона после бритья.
— Ты дома надолго? — спрашивает.
— Понятия не имею.
Хочу, чтобы он прикоснулся ко мне. Чтобы поцеловал так, что я забуду обо всем на свете.
— У тебя кто-то есть?
— Алиса.
— Значит, да. Спорим, ты уже обручен? Си всегда говорила…
Кэл вздыхает, сует руки в карманы брюк.
— Извини.
Он пожимает плечами, рассматривая кончик ботинка, которым ковыряет землю.
— Я пытался дозвониться. Даже письмо тебе написал.
Я знаю его слишком хорошо. Знаю, как он в задумчивости прижимает к подбородку большой палец. Знаю, что он любит помидоры — вареные, а не сырые. Знаю, какой он, когда спит.
— Я позвонил твоему отцу и попросил твой адрес, но он сказал, что ты уехала. Так что послать письмо было некуда. А отправлять его по электронке я не хотел.
— Оно еще у тебя?
Он смотрит на меня, и я вижу, что он устал, кожа вокруг глаз осунулась и истончилась.
— Письмо. Оно у тебя?
Кэл мотает головой и снова опускает взгляд, а я стою и думаю, писал ли он что-нибудь вообще. Хочу, чтобы он обнял меня. Хочу рассказать о том, что каждое утро просыпаюсь от злости, потому что отец должен быть еще с нами, потому что я так и не сказала папе, что люблю его — даже когда узнала, что он умирает. Хочу рассказать Кэлу о том, что боюсь этого дома, что он слишком темный. И когда я вхожу в пустую комнату, ощущение такое, будто я пришла в компанию, где только что обсуждали меня. Я хочу, чтобы Кэл сказал мне, что я не схожу с ума.
— Пожалуйста, уходи.
— Я скучал по тебе.
— Пожалуйста.
— Все, уже ухожу, Алиса.
Он кладет ладонь мне на лоб, и желание жидким серебром разливается по моим венам. Я изо всех сил стараюсь не подать вида.
— Немного побалуй себя, ладно? Это огромное потрясение.
В глубине моего горла раздается клекот. Слышу, как Кэл идет к двери. Открывает ее. Закрывает. Замирает на пороге, а потом уходит прочь. Отец умер. Сад в запустении. Воздух пахнет дождем. Я медленно сползаю по стене и опускаюсь на землю, сгибая колени. Прислоняюсь cпиной к дому — ищу в нем опору.
Десять работ, на которых я продержался дольше месяца1. Продавец в булочной, в Престоне. Мне было шестнадцать.
2. Разносчик газет в Бротоне. Я быстро выучил, в каких домах были собаки.
3. Сортировщик почты в Маунт-Плезант.
4. Разнорабочий в юго-восточном Лондоне.
5. Смотритель галереи в одном местечке в Сохо. Я был счастлив, как никогда.
6. Водитель грузового фургона в Лидсе.
7. Натурщик в Лидсе.
8. Кладовщик в Sainsbury’s, на Кентиш-таун.
9. Офисный уборщик. Помню все эти фотографии жен, детей и собак, наклеенные на мониторы.
10. Водитель такси в Лондоне.
Я не спал всю ночь. Хотя надо было поспать: сегодня мне никак нельзя упасть в обморок или оказаться в больнице. Но вместо этого я гулял. Ходьба успокаивает меня, стоит только поймать ритм. Правда, в последнее время он не слишком быстрый, но со своей задачей справляется. Я кружил по Хэмпстеду, пока ноги не начали ныть. Каждый час или около того я останавливался возле фонаря, вынимал из кармана клочок газеты и подносил его к свету:
Церемония прощания пройдет на кладбище Хайгейт, затем в 13:00 состоится поминальная служба в приходской церкви Св. Иоанна в Хэмпстеде. Без цветов. Сбор пожертвований в Фонд помощи раковым больным им. Марии Кюри.
Едва солнце встало, вся моя энергия будто бы рассеялась вместе с темнотой. Дойдя до скамейки, я сел на нее, но не позволил себе сомкнуть глаз. Спать было уже поздно. Час спустя мои ноги и руки все еще казались ватными, будто у тряпичной куклы. Пришлось доковылять до супермаркета на Хит-стрит и встать у входа, стараясь перехватить чей-нибудь взгляд. «Не найдется немного мелочи?» Терпеть не могу так делать, но мне очень нужно было поесть. А люди все шли и шли мимо. Наконец, женщина с тремя белыми пакетами остановилась и с улыбкой протянула мне круассан, еще теплый. Даме на вид было лет пятьдесят. Одна из тех уютных женщин, глядя на которых легко представить, как они заварят тебе чай и выслушают, поглаживая по руке.
— Спасибо.
— Вы куда-то идете?
— На похороны.
На ее лице отразилось сочувствие.
— Я нормально выгляжу?
Взглянув на меня, женщина принялась рыться в пакете.
— Вот, держите, — произнесла она наконец, протягивая мне яблоко. — Я работаю в благотворительной организации. Мы помогаем бездомным.
Никогда не любил это слово. Выслушав женщину, я взял у нее визитку.
— Простите, но мне пора, — указываю на часы, которых у меня нет.
Она неохотно кивает.
Глядя на свое отражение в окне одного из офисов — агентство по недвижимости: фото на листах А4, списки дел в аккуратных пластиковых рамках, — я, как смог, пригладил свои волосы. Потом съел яблоко, все целиком: и прохладную белую мякоть, и сердцевину, и даже черные семечки, вытер пальцы о брюки. «Первое впечатление — это самое главное, — любил повторять мой отец. — Изменить его потом очень трудно».
Ныряя в ворота церковного дворика, я слышу звуки органа. Двери храма открыты. Высокий седой мужчина в белом стоит, сложив руки на животе, и разговаривает с женщиной преклонных лет.
Я опоздал. Я уже почти упустил тебя. Нет, я пришел рано. Я уверен.
Когда я подхожу, викарий смотрит на меня с улыбкой. Мне часто хотелось примкнуть к конфессии, где меня принимали бы без предрассудков, ну или хотя бы притворялись, что принимают. Молча проскальзываю мимо него. Внутри церковь вовсе не похожа на приземистое кирпичное здание, каким видится снаружи. Элегантные колонны переходят в белые своды, окаймленные золотом. Узкий балкон тянется вдоль трех стен. Скамьи — бледно-голубые, как твое имя. В церкви всего человек двадцать, большинство из них — старики. Некоторые сидят рядом. Это заутреня. Я не опоздал. Не упустил тебя. Сажусь на самую дальнюю скамью и беру синий молитвенник с полочки напротив. Страницы тонкие, как паутина, и пахнут пылью.
Я никогда не умел петь. Мелодия ускользает от меня, и я лишь блуждаю вокруг нее в поисках нот. Но все же мне нравится выпускать голос на волю, не думая о том, что сказать. И когда я пою, то в груди рождается чувство, что я почти нашел тебя. Свою дочь. Я почти у цели.
На выходе я не заговариваю с викарием, а сворачиваю прямо на кладбище, которое сужается, упираясь в стену, увитую плющом.
Памятник на могиле матери оказался меньше, чем мне хотелось, но с деньгами было туго. Мама настаивала, чтобы ее похоронили рядом с отцом. Я хотел развести их как можно дальше друг от друга, но мама заставила меня дать ей слово. Они лежат не совсем рядом — для этого нам пришлось бы намного опередить время, — но недалеко друг от друга. Стоя рядом с ее могилой, можно увидеть его надгробие. Я держу слово.
Я стараюсь приходить туда хотя бы раз в год. Провожу тут день или даже больше. Прибираюсь, выпалываю сорняки на ее могиле и тех, что рядом. Перочинным ножиком стараюсь подровнять траву. Подбираю камни и ветки и выкладываю ими дорожки.
Рассказываю ей, как провел этот год, стараясь не думать о том, как она сощурилась бы от жалости и стыда. Мама была доброй. Она помогала мне — снова и снова. Но я уверен, если бы она увидела меня сейчас такого, с больным сердцем, в потрепанных штанах, то сгорела бы со стыда.
Напоминаю себе, что сегодня четверг: светлый, зеленый день, который вытащит меня из ямы этой недели. «Конечно, ты нервничаешь, — говорю я мысленно, — вы же никогда не виделись раньше; вам столько всего надо сказать друг другу». Сажусь на лавку возле дерева. Листья разрывают ровную голубизну неба. Вынимаю из кармана рисунок и расправляю его о правое колено. Целлофановый пакет, в который он завернут, шуршит от прикосновения.
Когда я сказал, что хочу написать ее портрет, она рассмеялась. Мы сидели в кафе в Национальной портретной галерее. Это было наше первое запланированное свидание. Я думал, она не придет. Чай уже остыл, а сердце рухнуло в пятки. И тут появилась она — в вихре из набитых бумажных пакетов, растрепанных кудряшек, мокрого зонтика и красного пальто, перекрученного на талии.
— Дождались, — сказала она.
Она пила «Эрл Грей» и ела кусок шоколадного торта, отламывая понемногу маленькой вилочкой. В голове у меня слова складывались в предложения, но едва я собирался их сказать, как понимал, что это несусветная глупость, и продолжал держать рот на замке.
— Вы подстриглись, — заметила она. — Вам идет.
Я смущенно коснулся волос:
— Спасибо.
Кафе гудело от болтовни, чашки стучали по блюдцам, приборы звякали по тарелкам.
— А вы неразговорчивы, — сказала она наконец.
— Я хотел бы написать вас, — выпалил я.






