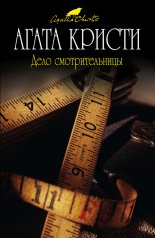Невозможность путешествий Бавильский Дмитрий

Если Пушкин в «Путешествии в Арзрум» выдает стопроцентную гонзо-журналистику, то Чехов стремится быть максимально объективным. Точнее, текст делать таким образом, чтобы получалось не художественное, даже не публицистическое, но едва ли не научное произведение.
Во-первых, Чехов проводит импровизированную перепись населения во всех населенных пунктах, куда прибывает (10 000 карточек этих до сих пор хранится в Ленинской библиотеке), обрабатывая сведения, кажущиеся лично мне бессмысленными, но самому Чехову дающие возможность писать текст дальше и дальше.
Во-вторых, Чехов пишет (старается писать) бесцветно, точно диктант, намеренно изгоняя яркие образы и сравнения, делая стиль нейтральным и даже, по возможности, бесцветным.
Именно поэтому редкие метафоры здесь подобны разряду молнии и бьют прямо по сетчатке («От моря залив отделяется узкою длинною песчаною косой дюнного происхождения, за этою косой беспредельно, на тысячи верст раскинулось угрюмое злое море. Когда с мальчика, начитавшегося Майн-Рида, падает ночью одеяло, он зябнет, и тогда ему снится именно такое море. Это — кошмар. Поверхность свинцовая, над нею тяготеет однообразное серое небо. Суровые волны бьются о пустынный берег, на котором нет деревьев, они ревут, и редко-редко черным пятном промелькнет в них кит или тюлень…»).
Чехов выбирает единственно возможный градус личного присутствия: он пытается (делает вид?), что текст (ракурс, дискурс) самозарождается в толщах этой воды и в недрах этой земли, минуя насильственное авторство, появляется миазмами выгребной ямы (Чехов очень много внимания уделяет вопросам гигиены и чистоты, а также устройству туалетов: «В рыковской тюрьме эта тяга устроена так: в помещении над выгребною ямой топятся печи, и при этом дверцы закрываются вплотную, герметически, а ток воздуха, необходимый для горения, печи получают из ямы, так как соединены с ней трубой. Таким образом, все зловонные газы поступают из ямы в печь и по дымовой трубе выходят наружу. Помещение под ямой нагревается от печей, и воздух отсюда идет в яму через дыры и затем в дымовую трубу; пламя спички, поднесенной к дыре, заметно тянется вниз…»).
С другой стороны, равнодушная природа самозарождения оборачивается полной невключенностью автора в круговой обзор. Он здесь чужой, явный инопланетянин, чье высокомерие проявляется уже в способности фиксировать тюремный и околотюремный быт.
Изучает, наблюдает и фиксирует, точно энтомолог, обнаруживая очевидную двойственность позиции «русского интеллигента», который, с одной стороны, сочувствует и всячески мирволит, а с другой, вполне довольный своим положением, вряд ли поменяется с «простым человеком» местами.
Хождения в народ схожи с экскурсиями методом недолгого погружения. Чеховский поступок оттого и выглядит подвигом, что писатель посвятил полуострову (не считая долгой дороги по Сибири) четыре изнурительных месяца, подорвавших его здоровье. И четыре месяца — даже не четыре года, не говоря уже о целой жизни, растворенной в дальневосточной реальности. На этом фоне добровольно придуманного интеллектуального фронта, изобретающего поводы для самопродвижения (текста) призывы героев его пьес «надо работать» и «мы отдохнем» выглядят даже не желчью, но кровяными сгустками, высморканными вместе с гноем.
Дело даже не в этом биографическом контексте, позволяющем правильно расставлять смысловые акценты в авторском замысле, а в самой возможности авторства, вырывающего тебя из анонимности и, таким образом, ставящего над людьми в прямом и в переносном.
Чехов так легко «отказывается» от выпуклого описания и узнаваемого авторского стиля, оттого что авторство закреплено за ним онтологически, а любая тавтология избыточна и даже для элементарного эстетического вкуса выглядит как-то too much.
«В краю непуганых птиц» М. Пришвина
Попадая в деревню, на количество бань смотри: если здесь мир и покой, то бань в деревне немного, значит, люди в общие бани ходят.
А если не складываются отношения между людьми, баня у каждого своя. Впрочем, как и самовар.
Хотя нынче народ состоятельный пошел, и даже те, кто ни чаю, ни кофею не потребляет (староверы) имеют даже не один, но два самовара, вот ведь оно как.
«Да что далеко ходить! — вставила свое словечко старушка. — Годов десяток, не больше, у нас на всем Выг-озере и был самовар у койкинского батюшки, да на Выгорезском погосте другой, да у Семена Федорова третий, да у дьякона… всего девять самоваров было. А теперь у каждого…»
Здесь женщины, подоткнув юбки, рубят траву, стоя в воде болота; коров возят на лодках на остров пастись (на большой земле корма мало — не растет); вспахивая каменистые участки, камни не убирают (без них тепло не держится и вода испаряется быстро-быстро), но перекладывают — до пяти раз за сезон; а местный фотоохотник приспособил фотокамеру повесить на рогатину, дабы, когда медведь на дыбы встанет, его в этом состоянии щелкнуть.
Хотя всякий знает, что «звиря» бояться не следует, ибо даже есть присказка, мол, «господь покорил его человеку»; но если медведь все ж таки на человека кидается, значит он просто «нечистый» и на него колдун («жрецы, языческие священники») порчу навел.
Делов-то.
То, что выглядит синтезированной фантазией, на самом-то деле чистая, незамутненная правда, собранная в самых что ни на есть полевых условиях.
Хотя и не без самолюбивой писательской причуды — ведь «В краю непуганых птиц» появилась по заданию журнала «Родник», куда Пришвин пришел с предложением написать повесть о мальчике, заблудившемся в северном лесу.
Творческая заявка сначала не прошла, но в путешествие его отправили; точнее, дали с собой «бумагу», с которой что же теперь делать? («Как характеризовать? Отметить памятники старины, торговлю, промышленность?»)
Круче поступим, креативнее.
Попав в Выгорецию, несуществующее государство старообрядцев и поморов, находящееся на территории Выговского края, тоже, ведь, не существующего как географическое понятие (есть Поморье, есть Выг-озеро, есть Петрозаводск и Повенец — «всему миру конец» и Онежское озеро, Соловецкий монастырь, короче, Карелия) молодой агроном Михаил Пришвин стал всячески проникаться местными обрядами да языковыми особенностями.
И так проникся, что на основе своих записей сотворил ритмико-символическую, символистскую прозу, основанную на причетах да заплачках, местном фольклоре и мифопоэтических представлениях (в духе «понюхал старик Ромуальдыч свою портянку да аж заколдобился»), впрочем, сделанную столь ловко и органично, что, кажется, таким и должен быть текст, написанный изнутри архаического или же раскольнического сознания.
Конечно, с одной стороны, это стилизация, выглядящая крайне эффектно, кинематографично (можно в духе недавних «Овсянок», можно в духе модернистского Феллини или Кустурицы, но только на местный, поморский лад), с другой — проступают сквозь суровые северные очертания плавные, вычурные линии модерна, что, как ни крути, самоигральная примета времени.
«В краю непуганых птиц» странным образом одномоментно совмещают в себе все три этапа «романтического движения».
С одной стороны, это вполне себе «буря и натиск» с побегом энтузиаста в экзотические обстоятельства, с другой — вполне конкретно проявленный интерес к корням, к «крови и почве», исполненный в духе Билибина и Васнецова.
С третьей, синтезом, это очень даже буржуазная, уверенная в себе, эстетически изощренная мебель для удобной и комфортной жизни в ней и, соответственно, восприятия; воплощенный пораженческий уют современного человека, рассекающего по Онежскому озеру с мыслями о Венеции и быстром возвращении в Санкт-Петербург:
«Как радостно было увидеть на Ладожском озере, после непрерывного дня, первые звезды на небе и ночь. А потом — это ошеломляющее движение и шум Невского проспекта! В голове еще свежи разговоры со скрытником Мухой, свежи впечатления от этой бесконечно простой и суровой жизни среди леса, воды и камня — и тут это движение…»
Пришвин, если уж на то пошло, помог понять мне специфику модерна, с его одновременной закольцованностью разных, обычно противоположно заправленных стадий романтизма (еще и с примесью натурализма и импрессионизма). Впрочем, об этом разговор должен случиться отдельный.
Куда интереснее констатировать, что дух веет где хочет и декаданс способен проявить себя в самых неожиданных местах и явлениях, типа этнографического очерка, написанного петербуржцем, недавно вернувшимся из Венеции — сам-то Пришвин, никак себя не выдавая, передает архаику сознания точно первооснову и данность, не критикуя и даже подвергая сомнению: нечистый так нечистый…
Он лишь чередует главы, посвященные разным сторонам северной жизни: главка про ловцов (рыболовов и бурлаков), главка про полесников (охотников), с главами, посвященными отдельным героям — вопленице Степаниде Максимовне, колдуну Микулаичу Ферезину, певцу былин Ивану Рябинину да сказочнику Мануйле.
То, что Дмитрий Мамин-Сибиряк видит из окна уральского экспресса, а Глеб Успенский — из пафоса своего очеркистского пафоса, Пришвин «дает на крупном плане», затесавшись внутрь страны, отрыгивающей недопереваренными остатками язычества и раскола.
Несмотря на неверие, точнее, фундаментальное недоверие современного человека, Пришвин «снимает» не только формальный (внешний) слой северного уклада, но пишет как дышит, проникается духом места, меняющем (хотя и на время) его собственный химсостав.
Хотя, нет-нет, конечно же, все сложнее: Пришвин вживается, с одной стороны, в роль путешественника и этнографа («В краю непуганых птиц» — его первая книга), а с другой, он, разумеется, актерствует — в первую очередь для себя, примеривая образ исследователя, проникшегося «местным материалом».
«Хорошо быть таким путешественником, чтобы скользить по жизни и уносить с собою, не задумываясь, такие прекрасные, радостные настроения. Но я себе выбрал неудачную в этих целях систему наблюдения края посредством внимательного разглядывания одного маленького, но характерного его уголка. На месте не нужно задерживаться, а ехать и ехать; тогда непременно получится веселая и пестрая картина.
Задержавшись на одном месте, приживаешься, свыкаешься и понемногу уходишь в глубину человеческих, мелких, скрещенных интересов. Не успеешь оглянуться — исчезла иллюзия, исчезла страна непуганых птиц: живут себе люди как люди…»
Два месяца, конечно, не срок. Про кержаков («сгущенная форма» православия) он, настороженно сторонний, пишет особенно подробно, так как действительно экзотика и эксклюзив, наполняющий содержанием точеные, точнее, словно выточенные, лобзиком выпиленные прозаические формы: так сам стиль, через свою узорчастость, вплетается в выполнение главной задачи — передать гений незнакомого, обычно-необычного, места.
Красота — в глазах смотрящего; все зависит от индивидуальных особенностей проникновения; кому и целого мира мало, а кто в любой мартовской лужице способен солнце увидеть. Напитанный очарованием инобытия, иных скоростей восприятия (или же отсутствия оных), Михаил Михайлович передает эту медитацию читателю — вроде ведь идет бессюжетная вязь, но как она бредет, архитектурно просчитанная, каким ровным, без узелков, ковром стелется!
Самыми, однако, кинематографическими «кадрами» Пришвин раскидываться не стал, оставив их себе для книги «Осударева дорога», над которой, так и не оконченной, он работал до самой смерти.
В ней и рассказывается история о том, как во время войны со шведами для того, чтобы напасть на неприятеля врасплох, Петр Первый перетащил свои корабли через Выгорецию посуху.
«За волшебным колобком» М. Пришвина
«Это одиночество в пути так приятно волнует. Завтра встретятся интересные новые люди, завтра захватит новая, незнакомая жизнь, но сегодня вот этот пыльный (гостиничный) нумерок… и ни одного знакомого во всем городе, кроме капитана…»
В первой части очерковой книги «про» культурное и какое угодно одиночество, Пришвин путешествует по нынешней Карелии (Соловки, Кандалакша, Лапландия), во второй — сев на корабль, выходит сначала на десятидневный лов трески, затем пересаживается на пароход для путешествия в Норвегию, которая, если бы не фьорды, была неотличима от Германии.
И если северная природа и северный быт (нравы, верования, скупая и строгая романтика) были тщательно описаны (и таким образом как бы проанализированы) в предыдущей книге, то такого подробного описания морского (океанического) путешествия в русской документальной литературе я не встречал со времен «Фрегата «Паллада». Важно также, что в отличие от книги «В краю непуганых птиц», вторая пришвинская книга выстроена менее тщательно и менее предсказуемо.
Дебютная книга чередовала очерки сфер с укрупненными портретами «типичных представителей», нынешняя же делится на части и на главы и даже на подглавки, обозначенные, как в дневнике, летними датами. Статус пишущего неуловимо связан со смыслом; любые трудности, естественно возникающие в чужом краю, должны быть мотивированны и оправданны, иначе…
«Зачем я пришел к ним, кто я такой? Я не богомолец, туристы сюда не ездят, ученые тоже. Кто я такой? Зачем я сюда забрался? Мне кажется, я кого-то обманываю, хочу отвечать неподготовленный урок…»
Человек в поисках исчезающего, истончающегося смысла — это уже какая-то иная, исторически, что ли, более поздняя, мотивация; экзистенциальная, из-за чего и нынешняя дорога воспринимается не так бодро, как раньше: вот уж точно — идентичность так просто в руки не дается. Важное схватывается и проговаривается как бы между прочим.
Про Соловки: «…наши русские леса, куда бежали и скрывались исстари пустынники, заменяют нам феодальные развалины и памятники европейской культуры, но я не могу этим удовлетвориться… Какой-то хаос… Но мне хочется быть искренним…»
Про русско-норвежскую границу: «Нигде, вероятно, и нет такого резкого перехода от случайного в жизни к чему-то общему, гармонично связанному…»
Неповторимость стиля Пришвина возникает из-за соединения буквальности, лишенной какой бы то ни было метафорики (что вижу — то пою), с глубинным (голубиным) символизмом этих самых простых и естественных явлений.
Тычинки-пестики, «кладовая солнца», лесная газета, что-де с нее возьмешь, какой спрос? Но, с другой стороны, что может быть сильнее, мощнее и притягательнее природных явлений, спеленутых архетипическими вересковыми прутьями…
Вначале в тексте «За волшебным колобком» Пришвин нарочито играет совмещением и наложением двух этих стилистических пластов (или планов) — простоты и сказочной заповедности, путая сказовые прихваты с модернистской пластичностью. Обыгрывая идею с волшебным проводником (и, таким образом, предвосхищая Мемозова из аксеновского «Круглые сутки нон-стоп»), он путает следы, углубляясь то ли в фантазийный, то ли в реальный мир; рассказывает о Соловецком монастыре в жанре повести-сказки, впрочем, по мере продвижения к Лапландии становясь все более и более серьезным.
«Какой бы ни был спутник, все-таки он говорит, улыбается, кряхтит. Но вот он ушел, и вместо него начинает говорить и это пустынное, безлюдное место. Ни одного звука, ни одной птицы, ни малейшего шелеста, даже шаги не слышны на мягком мху. И все-таки что-то говорит… Пустыня говорит…»
Хорошо и больно. Хорошо потому, что в этой тишине ожидаешь такую светлую, чистую правду. И больно потому, что внезапно из далекого прошлого выбегают серенькие мысли, как маленькие хвостатые зверьки.
Эта северная природа потому и волнует, потому так и тоскует, что в ней глубокая старость, почти смерть вплотную стоит к зеленой юности, перешептывается с ней. И одно не бежит от другого…»
Одиночество перерождает структуру описания, влияет на нее. Вот ведь что: отныне, не находясь в диалоге, не прислушиваясь к коммуникативным зеркалам, Пришвин углубляется в собственные психоаналитические подтексты, постоянно поминая детство, побег из дому, дикую природу вокруг.
Пришвинские очерки категорически лишены социального и, тем более, политического, из-за чего они автоматически начинают перемещаться в сторону символистов, декадентов и неприкрытого эстетства, нависающего над простыми людьми (поморами, норвегами), их просторами и домами, фьордами, островами и протоками.
Собственно, за тем и звали — «кажется, я в дверях панорамы: за спиной улица, но вот сейчас я возьму билет, подойду к стеклу и увижу совсем другой, не похожий на наш, мир…».
«Я заражаюсь настроением лопарей. Под этим деревянным колпачком, с единственным отверстием вверху для дыма, культурный прогрессивный мир мне вдруг начинает казаться бесконечно прекрасным, просторным и величественным, как небесный свод…»
Доверие или причастность возникают из мелочей, а не из местоимения «мы», которым комично грешат, скажем, Мамин-Сибиряк, Муратов или Кочетов — если уж ты употребляешь множественное лицо, будь добр, объясни с кем ездишь, или же не пережимай с условностями — их и без тебя, само собой, окажется множество.
Это какой-то иной способ организации, структурно напоминающий ноктюрны Дебюсси — лишенное внешнего ритмического (сюжетного) хребта плавающее смысловое облако, переливающееся, в зависимости от подцветки, самыми разными цветами: десятки и сотни страниц, созданных (накопленных) в медитации и для медитации.
Смысл ее — в нахождении промежуточного состояния; когда вся эта рыхлая текстуальная масса выгораживает пространство утраченной (или же никогда не бывшей) гармонии, о которой можно прочесть только в книжках.
«Бродят дикие капельки крови и у культурных людей, и у запертых в тюрьму бродяг, и у детей.
Страна без имени, без территории! Вот куда мы хотели тогда убежать — маленькие дикари. И по незнанию мы называли ее то Азией, то Африкой, то Америкой. Но в ней не было границ; она начиналась от того леса, который виднелся из окна классной комнаты. И мы туда убежали. После долгих скитаний нас поймали, как маленьких лесных бродяг, и заперли. Наказывали, убеждали, смеялись, употребляли все силы доказать, что нет такой страны. Но вот теперь у каменных стен со старинным соснами, возле этой дикой Лапландии я со всей горечью души чувствую, как неправы были эти взрослые люди.
Страна, которую ищут дети, есть, но только она без имени, без территории…»
…Это ли не сказка прощания с детством, родиной и самим собой, которого ты так хорошо знаешь… точнее, знал?!
«Московский дневник» В. Беньямина
В ожидании зимы который раз перечитывал сборник записей, которые Беньямин вел на рубеже 1926–1927 годов, во время своей единственной поездки в СССР.
Влюбленный в Асю Лацис, он так и не добивается от нее согласия. Ибо рядом с ней — журналист Райх, позже ставший ее мужем; Ася болеет, лечится в санатории, Беньямин ее навещает, вместе они бродят по заснеженной Москве, смотрят кино и магазины. Подвешенная ситуация так и не разрешается.
Ситуация длится и не может никак измениться — и этим, кстати, весьма похожа на место действия, хаос которого давит действующим лицам этой истории на нервы.
Нервный, постоянно напряженный, хотя и лишенный взвинченности, состоящий из недоговоренностей, фон оказывается благоприятной средой для беглых культурологических заметок, лишенных прямых оценок (исключение Беньямин делает только для произведений искусства: фильма Кулешова, спектаклей Мейерхольда и Еврейского камерного, деятельности Ларионова и Гончаровой, которых он называет «бездарными» точно так же, как и актера Ильинского, фиксирует разочарование от Таирова и Коонен)… Это удваивает ощущение неопределенности, кафкианской по духу.
Оптика «Процесса» и «Замка» обеспечивается невозможностью окончательного проникновения чужака внутрь системы.
Дополнительную Кафку текст выдает и на топографическом уровне: Беньямин кружит по центру (в районе Тверского бульвара и Триумфальной площади), не сильно с тех пор изменившемуся (разве что минус метро).
Все эти пласты, одновременным действием, точно снегом заносят улицы и бульвары, узкие перенаселенные тротуары (они «придают Москве нечто от провинциального города, или, вернее, импровизированной метрополии, на которую ее роль свалилась совершенно внезапно…») и полупустые комнаты.
Когда даже поездка на общественном транспорте может превратиться в приключение: «Азарт, которым сопровождается здесь поездка в трамвае. Через заиндевевшие окна никогда не разобрать, где находишься. А когда узнаешь, то путь к выходу преграждает масса втиснувшихся в трамвай людей. Поскольку вход в вагон сзади, а выход — спереди, приходится пробираться сквозь толпу, и получится ли это, зависит от удачи и от бесцеремонного использования физической силы. В то же время есть кое-какой вид комфорта, неизвестный в Западной Европе. Государственные продовольственные магазины открыты до одиннадцати часов вечера…».
Беньямин беден; поездка в Москву для него возможность (впрочем, неосуществленная) найти работу; поэтому он крайне ограничен в средствах, в выборе подарков и еды (зайдя в «Прагу», он покупает Асе шашлык, а себе пиво). Единственное, в чем Беньямин не может себе отказать — в покупке «народных» игрушек. Да, он темпераментный коллекционер; страсть, сублимирующая невозможность решения всех тяготеющих над Беньямином проблем, заставляет его скупать ванек-встанек и подолгу зависать возле витрин.
К психоаналитику не ходи: игрушки (субститут всепроникающей хтони, личной, общественной и бытовой) переводят неразрешимость и вагончики многочисленных невозможностей на иной уровень лабиринта.
А есть ведь еще умозрительный, мерцающий лабиринт, проступающий сквозь очертания текста — долго ли, коротко ли, но Беньямин продолжает в Москве работать над переводом эпопеи Марселя Пруста (если быть точнее, «Под сенью девушек в цвету»).
Апофеоза и квинтэссенции модернизма.
«Толпы людей, через которые я должен был проталкиваться с елкой и покупками, утомили меня. В номере я лег на постель, стал читать Пруста и есть засахаренные орехи, которые мы купили потому, что их очень любит Ася…»
Другим важным лейтмотивом книги оказываются случайные встречи Беньямина с московскими знакомыми.
Он их встречает постоянно, сталкивается на улице и в магазинах чаще привычного (особенно странными эти встречи выглядят, когда он назначает встречу, опаздывает и не застает, а потом случайно сталкивается в подъезде, театре или где-то еще) — если бы Беньямин писал роман, то такая частотность, выше среднестатистической, подорвала бы к нему доверие.
Но «Московский дневник» документален; начинаешь не переделывать текст под себя, но приспосабливать понимание к тексту — все эти случайности должны о чем-то говорить…
Об избирательности внимания и силе авторского воображения? О том, что Беньямин, мало кого в Москве знавший, постоянно ходил одними и теми же тропами (как своими, так и интеллигентскими) — основными маршрутами исторического (культурного и какого угодно) центра?
…Для меня записки Беньямина являются образцом жанра дневника наблюдений, уровень которого мне хотелось бы, в конечном счете, достичь. Смешивая личный дискурс и внешний (историю личных отношений и наблюдения за «камнями», принадлежащими всем, удачно накладывая интеллектуальное напряжение на сложность отношений с Асей и Райхом), минимальными средствами Беньямин создает особый топологический язык, выстраивающий на изнанке читательского затылка.
Путевые заметки оказываются для меня сегодня едва ли не главным жанром. Микс фикшн и нон-фикшн позволяет смешивать точность описаний с неизбежной субъективностью отбора, позволяющих осуществить главную твою возможность — через неповторимость перемещений и встреч, «камней» и «лиц» реализовать стратегию свидетеля.
Единственную стратегию из тебе доступных.
«Путешествие в Армению» О. Мандельштама
В центр армянских очерков Осип Мандельштам неожиданно вставляет главку про французских импрессионистов, формально никак не связанную с основной темой травелога («не бойся своего времени, не лукавь!»), аранжированного естественно-научными догадками.
«Путешествие в Армению» вообще построено с заступом, точнее отступом: после первой главы («Севан») с парадным портретом озера, закипающего в пятом часу от толкотни форели, Мандельштам берет тайм-аут («Ашот Ованесьян») и возвращается в Москву, где на Берсеневской набережной помещается Институт народов Востока.
Следующая глава называется «Замоскворечье», и в ней Мандельштам находит под лестницей «книжку Синьяка в защиту импрессионизма». Сама эта глава выглядит конспектом разных теорий («эмбрионального поля»: «ведь процесс припоминанья, увенчанный победой усилия памяти, удивительно схож с феноменом роста…»), частично приписанных Борису Кузину, спутнику в армянском путешествии.
Здесь-то, абзацем, и мелькает полуслучайная, на первый взгляд, фраза с именами двух французов (здесь — «Монэ» и «Манэ»: «Задача разрешается на не бумаге, и не в камере-обскуре причинности, а в живой импрессионистической среде, в храме воздуха, света и славы Эдуарда Манэ и Клода Монэ…»), развернутая парой страниц ниже в одно из лучших эссе о том, как следует смотреть и понимать живопись.
Сразу за главой «Французы», открывающейся мгновенными, но ослепительно точными характеристиками искусства Сезанна («лучший желудь французских лесов»), Матисса как художника для богатых («Красная краска его холстов шипит содой. Ему незнакома радость наливающихся плодов. Его могущественная кисть не исцеляет зрение, но бычью силу ему придает, так что глаза наливаются кровью…»), Ван-Гога («…дешевые овощные краски Ван-Гога куплены по несчастному случаю за двадцать су. Ван-Гог харкает кровью как самоубийца из меблированных комнат…»), идет эссе «Вокруг натуралистов», отдаляющих Армению от читателя как бы еще на один вагон дальше.
Про Ван Гога здесь больше всего, но упомянуты также Озенфан, ранний Пикассо и Писарро, «малиновые бульвары которого, текущие как колеса огромной лотереи с коробочками кэбов, вскинувших удочки бичей, и лоскутьями разбрызганного мозга на киосках и каштанах», из-за чего Музей новейшего западного искусства, сооруженный в Москве из коллекций Щукина и Морозова, встает в свой полный виртуальный рост.
«Посетители передвигаются мелкими церковными шажками.
Каждая комната имеет свой климат. В комнате Клода Монэ воздух речной. Глядя на воду Ренуара, чувствуешь волдыри на ладони, как бы натертые греблей.
Синьяк придумал кукурузное солнце…»
Сложно прерывать цитирование этого прерывистого, телеграфно-точеного стиля, ассоциирующегося у нас больше с абзацами и длинными строками Виктора Шкловского — просто Шкловский сумел сохранить не только себя, но и свои тексты, узнаваемую манеру, превращенную в часть фирменного стиля, тогда как от Мандельштама мало чего осталось. В этом смысле (хотя не только в этом) Мандельштам — античный автор, поэт с судьбой, восприятие которой зависит от многочисленных лакун и утрат. Это вообще чудо и до конца недооцененное счастье, что тексты его сохранены и доступны.
Вернемся к живописи, поскольку предлагаемый Мандельштамом алгоритм восприятия картин (причем не только импрессионистов) как нельзя лучше характеризует тот способ, каким он описывает Армению, выбрав из всех органов чувств и ставя на первое место именно зрение, зрительные ощущения, которые он пытается вызвать (и вызывает) метафорическими и фонетическими рядами (и даже морфологически набухающими отдельными деталями).
1) «Ни в коем случае не входить, как в часовню. Не млеть, не стынуть, не приклеиваться к холстам…
Прогулочным шагом, как по бульвару — насквозь…
Спокойно, не горячась, — как татарчата купают в Алуште лошадей — погружайте глаз в новую для него материальную среду — и помните, что глаз благородное, но упрямое животное.
Стояние перед картиной, с которой еще не сравнялась телесная температура вашего зрения, для которой хрусталик еще не нашел единственно достойной аккомодации — все равно что серенада в шубе за двойными оконными рамами…»
2) «Когда это равновесие достигнуто — и только тогда — начинайте второй этап реставрации картины, ее отмывания, совлечения с нее ветхой шелухи, наружного и позднейшего варварского слоя, который соединяет ее, как всякую вещь, с солнечной и сгущенной действительностью.
Тончайшими кислотными реакциями — глаз — […] поднимает картину до себя, ибо живопись в гораздо больше степени явление внутренней секреции, нежели апперцепции…»
3) «…последний этап вхождения в картину — очная ставка в замыслом.
А путешественник-глаз вручает сознанию свои посольские грамоты. Тогда между зрителем и картиной устанавливается холодный договор, нечто вроде дипломатической тайны…»
Дипломатическая лексика («…я вышел на улицу из посольства живописи…») выказывает травеложный контекст и хотя Мандельштам описывает, как после импрессионистов меняется восприятие простой замоскворецкой улицы, конец которой, «будто смятый биноклем, сбился в прищуренный комок», понятно, что Армения оказывается для него похожей чредой перетекающих друг в дружку охристых полотен с нацарапанными на них знаками как вечного, так и преходящего.
Важно говорить с интонацией неоспоримой истины. Быстро менять ракурс, а то и дискурс. Ставить в недоумение опущенными звеньями. Перемешивая факты и метафоры, мысли и трепет подкожного мира.
Организовывать периоды из предложений точечной застройки, организующихся внутри абзаца уже на новом уровне и во что-то совсем уже новое.
Вслед за импрессионистическим торжеством зрения идет не Армения, но еще одна «теоретическая» глава «Вокруг натуралистов», похожая на рассказ, где все слова содержат букву «л», так как в ней Мандельштам убористо обсуждает Линнея и Ламарка.
Вообще, не-Армении в армянском путешествии больше, чем Севана, Аштарака, Алагеза, Эривани: умозрительные установки превращают путешественника в исследователя, отчего оказываются крайне нужны теоретические отступления, превращающие трип в пир зрения и осязания; в рассказ о зрении, слухе и их эволюции.
Вспомнив стихотворение «Ламарк» («Наступает глухота паучья, //Здесь провал сильнее наших сил…»), зафиксирую принципиальное различие между Мандельштамом и Блоком.
Второй пропускает одни и те же дорожные (эстетические) впечатления через разные жанры — упоминание в записной книжке, письмо, стихотворение, очерк, постепенно стесывая с них все лишнее, оставляя голые формулы.
Первому же проза нужна для того, чтобы построить свои стихам дом с крышей над головой: непонятно что служит комментарием к чему — стихи к очеркам или очерки к стихам.
Они живут взаимным дополнением и раздельно-слитным питанием для того, чтобы соединяться в читательской голове в нечто цельное. В интеллектуальное 3D.
Так, совершенно автономное и по каким-то иным причинам написанное эссе «Девятнадцатый век» объясняет структуру и строение всей мандельштамовской прозы.
«Мадам Бовари» написана по системе танок. Потому Флобер так медленно и мучительно ее писал, что через каждые пять слов он должен был начинать сначала.
Танка излюбленная форма молекулярного искусства. Она не миниатюра, и было бы грубой ошибкой вследствие ее краткости смешивать ее с миниатюрой. У нее нет масштаба, потому что в ней нет действия. Она никак не относится к миру, потому что сама есть мир и постоянное внутреннее вихревое движение внутри молекул.
Вишневая ветка и снежный конус излюбленной горы, покровительницы японских граверов, отразились в сияющем лаке каждой фразы полированного флоберовского романа. Здесь все покрыто лаком чистого созерцания и, как поверхность палисандрового дерева, стиль романа может отобразить любой предмет. Если подобные произведения не пугали современников, это следует отнести к их поразительной нечуткости и художественной невосприимчивости. Из всех критиков Флобера, быть может, наиболее проницательным был королевский прокурор, угадавший в романе какую-то опасность. Но, увы, он ее искал не там, где она скрывалась.
Девятнадцатый век в самых крайних своих проявлениях должен был прийти к форме танки, к поэзии небытия и буддизму в искусстве. В сущности, Япония и Китай совсем не Восток, а крайний Запад: они западнее Лондона и Парижа. Минувший век углублялся именно в направлении Запада, а не Востока, и встретился с крайним востоком-западом в своем стремлении к пределу…»
Кажется, именно Мандельштам, а не Блок выступает «концом прекрасной эпохи», заканчивая своим пределом XIX век и заступая в котлован ХХ-го. Где сам и сгинет.
Блок весь — поцелуй на морозе, целиком еще там, что особенно заметно сейчас, сто лет спустя, тогда как демонстративно состаренное зрение Мандельштама (говорить об импрессионизме во время индустриализации с ее синтетическими, вымороченными формами означает делать шаг назад):
- Если все живое лишь помарка
- За короткий вымороченный день,
- На подвижной лестнице Ламарка
- Я займу последнюю ступень…
«Океана завитком вопьюсь» из этого стихотворенья окликает фразу из первой главы «Путешествия в Армению»: «Ушная раковина истончается и получает новый завиток».
Закавказье описывается как жаркое, библейское почти, пространство, хотя если посмотреть на даты армянского поэтического цикла, видишь, что это глубокая осень (октябрь — ноябрь 1930 года), не особенно влияющая на гостеприимность инаковости.
Вчерашние и позавчерашние системы мировосприятия импрессионистов и натуралистов (натурализма?), помимо важности самохарактеристики мандельштамовских литературных установок и ориентиров, проговариваются о главном — смысле бегства с передовых рубежей «реконструктивного периода» куда-то вглубь герундия. Не зря последняя глава начинается с вопроса: «Ты в каком времени хочешь жить?».
У Андрея Платонова (в «Симфонии сознания», рецензии на книгу О. Шпенглера «Закат Европы») встречаем слова: «То, что будет есть время, то, что было есть пространство. Иначе: пространство есть прошлое, замерзшее время».
«По Стране Советов» А.М. Горького
Очерки, публиковавшиеся в журнале «Наши достижения» (1929), состоят из пяти частей. Создавались они Горьким в режиме блиц-визита: мировая знаменитость жила тогда на Капри, а в СССР наведывалась время от времени, вероятно, для подпитки впечатлениями.
Первый очерк описывает турне по Закавказью (Баку — Тифлис — Ереван — Сталинград), второй и четвертый — колонии и детские дома, обреченные на счастливое будущее. Третий про Днепрострой, пятый — про Соловки, где исправление чужеродного элемента идет с такой фантастической скоростью, что писатель выражает надежду на то, что лет этак через пять (то есть в 1934 году) тюрьмы в Советской России исчезнут окончательно и бесповоротно. Ну, а перековка шпионов, несогласных да оступившихся будет производиться на поселениях.
То есть в лагерях.
Провидец.
Основной прием, используемый основателем соцреализма для пущей очевидности и пропаганды советского образа жизни — сравнение того, что было, и как стало: так, вся книга начинается с воспоминания Горького о первом посещении Баку и его промыслов еще в XIX веке.
Инфернальные картины шума и лязга машин, вид перемазанных нефтью людей («нефть обладает наркотическими свойствами») обещают интересное продолжение, несмотря на очевидность гипербол — А. Писемский, посетивший бакинские промыслы задолго до Пешкова, никакого особенного ада не увидел.
Добычу нефти, чавкающей под ногами, видел, а ад так не очень.
Хотя стиль Алексея Максимовича особенно ярким не назовешь — экспрессия достигается захлебывающимся, задыхающимся синтаксисом, в который вплавлены отдельные занозистые метафоры («…и шли навстречу нам облитые нефтью рабочие, блестя на солнце, точно муравьи…»), оттеняющие короткие мысли неглубокого содержания), движуха, тем не менее, не мытьем, так катаньем все ж таки передается — открывая том, точно переносишься в грязную и душную комнату, из которой хочется поскорее выйти (значит, цель писателя показать, как было плохо при царизме, достигнута).
Однако при переходе к описанию актуальной действительности эрекция письма мгновенно сдувается, пропадает, а из-под пера основополагателя как из мясорубки начинает лезть штампованная публицистика газеты «Правда», к примеру, с такой вот прямой речью:
«На нефть как на топливо привыкли смотреть капиталисты, которым нет дела до будущего страны, до интересов народа. Им нужно только одно: выжать из действительных сокровищ земли как можно больше золота — металла, пригодного лишь как для меновой и для пустяков, для украшений. Жечь нефть как топливо — это, в сущности, преступление против трудового народа, грабеж…»
При переходе от отрицательного прошлого к светлому настоящему срабатывает театральная закономерность: «плохое» выходит всегда ярче «хорошего», так как оно, ничем не ограниченное, разнообразнее и живее. Тем более что если «тяготы царизма» Горький живописует, то про борьбу хорошего с преотличным рассказывает в перечислительном ритме, набитом дурацкими канцеляризмами, умилительными интонациями и публицистическими клише (начав было их выписывать, через пару страниц уже понял, что это невозможно и следует рукопись полностью «завернуть» и отправить автору на доработку).
Смесь «смелых» метафор, канцелярщины, слезливости и стихийно возникающего «Маяковского» выглядит пародийной или как минимум ироничной. Смесью Зощенко и Платонова, хотя не думаю, что «буревестник революции» имел в виду хотя бы каплю подтекста.
Другое дело, что то, что нам кажется изначально мертворожденной ходульностью, обросло десятилетней заштампованностью подшивок бесконечной партийной прессы (другой в СССР не существовало), окропляя мертвой водой все, что было рядом, проникая во все сферы как общей, так и личной жизни, намертво въедаясь в извилины и менталитет, тогда только-только начиналось — и Горький был одним из первых устроителей этой казенщины. После революции прошло всего двенадцать лет, но горьковские очерки выглядят плодами незыблемой, окончательно сформированной традиции, точно отменяющей все, что до нее было.
Помимо официальных (объективных) причин (общие слова для общей, одной на всех, страны), вся эта нежить связана еще и с вторичной, даже третичной, обработкой материала вечно занятым, задерганным человеком; не думаю, что протокол дает возможность мгновенной фиксации, из-за чего любые наблюдения, облекаемые в формулировки, обволакиваются слюной неразличения, становятся обтекаемыми.
Как он признавался, «я никогда не записываю того, что слышу и вижу, надеясь на мою зрительную память и вообще на умение помнить», и, по всей видимости, в застенках Капри память обострялась.
Приблизительность — это ведь есть псевдоним недодуманности, замечания, сделанного на бегу, когда новые впечатления подпирают, вытесняя, старые и некогда не то что додумать, но хотя бы пережить и выносить то или иное наблюдение. Это почти автоматическое письмо, характеризующее крайнюю степень загруженности или подавленности (задавленности), учебник правильных (читай, ничего не отражающих) формулировок, равнодушного скольжения по поверхности.
И, разумеется, это невротическая реакция отгораживания от окружающей тебя истеричности, сочащейся ненужными тебе подробностями; вот Горький и проговаривается — как по мелочам («…издали поселок Разина похож на военный лагерь…»), так и в общем композиционном решении — ведь если задуматься, что это за страна-то такая, состоящая из кавказских республик, колоний для беспризорников, военизированных строек и поселений на территории бывшего монастыря?
Но именно таковы «наши достижения» по переустройству «целого мира», которые наблюдает не человек, но текстопорождающая машинка, образ с газетной фотографии, который постоянно проговаривается не только про страну, но и про себя великого.
Так, если читать внимательно и не спеша (читать медленнее, чем текст был написан), то невозможно не заметить, как на поверхность его, поверх «жира земли», выползает странное слово «скука», которым характеризуются самые разные, порой противоположно заряженные процессы. От скуки в провинциальных городах заводятся сектанты, развлекающие себя радениями; от скуки бунтуют подростки в монастырском приюте (бунт этот много обсуждали не называемые по имени «враги республики», хотя, всего-то «1300 смелых ребят, собранных в тихом Звенигороде и не занятых трудом, решили объявить войну скуке мещанского городка…»).
Наконец, чувство это парализует жизнь Курска, небольшого мещанского городка, «особенно тихого и скучного…», по всей видимости, противопоставленного энтузиазму горения строек, сборищ и народных гуляний, где толпы лишены индивидуальности.
«Отдельных танцоров трудно различить, видишь, как пред тобой колеблется ряд красивых лиц, видишь их улыбки, блеск глаз, кажется, что вот их стало больше, а в следующую минуту — меньше; индивидуальные черты каждого отдельного лица почти неуловимы, и все время с вами говорит, улыбается вам как будто одно лицо, — лицо фантастического существа, внутренняя жизнь которого невыразимо богата…»
Ключевое слово здесь — «невыразима», ибо нефть, действительно, имеет возможности наркотического расширения, порождая, скажем, вот такие пассажи, записанные по следам путешествия в Армению:
«Одежды в этом «танце» излишни и, должно быть, стесняют одежду танцоров, которых можно назвать бесстыдниками, хотя, конечно, в природе есть существа еще более бесстыдные, например: мухи, петухи и куры, козлы, собачки»
Мне уже приходилось обращать внимание, что описание произведений искусства (или же размышления о их природе), время от времени возникающее в путевых заметках (особенно если без всякой логики и смысла), при определенном угле зрения можно воспринимать как автокомментарий к самому тексту.
В том, как Мамин-Сибиряк описывает скульптурную фигуру уральского рабочего или в том, как Глеб Успенский объясняет манеру «правдивейшего живописца» главное — метаконстатация собственной творческой манеры и описательной стратегии, положенной в основу этого конкретного текста.
Разумеется, для Горького таким пунктумом явилось изображение вождя пролетариата: «Очень красиво построена мощная силовая станция ЗАГЭС с ее монументом В.И. Ленину на скале среди Куры. Впервые человек в пиджаке, отлитый из бронзы, действительно монументален и заставляет забыть о классической традиции скульптуры. Художник очень удачно, на мой взгляд, воспроизвел знакомый властный жест руки Ильича, — жест, которым он, Ленин, указывает на бешеную силу течения Куры…»
«Путешествие с двумя детьми» Э. Гибера
Книга, заявленная как марокканский травелог, делится на две равные части; причем первая приходится на подготовку путешествия и виртуальное его переживание-проживание.
Она, кстати, написана более общо, без важных описательных заусенец и крючочков, удающихся Гиберу лучше всего, когда одна проходная фраза (или у Гибера все важно?) откидывает тебя на пару минут в сторону (как в прошлое или как в горячий песок), хотя точно так же разделена верстовыми столбиками дней на отдельные главы дневника.
Приятель Б., которого Гибер не называет, точно так же, как Лоллобриджиду или Фуко, но который оказывается известным фотографом Бернаром Фоконом, помимо прочего ценным для истории искусства использованием манекенов, разыгрывающих в его работах многофигурные сценки (так вот, оказывается, откуда у Эрве Гибера кукольный лейтмотив! Вот так готов все про себя, между делом, в жанра самодоноса выболтать), позвал в путешествие вместе с двумя детьми. То есть путешествуют двое на двое, мальчик и еще один мальчик vs двое взрослых дядь.
Воображение у Гибера разыгрывается настолько, что, решив упорядочить видения (в основном, плотско-страдательные, превращающие его внутреннее пространство в какую-то перманентно совершаемую мистерию со страстями по святому Себастьяну, в роли которого, разумеется, выступает сам Гибер), он начинает их записывать как чреду бредовых (или близких к этому состояний), весьма цепко переданных фантазмов, хотя и не таких качественно четких, как описание реальной работы органов чувств.
Именно разворот в сторону реальности автоматически (на автомате) меняет тональность письма.
«Я засыпаю, превознося удовольствия, которые вызывают во мне ресницы жирафа…»
Еще раз вернемся в исходную точку текста: самое важное здесь не педофелийка, о которой чуть ниже, но умозрение, опережающее постоянно приближающееся событие, которое, наконец, состоялось — и было не столь ярким, как представлялось раньше.
Хотя Гибер не делает из этой разницы между тем, что мнилось и тем, что вышло в реальности, никаких выводов или, тем паче, морали — он вообще весь какой-то безнадежно безоценочный (еще бы он расставлял акценты внутри книги про путешествие с неполовозрелыми проститутами!), он просто отстраненно рассказывает, что видит. Точно описывает ряд фотографий или слайдов. Точно все это не с ним.
Важно, что Гибер лишает имени не только своего взрослого приятеля (в повествовании он так и обозначается — взрослый, тогда как мальчики величаются детьми), но и действительно анонимных ребятишек, личности которых менее важны, чем их тела, точнее, анатомические подробности их тел, вызывающе привлекательных, плещущихся в бассейне или играющих в подростковые игры.
Детей двое. Так как взрослый Б. был инициатором поездки и оплачивал поездку детей в Африку, он и взял себе мальчика, которого Гибер называет то красивым, то привлекательным.
Или милым.
Или очаровательным.
Второй малец попал в поездку нагрузкой к очаровашке, навязавшему спонсору своего некрасивого друга.
Отказался ехать без него (поскольку друг милый из тинейджерского профсоюза куда во всех смыслах ближе любого даже самого богатого и любвеобильного дядьки)… поэтому, собственно, и возник в этой странной компании двадцатишестилетний Гибер, грезящий наяву и с открытыми глазами рядом с человечком, обозначенным как злой и уродливый (ближе к финалу он превращается в невинного).
Дети и поездка описываются как данность (да и кто он такой, чтобы раздавать оценки действиям, своим или чужим), как некий, стихийно сложившийся контекст, тогда как подтекст убран с поверхности дневника и как бы даже и не подозревается. Двое взрослых и двое детей, со стороны похожие на семью, на братьев или на гомосексуальную семью вместе со своими единоутробными воспитанниками, вместе ездят по стране, развлекаясь заурядными туристическими аттракционами, переезжают из отеля в отель (нарочитая или же нет отсылка к «Лолите»?)…
…тем более что ни похоти, ни одержимости в этих связях и связках нет, она практически отсутствует, подмененная меланхолией и общей североафриканской негой, расслабленностью (кто не был, тот будет, кто был — не забудет), мол, если хочешь, будешь любовником, а не хочешь — будешь братом мне названым.
Раскольниковская дрожь (осуществится намерение или нет) отсутствует напрочь, подмененная сытой самоуверенностью (если нет, то и не очень-то и хотелось; что воля, что неволя — все равно).
И даже если куст встает, особенно рябина, то тоже неважно; да и откуда, простите мне полуцитату, в Африке может взяться рябина?!
Этот зазор между непроговариваемой «правдой жизни» (купили богатые дядьки двух непотасканных потаскух) и необязательностью выдернутых из реальности деталей (коль все описать и передать в дневнике невозможно) составляет главное драматургическое свойство текста, во всем прочем лишенного разворачивания и развития. Как это обычно у Гибера принято, вся его проза автобиографична и именно поэтому (или в том числе поэтому) лишена как начала, так и финала. Просто куски жизни (и из жизни), отвалившиеся подобно чешуйкам кожи. Просто описания, лишенные какой бы то ни было морали (итоговой или нравоописательной).
Уже немного зная манеру Гибера, понимаешь, что выдумывать он не такой уж и особенный мастер; скорее всего, им описывается только то, что было. Хотя после затянувшегося вступления я никак не мог отделаться от ощущения, что и вторая, собственно африканская, часть достроена им все из того же вещества, что и наши сны.
Так, кстати, даже проще справиться с очередным выпуском в книжной серии «Сосуд беззаконий», призывающей к имморальности восприятия окружающей действительности. Но нет, тест на текст показывает, что я недостаточно продвинут («ночью запрещено купаться, можно заполучить лунный удар, который болезненнее, чем солнечный…») и педофилия может быть мне интересной только как метафора взаимоотношений с действительностью и фантазмами.
С их переходом друг в друга.
И тогда очень просто понять, отчего никто в этом тексте не имеет имен собственных (один раз упомянутые почти в финале Алексис и Венсан не считаются, так как Гибер делает это демонстративно, почти ритуально), а один из мальчиков уродлив и некрасив, тогда как другой такой милый и бесконечно привлекательный.
Тем более что «взрослые красивее детей», ведь зрелая красота кажется рассказчику более подлинной.
«Книга путешествий» Андрея Битова
Известно, что тексты Андрея Битова находятся в постоянной комбинаторике, сходясь в разных сборниках и образуя единичные комбинации, которые почти никогда не повторяются при переизданиях.
Одним из моих любимых битовских сборников является «Книга путешествий», изданная приложением к «Дружбе народов» и состоящая из двух частей. Первая — пять повестей или, точнее, распространенных очерков, связанных с «творческими командировками» и выстроенных в четкой хронологической последовательности. Вторая — «Кавказский дневник» (Армения и Грузия).
Я нарочно взялся за битовские травелоги сразу же после провинциальных поездок Стендаля, чтобы, помимо прочего, сравнить развитие внутри документального жанра центробежной тенденции — когда столичный житель едет вглубь страны для того, чтобы глубже укорениться в самом себе.
Не случайно «Книга путешествий» заканчивается стихотворением «Пейзаж», призывающим «пускайся в путь — и в нем себя настигни…».
«Мысль, если она мысль, проникает в голову мгновенно, словно всегда там была, словно для нее место пустовало. Ее не надо понимать. Сомнений она не вызывает…»
Другим внутренним сюжетом, державшим мое читательское внимание, было соотношение реальности и, собственно, литературы, показывающей (а порой даже объясняющей, как сырое сырье превращается в художественный текст, уже не равный ни жизни, ни автору).
Именно поэтому в качестве «точки опоры» я выбрал очерки «Птицы, или Новые сведения о человеке», посвященные биостанции на Куршской косе в Литве — в контексте других сборников писателя «точка зрения», наделенная мерцающей жанровой природой, оказывается то повестью, то философским диалогом (Л. Анненский), а то — составной частью романной трилогии «Оглашенные».
Мне же, повторюсь, было важно прочитать это произведение именно в травеложном контексте, когда соседние тексты («про Уфу» и «про Хиву») меняют дискурсивную погоду восприятия.
Сила контекста — тема особая, мне же важно бы сосредоточиться на том, как Битов конструирует «ощущение дороги», тем более что в его дневниковых записях композиционные приемы отталкиваются не от «реальной реальности», и даже не журналистских, а литературно-художественных задач.
Во-первых, совы не то, чем они кажутся: в очерке про Уфу Битов признается, что, застряв на трассе мотогонок, ради которых он приехал, города-то и не увидел и, собственно, про Уфу ему особо сказать нечего («Колесо. Записки новичка»). Точно так же в «Путешествии к другу детства», которого надо навестить в Новосибирске, большую часть текста занимает сиденье в аэропорту и ожидание отложенного рейса.
В самой первой повести цикла («Одна страна. Путешествие молодого человека») я тщетно пытался понять название местности, куда 23-летний студень горного института попал на шабашку. Понял лишь, что это Узбекистан, а вот где конкретно… То есть понятно: в сборнике собраны не буквальные описания перемещений, но заготовки для художественных произведений.
Совсем недавно Битов сказал мне, что любой день можно легко превратить в роман, вот только зачем?
Затем, что поездки и есть самоигральный повод для сюжетообразования, способный сдвинуть с мертвой точки незыблемость любого существования, так как снимается сковывающая восприятие оппозиция между «привычным» и чем-то «новым», и любое накопление впечатлений оказывается методологически корректным, душеполезным. Собственно, руководствуясь схожим принципом, я с год назад, перед важной для себя поездкой, курить бросил, так как прекрасно понимал, что никотин паразитирует на привычке и автоматичности восприятия. И пока ты находишься в привычной для себя среде повседневного расписания, бросить курить много сложнее, чем тогда, когда режим дня сломан.
Сломан — значит, открыт для какого-то нового содержания или же самопозиционирования.
Во-вторых, бльшая часть очерка уходит у Битова на ввод в тему, на описание обстоятельств, позвавших в дорогу, и дороги до места назначения, которое начинается у него далеко после середины текста, хорошо если в третьей четверти.
Такая диспропорция вскрывает прием: внутреннее гораздо важнее внешнего, доступного зрению любого. Каждого.
Даже самый сбалансированный в этом смысле текст («Азарт. Изнанка путешествия»), в котором достаточно подробно показаны достопримечательности Хивы и остроумно подмечены нравы местного начальства, держится, как на гвозде, описанием поединка с базарным наперсточником, постепенно (и крайне субъективно) вырастающем в фигуру едва ли не мефистофельского масштаба.
Так что оптика рассказчика искажается до предельно гротескного переощущения, совсем как в комнате смеха или же в аксеновских «Поисках жанра» (появившихся примерно в то же время), со схожим карикатурно-фантасмагоричным персонажем внутри. Важное сравнение, так как жанровые поиски оборачивались в СССР расширением области свободы, а очерки Битова (первый датирован 1960-м (автору 23 года), второй — 1963–1965, третий — 1969–1970, четвертый — 1971, 1975 и, наконец, пятый — 1971–1972), помимо личной биографии автора, оказываются еще и документом, прекрасно иллюстрирующим советскую эпистему времен стабильности и застоя.
«А ведь я командирован в Хиву не за тем, чтобы описать, что со мной здесь, в результате этой хирургии пространства, произойдет, а с тем, чтобы никогда не написать об этом. Что-то я никогда не читал, чтобы писали о том, что с ними произошло, — всегда о том, что происходило без них… Значит, сейчас я должен, искусственно и невозможно, построить свою жизнь так, чтобы стать свидетелем тому, в чем я не участник. Оригинально…