История культуры Санкт-Петербурга Волков Соломон
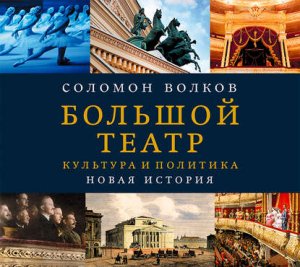
Петербуржцы толпами посещали мастерскую Фальконе. Привыкший к темпераментным реакциям парижан, скульптор не мог понять, почему русские, сосредоточенно осмотрев статую, уходят, не сказав ни слова. Вероятно, это молчаливое внимание – признак неодобрения?
Фальконе успокоился лишь после того, как старожилы-иностранцы объяснили: сдержанность – это отличительная черта столичной публики. В городе, лишь недавно отметившем свое 50-летие, уже сформировался специфический характер коренного жителя: «застегнутого на все пуговицы», несентиментального, склонного к иронии. (Эти черты петербуржской личности сохранились и по сей день.)
Мучительные поиски, победы и неудачи Фальконе продолжались. Скульптору долго не удавалась увенчанная лавровым венком голова всадника – портрет Петра. В конце концов голова была вылеплена юной Мари Колло, и, как рассказывают, всего за одну ночь. Портрет Петра работы, как утверждают, лучшей скульпторши эпохи вышел, по всеобщему признанию, необычайно похожим: лицо сравнительно небольшое, но широкое, с обвисшими щеками, чуть заостренным носом и резко очерченным волевым подбородком; вскинутые брови оттеняют фанатичность взгляда выпуклых бешеных глаз. Петр как бы вперился в пространство и в то же время гневно косится на зрителя (особенность, впоследствии отмеченная Пушкиным).
Каждая деталь монумента вызывала взрыв споров и мучительные сомнения и у скульптора, и у его заказчиков. Как одеть всадника? Каким должен быть конь? Особо обсуждалась идея Фальконе бросить под копыта коня змею, как аллегорию зла и зависти.
Екатерина, от которой зависело решение, была уклончива: «Аллегорическая змея мне ни нравится, ни не нравится…» Вопрос был решен только после льстивого письма Фальконе Екатерине: всякий великий человек – и Петр, и, конечно, сама императрица Екатерина – мужественно преодолевал зависть неблагодарных современников, – доказывал скульптор; без попранной зависти-змеи поэтому никак не обойтись. Екатерина, чувствительная ко всякому комплиментарному сравнению с Петром, согласилась: «Есть старинная песня, в которой говорится: если надо, так надо. Вот мой ответ касательно змеи».
Четыре года искали место для монумента. Но наиболее драматическими оказались поиски и последующая доставка в Петербург огромной гранитной глыбы для постамента. Над перевозкой обнаруженного в 12 милях от столицы, даже после предварительной обработки весившего более полутора тысяч тонн цельного камня, напряженно трудились тысячи людей. Все это неслыханное по сложности предприятие продолжалось более трех лет. Придворный поэт Василий Рубан воспел его в стихах, типичных для эпохи:
- Колосс Родосский, свой смири кичливый вид,
- И Нильских здания высоких Пирамид,
- Престаньте более считаться чудесами!
- Вы смертных бренными соделаны руками.
- Нерукотворная здесь Росская гора,
- Вняв гласу Божию из уст Екатерины,
- Прешла во град Петров чрез Невские пучины
- И пала под стопы Великого Петра!
7 августа 1782 года, к столетию со дня вступления на престол Петра Великого и через 16 лет после того, как Фальконе приступил к работе, наконец-то состоялось открытие монумента. Сам Фальконе этого дня не дождался: рассорившийся с Екатериной и вдобавок обвиненный в растрате, он уехал в Париж. Его последней идеей был текст лаконичной надписи, которую предполагалось выбить на подножии статуи: «Петру Первому воздвигла Екатерина Вторая».
Усмехнувшись, Екатерина отредактировала эту надпись так: «Петру Первому Екатерина Вторая». Сама писательница, Екатерина удалением всего одного слова достигла блистательного результата. В варианте Фальконе акцент был на слове «воздвигла», обращавшем внимание прежде всего на памятник. Екатерина сблизила цифровую последовательность «Первому» – «Вторая», подчеркнув (и легитимизировав) свою сомнительную преемственность по отношению к величайшему русскому монарху.
К Сенатской площади на берегу Невы стеклись толпы петербуржцев разных сословий – от аристократов до крестьян. Монумент был закрыт специальными полотняными ширмами, которые раскрылись, когда появилась Екатерина; раздалась пушечная пальба, и заиграла военная музыка. Гвардейские полки прошли мимо памятника с преклоненными знаменами.
По случаю торжества Екатерина объявила амнистию преступникам и должникам, сидевшим в тюрьмах. Во время специальной литургии у гробницы Петра в Петропавловском соборе митрополит, ударив по гробнице посохом, воскликнул: «Восстань же теперь, великий монарх, и воззри на любезное изобретение твое: оно не истлело в времени и слава его не помрачилася!» Этот призыв к Петру был произнесен с такой страстью и пафосом, что наследник престола, маленький Павел, испугался, что «дедушка встанет из гроба». А стоявший рядом вельможа тихо заметил своим соседям: «Чего он его зовет? Как встанет, всем нам достанется!» (Пример типично петербургской иронии.)
Хотя почти все понимали и признавали высокие достоинства монумента, вряд ли первым зрителям было ясно, что перед ними одно из величайших произведений скульптуры XVIII века. И уж конечно, обходя статую конного Петра и по мере движения открывая все новые и новые аспекты его изображения – мудрый и решительный законодатель, бесстрашный полководец, непреклонный, не терпящий препон монарх, – толпа не догадывалась, что перед ней главнейший, вечный, навсегда самый популярный символ их города.
Сенатская площадь оказалась для памятника чрезвычайно подходящим местом – и потому, что здесь были учрежденный Петром Сенат, а неподалеку Адмиралтейство, и потому, что монумент оказался в центре самой оживленной городской магистрали. Вокруг него всегда толпился народ. Сюда же в 1825 году явились восставшие гвардейские полки, пытавшиеся не допустить восшествия на престол императора Николая I.
Революционеров разогнали артиллерийской картечью. «В промежутках между выстрелами можно было слышать, как лилась кровь струями по мостовой, растопляя снег, потом сама, алея, замерзала», – вспоминал впоследствии один из них. К вечеру того же дня сотни трупов были убраны, а кровь засыпана чистым снегом. Но с облика Петербурга эта кровь не стерлась никогда.
А какая этому предшествовала гармоничная идиллия! К началу XIX века, в правление императора Александра I, о костях, на которых была возведена поражающая воображение «Северная Пальмира», уже успели забыть окончательно. Старались не вспоминать и о мрачной интерлюдии 1796–1801 – годах правления сумасбродного сына Екатерины II, тирана императора Павла I.
«Курносый злодей» Павел был убит зябкой мартовской ночью придворными заговорщиками, ворвавшимися в спальню императора в его новой резиденции в центре Петербурга – выкрашенном в любимый Павлом красноватый цвет Михайловском замке. Когда об этом сообщили знавшему о заговоре сыну императора, сентиментальному и мечтательному Александру, и тот разрыдался, то истерика его была безжалостно прервана одним из заговорщиков: «Довольно ребячиться – ступайте царствовать!»
Устрашающе величественное здание Михайловского замка с позолоченным шпилем до сих пор возвышается как зловещий символ цареубийства – не первого и не последнего в русской истории. В 1838 году порог замка, где к этому времени разместится Главное инженерное училище, переступит 16-летний Федор Достоевский. Инженера из него не вышло, но он стал одним из самых влиятельных строителей-провидцев петербургского мифа.
Ранние годы правления нового императора, голубоглазого и близорукого (метафорически и буквально), точно охарактеризованы опять-таки строкой стихотворения Пушкина: «Дней Александровых прекрасное начало» (эта ностальгическая строка вновь станет необычайно модной в Петербурге начала XX века). Война 1812 года с Наполеоном, прозванная в России Отечественной, сплотила в патриотическом порыве все общество – и крестьянство, и мещанство, и дворян – вокруг своего либерально настроенного монарха.
В 1814 году задумчивый Александр I на белом коне въехал в Париж, сопровождаемый победоносными русскими войсками (среди которых были и будущие декабристы). В ликующем Петербурге эта провиденциальная встреча России с Европой в самом ее сердце отозвалась блестящим архитектурным стилем: созданным при активном участии отечественных мастеров русским ампиром, изысканным апофеозом неоклассической моды. Был начат Исаакиевский собор, завершена Дворцовая площадь, Петербург в основных своих чертах превратился в тот великолепный, стройный и строгий город, который мы знаем.
Образованные русские первых десятилетий XIX века взирали на свою столицу с особой любовью и пиететом. В облике Петербурга вся их огромная страна, еще 100 лет назад варварски отсталая, представлялась им облагороженной, дисциплинированной, устремленной – под просвещенным водительством императора Александра – к общему идеалу.
Для этих поэтов, писателей, художников, меценатов Петербург был не просто символом политического торжества и военного могущества России. Он был также олицетворением расцвета ее культуры. Воля и разум победили здесь дикую природу, чтобы изысканные петербуржцы могли – наравне с обитателями других блестящих европейских столиц – наслаждаться роскошными плодами цивилизации.
Таким этот город был воспет – быть может, в последний раз столь безыскусно, искренне и патетически-благозвучно – впечатлительным и беспечным поэтом Константином Батюшковым, позднее возведенным в сан «Колумба русской художественной критики» за его очерк «Прогулка в Академию художеств» (1814): «Великолепные здания, позлащенные утренним солнцем, ярко отражались в чистом зеркале Невы, и мы оба единогласно воскликнули: «Какой город! Какая река!» «Единственный город! – повторил молодой человек. – Сколько предметов для кисти художника!.. Надобно расстаться с Петербургом, – продолжал он, – надобно расстаться на некоторое время, надобно видеть древние столицы: ветхий Париж, закопченный Лондон, чтобы почувствовать цену Петербурга. Смотрите – какое единство! как все части отвечают целому! какая красота зданий, какой вкус и в целом какое разнообразие, происходящее от смешения воды со зданиями…»
И, поставив таким образом «на место» Париж и Лондон, Батюшков заканчивает восторженной здравицей: «…сколько чудес мы видим перед собою, и чудес, созданных в столь короткое время, в столетие – в одно столетие! Хвала и честь великому основателю сего города! Хвала и честь его преемникам, которые довершили едва начатое им, среди войн, внутренних и внешних раздоров. Хвала и честь Александру, который более всех, в течение своего царствования, украсил столицу Севера!»
Подобный классицистский дифирамб для декабристов был бы невозможен, эти люди, по их собственным признаниям, уже «не верили в благие намерения правительства». Любимым афоризмом декабристов было для монархически мыслившей и, главное, чувствовавшей России прежде неслыханное: «Мир начинает узнавать, что не народы для царей, а цари для народов».
В 1825 году на оцепеневшую в ужасе Сенатскую площадь с оружием в руках вышли не верноподданные российского императора, а свободные – интеллектуально и морально – граждане России; не классицисты, а революционные романтики. Неоклассицистский «ампирный» фасад Петербурга дал первую грозную трещину.
Эта трещина была расширена и углублена пушкинским «Медным всадником», многими воспринятым как аллегория и реквием по неудавшемуся восстанию декабристов, грозившему захлестнуть Петербург, как за год до того, в 1824 году, это сделала стихия. В день восстания Пушкин был в длившейся больше пяти лет ссылке в селе Михайловском, в 400 километрах от Петербурга. Новый император, младший брат Александра – Николай, вскоре вызвал поэта к себе.
Оцененная современниками как экстраординарное событие, эта встреча царя и поэта в 1826 году немедленно обросла легендами. Передавали, что Николай I и Пушкин провели наедине два с половиной часа – аудиенция, подобной которой у императора не получил ни один министр! О чем же говорили 30-летний высокий, величавый красавец император, блондин с холодным гипнотизирующим взглядом серых глаз – и моложе его на три года, невысокого роста, резкий, порывистый в движениях, курчавый, с явно напоминавшим о его африканских корнях смуглым и живым лицом поэт?
Растроганный Пушкин выбежал из кабинета Николая со слезами на глазах: «Как я хотел бы его ненавидеть! Но что мне делать? За что мне ненавидеть его?» В свою очередь, Николай объявил изумленным придворным, что беседовал с «умнейшим человеком в России».
Главный вопрос императора поэту был: «Пушкин, принял ли бы ты участие в мятеже 14 декабря, если бы был в Петербурге?» Пушкин честно и смело ответил, что, вне всякого сомнения, был бы на Сенатской площади, среди революционеров: «Все мои друзья были там».
Как мы знаем, он был прощен ценившим прямоту Николаем. Затем разговор царя и поэта перешел на задуманные Николаем далеко идущие государственные реформы; император просил Пушкина о советах и поддержке. И тон, и содержание разговора вызвали у Пушкина ассоциации с царем-преобразователем Петром Великим. Несомненно, что виртуозный манипулятор Николай добивался именно этого эффекта.
С этого момента возник спиритуальный треугольник: Петр I – Николай I – Пушкин, и об этом следует помнить, читая «Медного всадника», законченного через восемь лет после поражения декабристов. Потенциальная читательская аудитория для почти всего, написанного Пушкиным в эти годы, делилась на две равные части: Николай – и все остальные. Тем не менее Пушкин, начиная свою «Петербургскую повесть» с панегирической ноты, очень скоро придает ей трагический характер.
Пушкин был готов согласиться с Николаем, который с гипнотической властностью убеждал поэта, что самодержавие необходимо России, что без сильной власти страна погибнет, не устоит перед напором враждебных стихий. Одновременно Пушкин страшился тирании и ненавидел ее. Эмоционально, как поэт, он хотел верить Николаю, но разум историка подсказывал Пушкину, что аргументация царя, в сущности, нелогична.
До Пушкина Петербург знал только воспевание. Его видение Петербурга дуалистично. Пушкинская оценка роли Петра и его реформ, цивилизаторского значения города, будущего самодержавной власти (то есть прошлого, настоящего и будущего всей России) как бы лежит на двух чашах весов – одна чаша со знаком «минус», другая – со знаком «плюс». При этом ни одна чаша не перевешивает решительно. Но и равновесие их не является жестко фиксированным: чаши подрагивают, вибрируют… (Как запишет в 1910 году самый популярный – после Пушкина – русский поэт Александр Блок, подчеркивая пронизывающее читателя ощущение нервической неустойчивости: «Медный всадник», – все мы находимся в вибрациях его меди».)
Николай I не оправдал надежд Пушкина. Позднее Анна Ахматова даже считала, что царь сознательно и вульгарно обманул поэта; она с возмущением говорила мне, что Николай «не сдержал своего слова, а это для императора непростительно».
Обманутой оказалась также вся ожидавшая от молодого энергичного царя реформ держава. Волевой и целеустремленный человек, Николай был одержим манией порядка. Россия представлялась ему гигантским механизмом, который обязан функционировать точно в соответствии с его, Николая, мудрыми установлениями. Можно усмотреть в этом отзвук петровской маниакальности, и поначалу люди, как загипнотизированные, слепо подчинялись воле нового императора. Но Николай не обладал монументальным видением своего предка, да и времена были другие. Для того чтобы тащить вперед Россию, одной незыблемой уверенности в собственной непогрешимости было мало.
Николая называли «Дон Кихотом самодержавия». Но этот Дон Кихот с фанатическим упорством пытался превратить свою столицу в идеальную армейскую казарму, в которой не было бы места неповиновению, да и любому проблеску независимой мысли. Ибо только в армии, считал император, существуют настоящий «порядок, строгая, безусловная законность, не замечается всезнайства и страсти противоречить… все подчиняется одной определенной цели, все имеет свое назначение». Николай любил повторять: «Я смотрю на всю человеческую жизнь как на службу». И еще: «Мне нужны люди не умные, а послушные».
Немудрено, что с таким отношением и Пушкин, и другие выдающиеся интеллектуалы стали казаться императору вполне второстепенными, если не лишними, фигурами. Николай без особого сожаления отреагировал на гибель в 1837 году на дуэли в Петербурге 37-летнего Пушкина. (Теперь это трагическое событие, с полным на то основанием, считается одной из страшнейших катастроф русской культурной истории.) А когда в 1841 году, тоже на дуэли, был убит другой великий русский поэт, 26-летний Лермонтов, то Николай, как гласит апокриф, даже изрек презрительно: «Собаке – собачья смерть».
За три десятилетия своего сурового царствования (1825–1855) Николай I основательно заморозил и Петербург, и всю Россию. Еще в эпоху Александра I романтический поэт Жуковский жаловался, что жители Петербурга – «это мумии, окруженные величественными пирамидами, которых величие не для них существует». Николай блистательно преуспел в приближении Петербурга к облику любимой его сердцу казармы. И вот желчный и умный друг покойного Пушкина, князь Вяземский записывает в тоске: «Стройный, правильный, выровненный, симметрический, одноцветный, цельный Петербург может некоторым образом служить эмблемой нашего общежития… В людях – что Иван, что Петр; во времени – что сегодня, что завтра: все одно и то же; нет разности в приметах лиц».
И в этот дисциплинированный, высокомерный, холодный город в конце декабря 1828 года с яркой, ласковой, жаркой Украины влетел 19-летний Николай Гоголь. Этот честолюбивый провинциал, худой, болезненный, с большим носом, явился в Петербург с лучезарными и самоуверенными мечтами о его мгновенном покорении.
В одном из первых своих писем к матери на Украину молодой Гоголь делится впечатлениями от столицы, обнаруживая цепкий глаз ее будущего вивисектора: «Петербург – город довольно велик (его население в это время стремительно приближалось к полумиллиону. – С. В.), если вы захотите пройтиться по улицам его, площадям и островам в разных направлениях, то вы, наверно, пройдете более 100 верст, и, несмотря на такую его обширность, вы можете иметь под рукою все нужное, не засылая далеко, даже в том самом доме. <…> Дом, в котором обретаюсь я, содержит в себе двух портных, одну маршанд де мод, сапожника, чулочного фабриканта, склеивающего битую посуду, дегатировщика и красильщика, кондитерскую, мелочную лавку, магазин сбережения зимнего платья, табачную лавку и, наконец, привилегированную повивальную бабку. Натурально, что этот дом должен быть весь облеплен золотыми вывесками. Я живу на четвертом этаже…»
Днем, гуляя по улицам, молодой Гоголь с жадностью окунался в соблазнительную атмосферу столичной жизни. На Невском проспекте он часами глазел на витрины магазинов, где выставлены были привезенные из-за моря экзотические фрукты вроде апельсинов, ананасов и бананов (абрикосы умудрялись выращивать в самом Петербурге в специальных теплицах).
Не удержавшись перед соблазном, Гоголь забегал полакомиться вкусными пирожными во французские кондитерские, одну за другой. Он наведывается в воспетую Батюшковым Академию художеств, где для обозрения выставлены работы профессоров и наиболее успешных учеников; с некоторыми из последних Гоголь тогда же завязал тесную дружбу.
В купленной тут же популярной газете «Северная пчела» Гоголь мог прочесть о живо волнующих его новостях литературной жизни, а заодно о государственных назначениях, грабежах, самоубийствах. Много места в газете отводилось известиям и рассуждениям о пожарах – вечно актуальная петербургская тема. И, конечно, предсказаниям касательно другой неотъемлемой столичной особенности – наводнений.
В области политики, как внешней, так и внутренней, «Северная пчела» культивировала высшую осмотрительность и беззаветную преданность императору. Пронырливый издатель газеты Фаддей Булгарин, не брезговавший доносами на своих коллег в секретную полицию, строго следовал указаниям, данным ему «сверху» самим шефом жандармского корпуса, исполнявшим также обязанности главного цензора.
По вечерам щегольски одетый Гоголь устремлялся в театр, «лучшее свое удовольствие». Петербургские улицы освещались тысячами масляных и сравнительно недавно появившихся газовых фонарей. От смешения света, тьмы и тумана город приобретал фантастический, призрачный вид. К театральному подъезду подъезжали богатые кареты, запряженные шестерками лошадей. Из них выныривали столичные франты и разнаряженные, загадочные и недостижимые дамы; в сыром воздухе разносились и таяли смех и обрывки галантных французских комплиментов. Конные жандармы помогали кучерам расставить многочисленные, запрудившие площадь экипажи.
На сцене в роли Гамлета потрясал зрителей Василий Каратыгин, двухметровый стройный великан с громовым баритоном и величественными жестами. Как и все прочие авторы, Шекспир на русском театре подвергался жестокой, придирчивой цензуре. Николай лично следил за тем, чтобы не только политические намеки, но и бранные выражения, вплоть до «черт возьми», со сцены не произносились.
Гоголь был в восторге от игры Каратыгина. Позднее он с наслаждением вспоминал, как этот великий актер «схватывает вас в охапку насильно и уносит с собой, так что вы не имеете даже времени очнуться и прийти в себя». Сам Николай благоволил к внешне чрезвычайно похожему на него актеру. Однажды император в сопровождении адъютанта заглянул, по своему обыкновению, к Каратыгину за кулисы. «Ты, говорят, хорошо меня изображаешь, – обратился он к актеру. – Покажи!» – «Не смею, Ваше Императорское Величество!» – «Я тебе приказываю!»
Тут Каратыгин приосанился, как бы на глазах вырастая, взгляд его приобрел стальной гипнотизирующий оттенок, и он властно, отрывисто обратился к адъютанту: «Слушай, голубчик, распорядись послать этому актеришке Каратыгину ящик шампанского!» Николай расхохотался, и наутро шампанское было доставлено к дому актера.
Немудрено, что реализацию своей мечты о великой петербургской карьере Гоголь начал с попытки поступить актером в императорский театр. И провалился. Затем он пробовал стать художником, затем чиновником и, наконец, педагогом. Гоголь продолжал воображать себя подымающимся по высокой лестнице славы и богатства, но всякий раз его останавливали в самом начале этой призрачной лестницы. Петербург упорно и высокомерно не желал знать Гоголя, и Гоголь возненавидел Петербург.
Этот город навсегда остался для него чужим: заманчивый, но враждебный мир, который ему так и не удалось завоевать. И когда Гоголь начал писать, то очень скоро гротескный, отстраненный образ Петербурга оказался в центре его прозы. В 1835 году появились первые петербургские повести Гоголя – «Невский проспект», «Записки сумасшедшего» и «Портрет»; затем «Нос», напечатанный Пушкиным незадолго до гибели, в 1836 году, в его журнале «Современник»; наконец, в 1842 году был опубликован самый знаменитый опус этого цикла – «Шинель».
Гоголь – а через него и вся петербургская образность – испытал неизгладимое влияние Э.Т. А. Гофмана; даже 100 лет спустя в своей «Поэме без героя» Анна Ахматова, заклиная «Петербургскую чертовню», назовет ее «полночной Гофманианой».
Как и у Гофмана, в повестях Гоголя гротескно-обыденное переплетается с безудержной фантастикой. Встреченная на Невском проспекте прекрасная незнакомка оборачивается дешевой проституткой. Таинственный портрет наделен губительной силой. Непостижимым образом с лица самодовольного чиновника сбегает нос, становящийся самостоятельной личностью.






