История культуры Санкт-Петербурга Волков Соломон
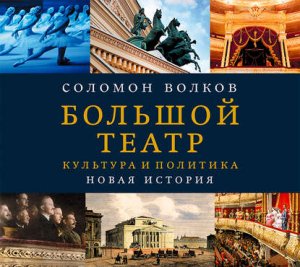
Обстоятельства ареста Гумилева были окружены легендами в течение почти 70 лет. Большевики с самого начала утверждали, что Гумилев входил в так называемую «Петроградскую боевую организацию» (ПБО): крупное подпольное объединение, готовившее вооруженное восстание против советской власти. Ахматова всегда настаивала, что никакого заговора не было и что Гумилев в антисоветской борьбе не участвовал. После опубликования в 1990 году в советской прессе материалов «дела Гумилева» о нем можно судить более объективно.
Летом 1921 года петроградская ЧК произвела массовые аресты, причем только по делу ПБО, по советским источникам, было арестовано больше 200 человек. Григорий Зиновьев, партийный босс Петрограда, считал, что пришла пора приструнить интеллигенцию. Она была недовольна Зиновьевым, установившим в городе жесткий, даже по большевистским стандартам, диктаторский режим. Зиновьева прозвали в городе «ромовой бабкой» за то, что, приняв бразды правления в Петрограде худым как жердь, он за голодные революционные годы сильно ожирел. Будучи также руководителем Коминтерна, Зиновьев вел по отношению к Москве сравнительно независимую политику.
Теперь ясно, что никакой мощной антисоветской «Петроградской боевой организации» не существовало[42]. Эта идея была высосана более или менее из пальца молодым чекистом и любителем литературы Яковом Аграновым, который позднее утверждал: «В 1921 году семьдесят процентов петроградской интеллигенции были одной ногой в стане врага. Мы должны были эту ногу ожечь!»
Таким образом, цель операции Зиновьева – Агранова была в основном превентивной. Арестованных по делу ПБО, среди которых было немало видных представителей научного и художественного мира Петрограда, на допросах запугивали, запутывали, заставляя оговаривать себя и других.
Судя по протоколам допросов, Гумилев оказался для следователя ЧК сравнительно легкой поживой. Он серьезно и наивно полагал, что, во-первых, между ним и советской властью существует некое «джентльменское соглашение», по которому он, Гумилев, честно сотрудничает с большевиками в области культуры, за что они оставляют за ним право на некоторое свободомыслие и независимость.
Во-вторых, Гумилев был уверен, что его огромная к этому времени популярность в Петрограде послужит надежным щитом против любых провокаций секретной полиции. «Они не посмеют меня тронуть», – часто повторял он. Как саркастически заметил о Гумилеве гораздо более трезвый Владислав Ходасевич, «он был удивительно молод душой, а может быть, и умом. Он всегда мне казался ребенком».
На допросах Гумилев признался, согласно опубликованным протоколам, в том, что беседовал со знакомыми «на политические темы, горько сетуя на подавление частной инициативы в Советской России», а также в том, что в случае гипотетического антибольшевистского восстания в Петрограде он, Гумилев, «по всей вероятности», смог бы «собрать и повести за собой кучку прохожих, пользуясь общим оппозиционным настроением». Все это были даже по тем жестоким временам мелочи.
Вдобавок Горький срочно поехал в Москву, к Ленину, просить у него о помиловании Гумилева. Согласно нескольким схожим и, вероятно, достоверным версиям развития событий, Ленин обещал поговорить с руководителем Всероссийской ЧК Феликсом Дзержинским, чтобы Гумилева выпустили. Если верить Горькому, Ленин гарантировал, что никто из арестованных по делу ПБО расстрелян не будет.
Успокоенный Горький вернулся в Петроград, где узнал, что 60 арестованных, в том числе и Гумилев, расстреляны, – по рекомендации следователя, без какого-либо, хотя бы и большевистского, суда. Со слезами на глазах Горький повторял: «Этот Гришка Зиновьев задержал ленинские указания».
Существует авторитетное свидетельство русско-французского революционера Виктора Сержа (Кибальчича), в тот период жившего в Петрограде, о том, что якобы «независимое» решение Петроградской ЧК расстрелять Гумилева было на самом деле поддержано в Москве: «One comrade traveled to Moscow to ask Dzerzhinsky a question: «Were we enh2d to shoot one of Russia’s two or three poets of the first order?» Dzerzhinsky answered: «Are we enh2d to make an exception of a poet and still shoot the others?»[43]
Есть основания предполагать, что указание Ленина о помиловании Гумилева являлось частью интриги, проведенной для нейтрализации Горького, и, таким образом, «задержка» Зиновьевым этого указания была заранее согласована с самим Лениным.
Большевики добились своей цели: узнав о расстрелах по делу ПБО, не только Петроград, но и вся Россия содрогнулась от ужаса. Зиновьев укрепил свою репутацию как безжалостный диктатор. Резко взмыла вверх карьера главного организатора дела ПБО Якова Агранова. Переехав в Москву, он стал руководителем «литературного подотдела» секретной полиции, личным другом Сталина и членом его секретариата. Агранов вернулся в город еще раз в декабре 1934 года для «расследования» убийства Кирова (в подготовке которого он сам же и принимал участие).
Об Агранове мне рассказывала в начале 70-х годов Лиля Брик. Агранов покровительствовал Маяковскому и, вероятно, курировал его деятельность в политическом аспекте. Когда Маяковский кончил жизнь самоубийством в 1930 году, Агранов был первым человеком, прочитавшим предсмертное письмо поэта. Он хотел убедиться, что в нем нет антисоветских заявлений. Но верная служба Сталину не спасла Агранова от расправы: в 1938 году он вместе с женой был расстрелян. Зиновьева расстреляли в 1936 году. В одном из советских источников утверждается, что, когда Зиновьева повели из камеры на казнь, он истерически расхохотался.
Гумилев, согласно ходившим в то время по Петрограду рассказам, умер, как это подобало воображенному им самим типу бесстрашного русского офицера: улыбаясь, с папиросой в зубах. Его гибель 35 лет от роду сразу же обросла многочисленными легендами. Именно благодаря Гумилеву «дело ПБО» не было забыто, не затерялось в длинной цепи массовых экзекуций, проведенных большевиками. Вместе с преждевременной смертью Блока расстрел Гумилева обозначил резкий перелом в отношениях интеллектуалов с советской властью. В России поэт всегда был символической фигурой. Отношение власти к поэтам определяло для общества в целом позицию режима по вопросам культуры, традиции и прав человека.
Политика правительства Ленина в отношении Блока и Гумилева при всей исключительности ситуаций была тем не менее весьма характерной. Все приемы обращения с культурной элитой, свойственные в дальнейшем советской власти, были уже налицо. Интеллектуалов твердой рукой толкали на путь службы режиму. Им давали определенные возможности для культурного просвещения масс, но под строжайшим контролем коммунистической партии. Лояльность сравнительно щедро вознаграждалась, а отклонения от «правильной» линии карались со все большей безжалостностью.
Пока большевики чувствовали себя в седле власти неуверенно, они делали вид, что признают за культурной элитой право на идеологический нейтралитет. Но эта относительная терпимость быстро испарилась. Очень скоро от интеллектуалов стали требовать тотальной преданности.
Гумилев, отвечая на вопросы следователя ЧК, воспроизводил – сознательно или бессознательно – знаменитую ситуацию русской культурной истории. Пушкин, вызванный из ссылки Николаем I в 1826 году, после поражения бунта декабристов, прямо заявил императору, что присоединился бы к революционерам, если бы в день восстания был в Петербурге.
Николай I помиловал и обласкал Пушкина. Оценивший прямоту Пушкина, император считал свою власть достаточно легитимной и устойчивой. Жест милосердия по отношению к знаменитому поэту только укреплял ее.
Ошибка Гумилева, стоившая ему жизни, заключалась в том, что он, будучи монархистом и антикоммунистом, вообразил большевиков наследниками русской государственности. Они же ощущали свою власть как нелегитимную. Милосердие, в их представлении, только расшатывало режим. С поэтом можно было играть в кошки-мышки, но любое, даже интеллектуальное неповиновение в итоге должно было быть наказано. На примере Блока и Гумилева советская власть показала, что рассматривает художников как своих крепостных.
Показательно, что этот первый архетипический сценарий взаимоотношений советского режима и интеллектуалов был разыгран именно в Петрограде. Петербург к этому времени уже более 200 лет был сценой конфронтации и сотрудничества властей и творческой элиты страны. За эти годы автократия постепенно слабела, а интеллектуалы, напротив, приобретали силу и независимость. Большевики поставили своей целью уничтожение этой независимости.
Гумилев и особенно Блок были по сути своей петербургскими поэтами. Своим безжалостным отношением к ним большевики сознательно разрушали равновесие в отношениях между властью и культурной элитой, сложившееся в предреволюционной России. Под старым этикетом подводилась черта, он заменялся новым сводом правил. Одновременно атаке подвергалась репутация города как культурной столицы России.
Политически и экономически Петрограду был нанесен непоправимый урон переездом правительства Ленина в Москву. Теперь следовало лишить столичных претензий и петроградскую культуру. В этом смысле пожелания Москвы совпадали со стремлением Зиновьева проучить нелояльных петроградских интеллигентов.
Все это в сильной степени повлияло на миф о Петербурге, но эффект оказался обратным тому, на который рассчитывали большевики. Сравнительно легко расставшийся с политическим приоритетом и быстро примирившийся с экономическим упадком, Петроград отказался сдать свои позиции в области культурного влияния. Окропленный свежей кровью миф о Петербурге стал обретать новую жизнь. В этом сложном и мучительном процессе с самого его начала исключительную роль играла Ахматова.
В глазах читающей публики Ахматова была теснейшим образом связана и с Блоком, и с Гумилевым. И хотя и тот и другой были женаты и, таким образом, оставили, так сказать, «законных» вдов, а Ахматова была замужем за ассирологом Шилейко, в глазах общественного мнения «настоящей» вдовой обоих погибших поэтов была Ахматова. Почти все вспоминавшие о панихидах по Блоку и его похоронах выделяют особо присутствие Ахматовой, ее трагическую фигуру в черном трауре и креповой густой вуали.
Дочь Бальмонта, Нина Бруни, с особым чувством, многозначительно рассказывала мне в 1974 году, как во время одной из панихид Ахматовой стало дурно, другая свидетельница так вспоминала о панихиде в маленькой кладбищенской часовне: «Запел хор. Но взоры всех обратились не к алтарю, не к гробу, а именно туда, где я стояла. Я стала оглядываться, искать причину и вижу: позади, вплотную ко мне, – высокая стройная фигура Анны Ахматовой. Слезы текут по ее бледным щекам. Она их не скрывает. Все плачут, и поет хор».
«Роман» Ахматовой с Блоком, внедрявшийся в читательское сознание ее стихами начиная с 1911 года, к 1914 году превратился в устойчивую легенду, против которой, как мы знаем, не протестовал и сам Блок. В 1916 году одна из корреспонденток Блока писала ему, как бы «благословляя» несомненный для нее союз двух поэтов: «Кажется, Анна Ахматова – это чудеснейшее изящество. Пусть же она будет счастлива. И Вы будьте счастливы».
Интересна запись в дневнике 1920 года Корнея Чуковского; он шел с Блоком, и им повстречалась Ахматова. «Первый раз вижу их обоих вместе… Замечательно – у Блока лицо непроницаемое – и только движется, все время, зыблется, «реагирует» что-то неуловимое вокруг рта. Не рот, а кожа возле носа и рта. И у Ахматовой то же. Встретившись, они ни глазами, ни улыбками ничего не выразили, но там было высказано много». Даже проницательный циник и скептик Чуковский склонен был усмотреть в заурядной случайной встрече Блока и Ахматовой нечто романтическое и роковое.
Позднее, в своем дневнике за 1922 год, Чуковский запишет, фиксируя эту нерасторжимую связь Блока и Ахматовой в читательском подсознании: «Если просидеть час в книжном магазине – непременно раза два или три увидишь покупателей, которые входят и спрашивают:
– Есть Блок?
– Нет.
– И «Двенадцати» нет?
– И «Двенадцати» нет.
Пауза.
– Ну так дайте Анну Ахматову!»
Казалось, что легенда о романе Ахматовой и Блока не переживет публикации в 1928 и 1930 годах дневников и записных книжек Блока, из которых всем интересующимся должно было стать очевидно, что никакого романа не было. Но этого не произошло, стихи Ахматовой в очередной раз оказались сильнее «презренной прозы» реальности. И даже в 60-е годы можно было услышать от восторженной, но не слишком информированной студентки: «Ах, это та Ахматова, из-за которой застрелился Блок!»
Когда за несколько месяцев до смерти Блок написал статью, резко и во многом несправедливо нападавшую на акмеистов (в особенности на Гумилева), то несколько благожелательных слов он нашел только для Ахматовой, с «ее усталой, болезненной, женской и самоуглубленной» поэтической манерой. Политические расхождения Блока и Ахматовой снивелировались после антибольшевистской речи Блока о Пушкине и были окончательно сняты его смертью. Ахматова позднее утверждала, что, умирая, Блок вспоминал о ней и повторял в бреду: «Хорошо, что она не уехала» (имелось в виду в эмиграцию).
В первые же дни после похорон Блока в Петрограде широкое распространение получило поминальное стихотворение Ахматовой «А Смоленская нынче именинница…» – аллюзия на тот факт, что поэта похоронили на Смоленском кладбище в день праздника иконы Смоленской Божьей матери. Стихотворение это кончалось так:
- Принесли мы Смоленской заступнице,
- Принесли пресвятой Богородице
- На руках во гробе серебряном
- Наше солнце, в муке погасшее, —
- Александра, лебедя чистого.
«До сих пор лучшее, что сказано о Саше, сказала в пяти строках Анна Ахматова», – писала в сентябре 1921 года своей знакомой мать Александра Блока. В Москве Цветаева, уверенная, как почти все другие, в существовании треугольника Ахматова – Гумилев – Блок, сочинила в том же 1921 году обращенное к ней стихотворение, в котором оба погибших поэта назывались «братьями» Ахматовой:
- Высоко твои братья!
- Не докличешься!
Смерть Блока и Гумилева оставила 32-летнюю Ахматову неутешной страдалицей: это мнение было столь распространенным и интенсивным, что по Петрограду, а затем и по Москве настойчиво заговорили о самоубийстве Ахматовой. (Передавали и другую версию: Ахматова смертельно заболела, простудившись на похоронах Блока.) Поверивший ложному известию Маяковский бродил, по словам Цветаевой, «с видом убитого быка». Цветаева написала из Москвы Ахматовой: «Все эти дни о Вас ходили мрачные слухи, с каждым часом упорнее и неопровержимей… Эти три дня (без Вас) для меня Петербурга уже не существовало…»
Чрезвычайно показательно, что для Цветаевой в этот период облик Ахматовой связан с Петербургом столь неразрывно, что без Ахматовой город как бы и не существовал. Этой тесной идентификации Ахматовой с городом способствовало, вне сомнения, то обстоятельство, что треугольник Ахматова – Гумилев – Блок врос в воображении публики в петербургский фон. «Троица» поэтов прославила петербургский миф, но этот миф, в свою очередь, скреплял «троицу».
Неважно, что Блока и Ахматову не связывала роковая, трагическая любовь. Неважно, что Ахматова и Гумилев расстались за несколько лет до его гибели. Новый облик Петрограда требовал мучеников. Этими мучениками стали Блок и Гумилев. Не будучи святыми при жизни, своей смертью они добились немедленной канонизации в глазах российской интеллигенции. Их смерть искупала грехи Петербурга. Это искупление теперь олицетворялось фигурой Ахматовой – и как поэта, и как женщины.
Единство этих двух начал важно подчеркнуть. В России старая романтическая идея тождества жизни поэта и его творчества традиционно реализовывалась с предельной полнотой. Культурной элите Петрограда нужна была плакальщица, и Ахматова подходила для этой роли идеально. На похоронах Блока она, как мы уже видели из воспоминаний, воспринималась как вдова Блока. А вот описание панихиды в Казанском соборе по Гумилеву, расстрелянному через две недели после похорон Блока: плачет молодая вдова Гумилева; и очевидица продолжает: «Ахматова стоит у стены. Одна. Но мне кажется, что вдова Гумилева не эта хорошенькая, всхлипывающая, закутанная во вдовий креп девочка, а она – Ахматова».
Отношения Ахматовой с Гумилевым вызывали, пожалуй, в еще большей степени интерес общества, чем ее воображаемый «роман» с Блоком. В конце концов, Гумилев действительно был мужем Ахматовой, о чем она не замедлила поведать в первой же своей книге «Вечер», опубликовав там довольно реалистический его портрет:
- Он любил три вещи на свете:
- За вечерней пенье, белых павлинов
- И стертые карты Америки.
- Не любил, когда плачут дети,
- Не любил чая с малиной
- И женской истерики.
- …А я была его женой.
А если читатель верил этому стихотворению, написанному в 1910 году, спустя полгода после женитьбы, то как мог он не поверить появившемуся годом позднее и включенному в тот же «Вечер» гораздо более эмоциональному, а оттого убедительному стихотворению Ахматовой, начинавшемуся так:
- Муж хлестал меня узорчатым,
- Вдвое сложенным ремнем.
Известно, что Гумилев жаловался своим подругам: «Ведь я, подумайте, из-за этих строк прослыл садистом. Про меня пустили слух, что я, надев фрак (а у меня и фрака тогда еще не было) и цилиндр (цилиндр у меня, правда, был), хлещу узорчатым, вдвое сложенным ремнем не только свою жену – Ахматову, но и своих молодых поклонниц, предварительно раздев их догола».
По стихам Ахматовой, появлявшимся в печати, читатели продолжали воображать картину ее переменчивых отношений с Гумилевым, хотя большинство этих стихотворений были на самом деле обращены к другим адресатам. Война, революция и, наконец, казнь Гумилева дали стихам Ахматовой новую, гражданскую тему и во многом новый голос. Об этом первым написал Мандельштам, отметив, что в стихах Ахматовой «произошел перелом к иератической важности, религиозной простоте и торжественности…».
Ахматова сама говорила, что трагические события послереволюционных лет радикальным образом изменили ее отношение к крови и смерти: слово «кровь» напоминало ей теперь «о бурых растекающихся пятнах крови на снегу и на камнях и ее отвратительном запахе. Кровь хороша только живая, та, которая бежит в жилах, но совершенно ужасна и отвратительна во всех остальных случаях».
В стихотворении Ахматовой, написанном после ареста Гумилева, это ощущение аукалось так:
- Любит, любит кровушку
- Русская земля.
Позднее Ахматова вспоминала, как «пришло» к ней это стихотворение: в набитом людьми вагоне пригородного поезда, шедшего в Петроград, она «почувствовала приближение каких-то строчек» и поняла, что если немедленно не закурит, то ничего не сочинится. Но спичек у Ахматовой не оказалось. «Я вышла на открытую площадку. Там стояли мальчишки-красноармейцы и зверски ругались. У них тоже не было спичек, но крупные, красные, еще как бы живые жирные искры с паровоза садились на перила площадки. Я стала прикладывать к ним свою папиросу. На третьей (примерно) искре папироса загорелась. Парни, жадно следившие за моими ухищрениями, были в восторге. «Эта не пропадет!» – сказал один из них про меня».
В другом стихотворении того же периода, где тоже упоминалась «горячая, свежая кровь», Ахматова каялась:
- Я гибель накликала милым,
- И гибли один за другим.
- О, горе мне! Эти могилы
- Предсказаны словом моим.
Конечно же, эти строчки воспринимались современниками, как обращенные к Блоку и Гумилеву. Более эрудированные вспоминали начавшую сбываться ахматовскую «Молитву» и то, что в одном из своих стихотворений Мандельштам назвал Ахматову Кассандрой, вещей дочерью царя Трои. В людском воображении Ахматова стала превращаться из свидетельницы в пророчицу, в фигуру необычайной символической силы. (Мандельштам и здесь оказался проницательнее других, указав на символический потенциал стихов Ахматовой еще в 1916 году.)
Когда после длительного перерыва Ахматова вновь выступила с чтением своих стихов перед аудиторией, ее встретила «напряженная, наэлектризованная тишина». Показательно, что воспоминания об этом событии описывают, в сущности, не реального человека, а именно символ: «Она очень бледна, и даже губы почти бескровны. Она смотрит вдаль, поверх слушателей… высокая, тонкая до хрупкости… безнадежно и трагически прекрасная. И как она читает! Это уже не чтение, а магия… Она кончила. Она стоит все в той же позе и все так же смотрит вдаль, будто забыв, что она на эстраде. Никто не аплодирует, никто не смеет даже вздохнуть».
Сцена для конфронтации была готова. С одной стороны – торжествующая, жестокая, играющая человеческими судьбами власть, намеренная во что бы то ни стало уничтожить и подчинить себе не только остатки Петербурга в Петрограде, но и этот новый Петроград полностью пересоздать «по своему образу и подобию». На стороне режима – вся мощь государства, секретной полиции, бюрократического аппарата с его кнутом и пряником.
С другой стороны – женщина с горсткой единомышленников, безоружных и бесправных. Ее единственная сила в том, что она – великий поэт в стране, где поэты традиционно пользовались огромным влиянием и уважением. Поэтому она может рассчитывать на внимание и сочувствие хотя бы части публики – той части, которая не одурманена правящей идеологией, не одурачена ее лозунгами и не запугана до бессознания.
Борьба пойдет за душу города – за то, чем он будет жить, о чем думать, над чем плакать, чем восхищаться, как называться. И поскольку город этот всегда играл в судьбе русской культуры особую, определяющую роль, борьба будет идти и за будущее русской культуры. Если трезво взвесить соотношение сил, то борьба эта представляется безнадежной. И с каждым годом она будет казаться все безнадежнее. Никогда еще в истории России поэту не противостоял столь сильный, хитрый и изворотливый враг. Но с другой стороны, никогда еще в такую отчаянную, бескомпромиссную борьбу с властью не вступала женщина-поэт.
Сама Ахматова была готова к унижениям, к смерти даже, но не к поражению. Она верила в город, в его обитателей, в себя и свою миссию, в силу русского слова и русской культуры. В 1923 году в Петрограде появилась отпечатанная в Берлине книга стихов Ахматовой под заглавием «Anno Domini». Когда читатели открывали эту книгу, то замирали: первое же стихотворение говорило о судьбе города, их судьбе, их будущем. Это был манифест Ахматовой, ее воззвание. Стихотворение так и называлось – «Согражданам». Оно не обещало скорой победы, наоборот. Оно говорило о жизни «в кровавом кругу». Но кончалось это стихотворение Ахматовой пророчески:
- Иная близится пора,
- Уж ветер смерти сердце студит,
- Но нам священный град Петра
- Невольным памятником будет.
Глава 4
6 декабря 1916 года во всех церквах Петрограда отслужили специальный традиционный молебен в честь тезоименитства, а попросту говоря, именин императора Николая II. Это был так называемый «царский день» – день св. Николая. Из-за длившейся уже третий год кровопролитной войны с немцами его отмечали не с такой помпой, как всегда. Но для 12-летнего воспитанника императорского Петроградского театрального училища Жоржа Баланчивадзе, как и для его соучеников, день этот оказался особым, и они запомнили его на всю жизнь.
Жорж готовился стать балетным танцовщиком и уже несколько лет жил на полном содержании, за счет царской казны, в школе, расположенной в громадном здании, тянувшемся во всю длину легендарной Театральной улицы. Утром 6 декабря Жоржа вместе с другими воспитанниками повели на службу в школьную церковь, а вечером в шестиместной карете отвезли на спектакль в императорский Мариинский театр. Но не в качестве зрителей, а как участников. Давали милый сердцу Николая II балет «Конек-Горбунок», и Жорж с товарищами участвовали в заключительном немецком марше, любимом номере императора.
Когда спектакль кончился, маленьких танцоров переодели в нарядную форму балетной школы. Жоржу нравилась его форма – красивый голубой мундир с серебряными лирами на воротничке и фуражке.
Затем воспитатель и инспектриса построили детей парами и повели представляться императору. Момент был торжественный, у детей от волнения перехватывало дыхание, но они держали строй с привычной профессиональной аккуратностью. Тщательно вышагивал и Жорж Баланчивадзе.
«Все думают, что царская ложа в Мариинском театре – центральная. На самом деле ложа царя была боковая, справа. В нее был отдельный вход, специальный подъезд большой, отдельное фойе. Когда входишь – это как колоссальная квартира: великолепные люстры, стены обиты голубым. Император там сидел со всей своей семьей – императрица Александра Федоровна, наследник, дочки; а нас выстроили по росту и представляли – вот Ефимов, Баланчивадзе, Михайлов. Мы держали руки по швам.
Царь был невысокий. Царица была очень высокая красивая женщина. Она была одета роскошно. Великие княжны, дочки Николая, тоже были красавицы. У царя светлые выпуклые глаза, он картавит. Он спрашивает: «Ну, как вы?» Нужно было ногой шаркнуть и ответить: «Премного довольны, Ваше Императорское Величество!»
Потом мы получили царский подарок: шоколад в серебряных коробочках, замечательный, и кружки изумительной красоты, фарфоровые, с голубыми лирами и императорскими вензелями».
Так в 1981 году в Нью-Йорке эмигрант Джордж Баланчин, 77-летний знаменитый хореограф, мне, другому русскому эмигранту, приехавшему в Америку сравнительно недавно, пересказывал в очередной раз эту трогательную легендарную историю, одну из множества маленьких легенд, составлявших его воспоминания о городе, который он – вопреки всем официальным и узаконенным изменениям – упорно продолжал называть Петербургом.
Баланчин, вероятно, и сам чувствовал – скорее всего инстинктивно – некоторую сентиментальность, почти сусальность получавшейся картинки. Может быть, поэтому он неизменно добавлял к ней один иронический штрих: другие воспитанники полученные от царя конфеты благоговейно хранили как реликвии, пока шоколад не заплесневел, а Жорж съел его сразу. «Мне в то время это совершенно неважно было».
В то время, то есть в Петрограде 1916 года, может, и было «неважно». А в Нью-Йорке во второй половине века стало очень важно – и запомнить, и другим рассказать: с умилением, с ностальгией. Баланчин в Америке создавал, как и другие великие русские эмигранты, Игорь Стравинский и Владимир Набоков, блистательный миф о Петербурге: Новой Атлантиде, ушедшей под воду в богатом бурями XX веке. Миф этот, на Западе в итоге привившийся и расцветший, по своим корням был музыкально-балетным. В Европе он начал насаждаться сразу после большевистской революции 1917 года Дягилевым и его соратниками по «Миру искусства».
Это упрочение петербургского мифа именно через музыку и балет, как мы уже знаем, происходило вовсе не случайно. Еще Александр Бенуа утверждал, что душа Петербурга по-настоящему проявляется посредством музыки. И добавлял, что музыкальность русской столицы «как бы заключается в самой влажности атмосферы». Такой же органичной представлялась и «театральность» Петербурга. Она была волшебным следствием самой архитектуры города.
Уже давно замечено, что огромные, величественные архитектурные ансамбли Петербурга похожи на декорации. Об этом еще в 1843 году поведал миру желчный маркиз де Кюстин: «Вообще я на каждом шагу поражался здесь странному смешению двух столь отличных друг от друга искусств – архитектуры и сценической декоративности. Невольно кажется, что Петр Великий и его преемники хотели превратить свою столицу в огромный театр».
Ядовитый маркиз указал на самую суть проблемы. (В своих записках о путешествии в Россию императора Николая I это удавалось проницательному де Кюстину не раз и не два.) Действительно, Петр Великий основал Петербург драматическим размашистым театральным жестом. Не удивительно, что эта театральность осталась с городом навсегда.
С чисто архитектурной точки зрения одна из главных причин этой «декоративности» Петербурга в том, что его здания стилистически едины на длительных отрезках. Этим русская столица отличалась от других великих городов, создававшихся постепенно, на протяжении веков. Подобная сравнительная внезапность возникновения русской имперской столицы породила также и своеобразное психологическое ощущение чисто театрального эффекта.
Жители города этот эффект прекрасно осознавали. В одном из первых русских исторических романов, «Рославлев, или Русские в 1812 году», выпущенном в свет писателем Михаилом Загоскиным в 1831 году, его герой, споря с французским дипломатом о Петербурге, восклицает с гордостью: «Поглядите вокруг себя! Скажите, произвели ли ваши предки в течение многих веков то, что создано у нас в одно столетие? Не походит ли на быструю перемену декораций вашей парижской оперы это появление великолепного Петербурга среди непроходимых болот и безлюдных пустынь севера?»
Эта театральная метафора была доведена до предела художниками «Мира искусства» в начале XX века. Для Бенуа, например, сходство архитектуры Петербурга с декорациями настолько несомненно, что он парадоксальным образом впрямую связывает ее возникновение с воздействием театральных представлений: «…после того, как русские люди получали такую радость на короткий миг вечернего спектакля, им казалось необходимым увековечить ее в сооружениях из камня и бронзы…»
Петербург представлялся имперски ориентированным, хотя и либеральным политически (типично петербургское сочетание) членам «Мира искусства» огромной сценой, «ареной массовых, государственных, коммунальных движений». В нем постоянно происходили, по выражению Бенуа, «уличные спектакли»: блестящие парады, пышные погребальные шествия, зловещие публичные шельмования государственных преступников. Даже смена времен года в Петербурге Бенуа и его друзьями ощущалась как «театрально эффектная»: за внезапной, бурной весной, которую Стравинский и на склоне лет вспоминал как «the most wonderful event of every year of my childhood»[44], следовало торжественное лето, а драматическая осень приводила за собой страшную, грозно мертвящую зиму.
Бенуа выделял еще один специфически петербургский парадокс с театральным оттенком: «На зимние месяцы приходился петербургский «сезон» – играли театры, давались балы, праздновались главные праздники – Рождество, Крещение, Масленица. В Петербурге зима была суровая и жуткая, но в Петербурге же люди научились, как нигде, обращать ее в нечто приятное и великолепное».
Центром сезона в Петербурге постепенно стали опера и балет, оба цветка иностранные, пересаженные на русскую почву сравнительно недавно, в первой половине XVIII века, но довольно быстро пышно на ней расцветшие. Еще в 1791 году русский критик должен был оправдывать балет: «Сие искусство не так суетно, как многие о нем воображают», но уже Гоголь в своей статье «Петербургская сцена в 1835-36 г.» писал: «Балет и опера завладели совершенно нашей сценой. Публика слушает только оперы, смотрит только балеты. Говорят только об опере и балете. Билетов чрезвычайно трудно достать на оперу и балет».
Одной из главных причин такого расцвета оперы и балета в Петербурге было то, что они, являясь императорскими, находились на полном обеспечении казны. В России правители традиционно денег на содержание театра не жалели. Когда корреспондент популярной петербургской газеты «Северная пчела» в 1837 году поехал в Лондон, то он получил возможность сравнить постановку оперы Россини «Семирамида» в столицах Англии и России, и вот что он сообщал: «В Лондоне постановка опер скудная. Декорации посредственны. Хоры жидки. Как можно сравнивать представление «Семирамиды» в Петербурге с лондонским. У нас великолепно, полно, живо; здесь (т. е. в Лондоне) бедно, тоще, слабо. У нас сделано все что можно; здесь не делают и половину того, что должно». Другой автор дополнял: «Великолепием наши зрелища превосходят парижские…»
В типичном петербургском балете того времени сменялось до полдюжины декораций, на фоне которых помимо «разнохарактерных танцев, игр, маршей и сражений» можно было увидеть, к примеру, «механическое восхождение и затмение солнца, землетрясение, извержение огнедышащей горы и разрушение храма солнца».
Император Николай I любил посмеяться на французском водевиле и умилиться на русской патриотической драме, но душой он отдыхал на балете. Император был не просто балетоманом, но балетоманом идеологическим. По словам поэта Афанасия Фета, «император Николай, убежденный, что красота есть признак силы, в своих поразительно дисциплинированных и обученных войсках… добивался по преимуществу безусловной подчиненности и однообразия». Эти же качества импонировали императору и в балете, и не случайно русский кордебалет вскоре стал образцовым по своей дисциплинированности и блестящей выучке.
О том, как происходил тренинг русского кордебалета, с восторгом поведал свидетель петербургской постановки балета «Восстание в серале» в 1836 году. В этом спектакле легендарная романтическая балерина Мария Тальони исполняла роль красавицы Зюльмы, возглавившей армию наложниц сераля, восставших против султана. Для обучения «армии» танцовщиц военным приемам император прислал гвардейских унтер-офицеров. «Сначала это занимало танцовщиц, а потом надоело, и они стали лениться. Узнав об этом, государь приехал на репетицию и строго объявил театральным амазонкам: «Если они не будут заниматься как следует, то он прикажет поставить их на два часа на мороз с ружьями, в танцевальных башмачках». Надобно было видеть, с каким жаром перепуганные рекруты в юбках принялись за дело».
После триумфальной премьеры «Восстания в серале» Николай I не пропускал ни одного представления этого спектакля, наслаждаясь видом армии балетных амазонок, вооруженных, по словам одного игривого рецензента, «белым оружием полных плеч и кругленьких ручек».
Неслыханная согласованность движений делала русский кордебалет художественным эквивалентом столь типичных для Петербурга военных парадов и маневров. Балетный классицизм и имперская армейская дисциплина нашли общую эстетическую основу. По справедливому замечанию Юрия Лотмана, «вопрос: «чем это кончится?» – и в балете и на параде приобретает второстепенное значение», ибо «стройность и красота движений интересуют здесь знатока больше, чем сюжет». Заманчиво предположить, что это имперско-милитаристское невнимание к сюжету в танце стало одним из отдаленных импульсов к последующему развитию на протяжении более чем столетия русского бессюжетного балета, основы которого заложил Мариус Петипа, первым шедевром которого стала «Шопениана» Михаила Фокина, а признанным мастером – Джордж Баланчин.
Джордж Баланчин (Георгий Баланчивадзе) родился 9 января 1904 года в семье грузинского композитора Мелитона Баланчивадзе. Его мать, Мария Васильева, была дочкой немца, и, таким образом, в венах Баланчина текла грузинская, русская и немецкая кровь. Родился он в Петербурге, а Грузию впервые увидел, когда ему было уже 58 лет.
Первые грузины появились в Петербурге вскоре после его основания, в 10-20-х годах XVIII столетия. Их число резко увеличилось после 1801 года, когда император Александр I присоединил независимую прежде Грузию, цветущее кавказское государство с древней христианской культурой, к России, – как говорилось в императорском манифесте: «Не для прибавления наших сил и расширения границ, а для отвращения скорбей грузинского народа».
Вначале в Петербурге жила в основном переселенная сюда насильно, дабы не мешать процессу поглощения страны русской империей, грузинская знать. Но когда потеря Грузией независимости стала свершившимся фактом, многие молодые грузины – как и молодежь других составлявших Русское государство наций – стали приезжать в Петербург по своему выбору, чтобы получить здесь европейское образование.
Грузины – воинственный народ. Многие из них отправлялись в Петербург, чтобы поступить там в военное училище. Другой характерной чертой грузин является их любовь к музыке и танцам. Поэтому не удивительно, что среди первых студентов открывшейся в 1862 году Петербургской консерватории был и грузин Харлампий Саванели, подружившийся там с Петром Чайковским. Через 37 лет студентом той же консерватории стал приехавший из Грузии 37-летний честолюбец Мелитон Баланчивадзе.
К этому времени за его плечами была уже бурная, полная творческих метаний жизнь. Сын архиепископа, Мелитон, поучившись в духовной семинарии, в 17 лет начал петь в оперном театре Тифлиса – сначала как хорист, а потом и как солист в «Евгении Онегине» и «Фаусте». Кипучая энергия кидала его в разные стороны. Еще в Грузии Мелитон сочинил ставшие популярными первые отечественные романсы и основал этнографический хор. В Петербурге он сначала попробовал продолжать обучаться пению, но затем, по совету директора консерватории Антона Рубинштейна, стал брать уроки композиции у Николая Римского-Корсакова. В русской столице Мелитон Баланчивадзе начал сочинять первую грузинскую оперу «Тамар Цбиери» («Тамара Коварная») на сюжет поэмы национального поэта, князя Акакия Церетели, запутанной мелодрамы о безответной любви прекрасной, но злобной грузинской царицы XVII века к гордому и благородному поэту. Он также, как с гордостью позднее вспоминал в Нью-Йорке его сын, «писал хоры для всех больших соборов» столицы.
И в Петербурге пробивной, активный Мелитон продолжал настойчиво пропагандировать малоизвестную здесь грузинскую народную музыку, выступая с организованными им хорами в специальных «Грузинских концертах» и публикуя статьи о национальном стиле пения. Но особенно развернулся он во всевозможных (а часто и просто невозможных) направлениях, выиграв колоссальную сумму денег в государственной лотерее. (Баланчин говорил мне о 100 тысячах рублей.)
Известному петербургскому музыковеду Николаю Финдейзену Мелитон Баланчивадзе подал идею собрать письма классика русской музыки Михаила Глинки и оплатил их издание, первое такого рода. Мелитон буквально швырялся деньгами, давая их взаймы без отдачи своим многочисленным друзьям-грузинам и финансируя грузинские рестораны в Петербурге, лопавшиеся один за другим. Наконец, он совершил роковую ошибку. По словам Баланчина, его отец захотел участвовать в большом деле – тигельном заводе, для которого нужно было выписывать с Запада специальные машины. Тут он обанкротился и, как утверждал в разговорах со мной Баланчин, был посажен на два года в печально известную петербургскую тюрьму «Кресты».
В 1917 году Мелитон Баланчивадзе вернулся из Петрограда на родину, где была провозглашена независимая, с первым в мире законно избранным социалистическим правительством Грузинская республика (просуществовавшая, впрочем, всего несколько лет). Баланчивадзе стал там фактически одним из руководителей музыкальной жизни, председателем бесчисленных обществ, советов и комитетов и кончил свою жизнь в 1937 году всеми почитаемым народным артистом Грузинской Советской Социалистической Республики.
К моменту отъезда отца Георгий (названный так в честь святого) уже пятый год был воспитанником Петроградского балетного училища. Друзья звали его Жоржем, на французский манер. Когда в 1924 году Жорж окажется членом «Русского балета» Дягилева во Франции, знаменитый импресарио сократит его грузинскую фамилию до все еще экзотически звучащей, но все же более легко произносимой «Баланчин», а переезд в 1933 году в Америку принесет смену Жоржа на Джорджа. На этом эволюция его имени закончится.
К Жоржу прилепилась кличка Крыса: так его прозвали за скрытность, молчаливость, вечную настороженность и привычку шмыгать носом, обнажая при этом верхние передние зубы. В огромных, пустынных помещениях школы, где проходила жизнь Жоржа и его соучеников, он чувствовал себя заброшенным и покинутым матерью и отцом. А между тем снаружи здание школы, расположенное на Театральной улице, спланированной великим архитектором Карло Росси, выглядело невероятно импозантно, да и сама улица была одной из главных достопримечательностей города.
Это был типично петербургский конфликт, когда помпезный фасад скрывал множество маленьких трагедий. И опять же, типичным для Петербурга образом, фасад постепенно, незаметно влиял на жизнь за ним, формируя (и деформируя) личности обитателей здания.
Петербургский фасад оказал мощное влияние на Жоржа. Он стал прятать свои эмоции за маской. Рожденный в Петербурге, он стал подлинным петербуржцем, навсегда утратив малейший след типичной для грузин восторженности. Сдержанность стала определяющей чертой характера Жоржа. Позднее он признавал, что эта сдержанность воспитана в нем Петербургом. Но вряд ли Баланчин винил в этом архитектора Росси. О Театральной улице в поздние годы Баланчин говорил с благоговением.
Выросший в балетной семье, Росси словно судьбой был избран для того, чтобы выстроить дом для балетной школы, ставшей самой знаменитой в мире. Это здание является частью магического по своей несравненной гармоничности, чистоте и возвышенной строгости архитектурного ансамбля. Мне повезло: секрет этой магии растолковывал мне сам Федор Лопухов, легендарный хореограф. Однажды я встретил его на Невском проспекте. Это было в начале 60-х годов; похожий на Гоголя (если бы тот дожил до преклонных лет), Лопухов возвращался в свою небольшую квартиру, располагавшуюся в здании балетной школы. До того мы сталкивались с ним в консерватории, где Лопухов руководил балетмейстерским отделением.
Получить Лопухова гидом, хотя бы и на 20 минут, – какая удача! С гордостью он объяснял мне, что ансамбль Росси не знает себе равных. «Посмотрите на Александринский театр – Европа не имеет ничего подобного! Гранд-опера в Париже, Ковент-Гарден – все эти здания бледнеют перед творением Росси. Уверяю вас! Говорят, что русские не умеют работать. Неправда! Всю Театральную улицу застроили за три с половиной месяца, руками уложили восемнадцать миллионов кирпичей!»
Лопухов обратил мое внимание на то, что вся Театральная улица состоит, в сущности, из двух огромных зданий. В одном с 1834 года находились министерства народного просвещения и внутренних дел; в корпусе напротив с 1835 года разместились дирекция императорских театров и балетная школа. «Знаете ли вы, что, когда идешь по этой улице к театру, колонны зданий буквально начинают танцевать? Проверьте! Видите, я прав! Я иногда думаю – сознательно или бессознательно это вышло у Росси? Конечно, общая гармония этой дивной улицы – торжество расчета. Нам всем еще с детства вдолбили, что ее длина двести двадцать метров, и при этом высота обоих зданий равна ширине улицы – двадцать два метра. Неслыханное совершенство пропорций! Это понятно… Но вот очевидное сходство всех этих бесчисленных приплясывающих колонн с кордебалетом вычислить заранее было, по-моему, абсолютно невозможно. Здесь, без сомнения, проявились интуиция Росси и любовь к балету, впитанная им с молоком матери…»
В мои ленинградские дни считалось безусловной истиной, что прогулки по Театральной улице (к этому времени уже переименованной в улицу Зодчего Росси) воспитывают чувство изящного и гармонию духа. Но боюсь, что юный Баланчин этого не ощущал и, во всяком случае, об этом не думал. Сейчас в это трудно поверить, но вначале он относился к своей будущей профессии почти с отвращением. Его притягивала музыка, это пришло изнутри и трогало его, а занятия танцем казались чем-то ненужным, навязанным извне.
Чудесный перелом наступил, когда Жорж оказался на сцене Мариинского театра. Это было представление балета Чайковского «Спящая красавица», и маленький Жорж участвовал в нем в качестве Амура. Занавес открылся, и Жорж увидел со сцены зал Мариинского театра – голубой с золотом, с шикарной разодетой публикой. (Современники вспоминают, что в Мариинском театре во время парадных балетных спектаклей свет только притушивался, и зал со сценой сливались в одно.)
Заиграла божественная музыка, и Жорж вдруг понял, что ему страстно хочется быть на этой сцене, в этом удивительном волшебном театре как можно чаще, что он готов провести здесь всю свою жизнь. Его подхватило и увлекло за собой чудо синтетического зрелища, сотканного из музыки, движения, декораций, света и чуткой реакции зрительного зала. Но музыка в этом нерасторжимом союзе навсегда осталась для Баланчина первой среди равных. Это, вероятно, и помогло ему сделаться в конце концов величайшим хореографом XX века.
Автором балетного шедевра, воспламенившего воображение и переменившего жизнь Жоржа, был Мариус Петипа – француз, прибывший в Петербург пароходом 29 лет от роду в 1847 году. (Баланчин приплывет в Америку тоже в 29 лет и тоже пароходом: знаменательное для суеверного хореографа совпадение.) Прожив долгую жизнь, Петипа, которого многие называют величайшим из творцов классического балета, послужил верой и правдой четырем императорам – Николаю I, Александру II, Александру III и Николаю II. Он поставил для императорского театра множество балетов, среди которых, кроме «Спящей красавицы», были такие ныне всемирно знаменитые шедевры, как «Дон Кихот», «Баядерка» и «Раймонда». Совместно со Львом Ивановым Петипа поставил «Лебединое озеро»; ему принадлежит многое в наиболее популярной сегодня версии «Жизели»; он был также автором сценария «Щелкунчика».
Петипа умер в 1910 году, и Баланчин никогда его не видел. Но педагоги столичной балетной школы часто, к месту и не к месту, вспоминали маленького, согнутого, но всегда элегантного старичка с аккуратно подстриженной раздвоенной седой бородкой и золотым пенсне на кончике носа. Старожилы любили повторять его смешные русские выражения (за 60 с лишним лет, проведенных в Петербурге, Петипа так и не научился правильно говорить по-русски), с трепетом рассказывали о его вспыльчивости, с уважением – о требовательности, умилялись богатству и щедрости его хореографической фантазии. Наиболее совершенные свои произведения Петипа создал в последний период жизни. Уже больной и слабый, он продолжал репетировать; работа была для него, как и для Баланчина впоследствии, лучшим лекарством. Но финальные годы жизни Петипа были безнадежно омрачены серьезным конфликтом с директором императорских театров Владимиром Теляковским, считавшим хореографа «старой шляпой» и препятствием на пути прогресса петербургского балета.
19 января 1904 года, через 10 дней после рождения Георгия Баланчивадзе, Петипа записывает в своем дневнике с горькой обидой старого человека: «В театре репетируют «Спящую красавицу». Я на репетицию не иду. Меня не уведомляют… Моя прекрасная артистическая карьера закончена. Пятьдесят семь лет службы. А у меня хватает еще сил поработать. Между тем 11 марта мне исполнится восемьдесят шесть лет». И через день, с плохо скрытым удовлетворением: «Вечером ставят в 101-й раз «Спящую красавицу». Дочь моя танцует. Присутствуют государь и вдовствующая императрица. Сбор 2866 р. 07 коп.» Петипа никогда не забывал отметить точнейшую цифру сбора. Это многое говорит и о его пунктуальности, и о его профессиональной гордости.
Баланчин внимательно и пристрастно читал и дневники Петипа, и его мемуары, называя их, с сочувственной полуулыбкой, «грустными». Его поразило, что Петипа умер «ненужным и озлобленным старцем». Баланчин часто повторял, что будет жить до 100 лет (грузины, как известно, славятся своим долголетием). Без сомнения, он проецировал судьбу Петипа на свою собственную. В стремлении избежать ощущения «ненужности и озлобленности» можно увидеть одну из причин одержимого, исступленного желания Баланчина работать до последнего дня своей жизни.
Позднему Баланчину Петипа виделся идеалом хореографа. И дело было не только в даровании Петипа. Для Баланчина Петипа был правильным человеком в правильное время на правильном месте. Он представлялся Баланчину достаточно свободным, чтобы сочинять танцы не из-под палки, а по внутренней потребности, одновременно привлекая четкой вписанностью в социальный ландшафт. С гордостью Петипа ощущал себя «на императорской службе». Французу повезло: Россия в то время, по мнению Баланчина, обладала несравненно большей жизненной силой, чем родина Петипа. Одним из главных доказательств этого тезиса для Баланчина был тот хорошо известный факт, что царская казна в отношении балета оказалась самой щедрой в Европе.
Однажды Баланчин с удовольствием пересказал мне примечательный эпизод из мемуаров Петипа, в передаче Баланчина приобретший особое значение: в Нью-Йорке конца XX века как будто повеяло Петербургом середины XIX-го. Петипа репетировал в театре с великой балериной Фанни Эльслер «большое па с ружьем» из балета Жюля Перро «Катарина». Внезапно на репетиции появился Николай I. Увидев, что Эльслер неправильно держит ружье, император прервал репетицию и обратился к ней: «Подойдите ко мне поближе и делайте все то, что буду делать я». С этими словами Николай стал демонстрировать ружейные приемы, которые Эльслер весьма ловко повторяла. Довольный таким усердием, император спросил ее, когда будет премьера: «Я приеду и буду вам аплодировать».
Загадочно улыбаясь, Баланчин добавил: когда придворные узнали, что репетицией балета руководил сам царь, на премьеру невозможно было достать билета. Директор императорских театров Иван Всеволожский однажды цинично заметил: «Мы должны прежде всего угодить царской фамилии, затем – вкусу публики и только в-третьих – чисто художественным требованиям искусства». Этот последний пункт для бескомпромиссного в важных вопросах Баланчина являлся чем-то само собой разумеющимся. Он также никогда не забывал о задаче хореографа развлечь публику. Но мне кажется, Баланчин американского периода своей жизни немного тосковал по отсутствию августейших покровителей.
Отсюда стремление Баланчина установить личный контакт с Жаклин Кеннеди, когда ее муж Джон был президентом. В современной Баланчину Америке Кеннеди более всех подходили на роль «августейшей фамилии». Жаклин представлялась Баланчину императрицей, которая должна стать «духовной спасительницей» Америки. Интересно, что об одном американце, пожертвовавшем крупную сумму на постановку балета, Баланчин с одобрением заметил: «В России он был бы князем».
Еще одним подарком Петипа от России был, согласно Баланчину, богатейший «человеческий материал». Ведь хореограф выражается через танцовщиков и во многом зависит от данных того или иного артиста. Елизавета Гердт (петербургская балерина, которую Баланчин обожал) любила вспоминать, как Петипа при ней сочинял вариацию для танцовщицы. По лицу той было видно, что она чем-то недовольна. Петипа тут же сказал: «Не нравис – я перемениль». И без намека на скандал стал показывать другую комбинацию. Вслед за Петипа Баланчин всегда считал, что хореограф не может быть догматичным и должен ориентироваться на индивидуальности своих танцовщиков.
По мнению Баланчина, Петипа в этом отношении повезло неслыханно: он работал с Матильдой Кшесинской, Анной Павловой, Ольгой Преображенской, Павлом Гердтом (отцом Елизаветы). Гердт, благородный по преимуществу танцовщик русского балета, был одним из учителей Баланчина в школе. Он поражал воображение юного Жоржа уже одним тем, что был первым исполнителем партии принца Дезире в «Спящей красавице», принца Коклюш в «Щелкунчике» и Зигфрида в «Лебедином озере» в Петербурге.
Баланчину в хореографии Петипа импонировали французское изящество и юмор, блеск и острота его выдумки и, главное, неистощимое разнообразие. Но эти «французские» качества дополнялись специфической русской мягкостью и плавностью, приобретенной Петипа в работе с петербургскими артистами. И конечно, влиял на Петипа и сам великий город: поэзия его белых ночей, близкое угрожающее дыхание неспокойного Балтийского моря, великолепие классицистской архитектуры Петербурга и царивший в нем культ высокого ремесла.
Вадим Гаевский находил в знаменитой сцене «Теней» из «Баядерки» Петипа преображенные впечатления хореографа от постоянных петербургских наводнений и проводил параллель между «белыми» (белотуниковыми) композициями Петипа и петербургской белой ночью. Более того, в сцене сна из «Дон Кихота» Петипа Гаевский видел скрытый портрет русской столицы: «Здесь воплощена тема петербургского идеализма, одна из главных у Петипа. Здесь намечена схема «петербургских сновидений».
Это несколько неожиданное сближение с Гоголем и Достоевским справедливо в том смысле, что тему утраченной чистоты можно найти и у них, и у Петипа. В «Лебедином озере» Петипа создал зловещий и роковой образ Одиллии, Черного лебедя, враждебного Белому лебедю – Одетте, преобразив таким образом на балетной сцене типично петербургский графический контраст черного и белого в схватку символов зла и добра.
Гаевский утверждал: «Петипа – первый подлинный урбанист в истории европейского балета. Ансамбль – планировочный принцип великого города – положен в основу его хореографических планов». Отсюда – типичная для Петипа грандиозность многих его хореографических решений. В первоначальном варианте тех же «Теней» из «Баядерки» участвовали 64 танцовщицы! Трудно представить себе, какое впечатление производил этот обрушивавшийся на сцену императорского театра каскад белых туник.
Но в этой петербургской грандиозности всегда таился зародыш катастрофы. В конце своей карьеры Петипа задумал поразить воображение столичной публики особенно пышной постановкой. Он начал работу над балетом «Волшебное зеркало», в котором главным эффектом было воздвигнутое на сцене огромное зеркало, отражавшее и сцену, и зрительный зал. Зеркало было наполнено ртутью и, как любили рассказывать старожилы, на одной из последних репетиций внезапно лопнуло. Сквозь трещины серебряными струйками хлынула ртуть. Это было страшное зрелище и плохая примета. Суеверный Петипа был потрясен.
Недаром незадолго до катастрофы с зеркалом Петипа занес в свой дневник: «Моя последняя воля в отношении моих похорон. Все обязательно должно быть очень скромно. Две лошади для дрог. Никаких приглашений на похороны. Только объявление в газетах, оно заменит их. В этом 1903 году я заканчиваю свою долгую артистическую карьеру – шестьдесят шесть лет работы и пятьдесят семь лет службы в России. Получаю 9000 рублей годовой пенсии, продолжая до смерти числиться на службе. Это великолепно. Боюсь только, что мне не удастся воспользоваться этой замечательной пенсией».
Характерное для Петербурга конца XIX века ощущение смены эпох – и ожидание связанной с этой сменой катастрофы – не покидало Петипа. В этом, несомненно, одна из причин его любви к творившему на той же психологической волне Чайковскому. Петипа вполне мог остаться с музыкой Цезаря Пуни, Людвига Минкуса и Риккардо Дриго, ведь с этими композиторами были связаны такие успехи хореографа, как «Дочь фараона» и «Конек-Горбунок» (Пуни), «Баядерка» (Минкус) и «Арлекинада» (Дриго).
Эти авторы были мастерами удобной и приятной балетной музыки, но их работы, конечно, нельзя даже сравнивать с тем, что дал балету Чайковский. Однако для большинства понимание ценности вклада Чайковского пришло далеко не сразу. Ведь даже Минкуса петербургские балетоманы умудрялись считать «слишком серьезным»! О музыке первого балета Чайковского «Лебединое озеро» рецензенты премьеры дружно писали, что она суха, монотонна, скучна. Один балетоман суммировал: «Чайковский усыпил публику и танцовщиков».
Когда 70-летний Петипа принялся за постановку «Спящей красавицы» Чайковского, это был смелый шаг. Но Петипа почувствовал в Чайковском родственную душу. Чайковский называл Петипа «милым старичком», в то время как Петипа полностью осознавал всю гениальность композитора.
Чайковский в Петипа ценил чистоту его классицизма. (Композитор флиртовал с классицизмом в таких своих партитурах, как «Серенада» для струнного оркестра или сюита «Моцартиана», впоследствии использованных для своих хореографических шедевров Баланчиным.) Петипа же инстинктивно привлекал к музыке Чайковского ее открыто ностальгический характер. На фоне музыки Чайковского традиционные для Петипа сцены балов, разнообразных ритуалов и церемоний также приобрели новый, ностальгический смысл. Балетное действие потеряло условный характер и стало выражать современные эмоции и настроения.
Еще недавно сатирик Салтыков-Щедрин мог негодующе поносить балет Петипа: «Разве в «Дочери фараона» идет речь об убеждениях, о честности, о любви к родной стране? Никогда!» Но уже в 1890 году премьера «Спящей красавицы» Чайковского – Петипа на сцене Мариинского театра увлекла, зажгла и вдохновила целую группу эстетически передовых молодых идеалистов, среди которых были Александр Бенуа, Леон Бакст и Сергей Дягилев, будущие организаторы новаторской художественной группы «Мир искусства».
Петипа создал мир, в котором царят беспечность и веселье, но которому угрожает неминуемая катастрофа. Вспомним, что кульминация «Спящей красавицы», наиболее совершенного творения Петипа, – это внезапная катастрофа, причем катастрофа не индивидуальных судеб, а целой цивилизации. Основанная на сказке Шарля Перро, притча Чайковского – Петипа о царстве, погруженном в столетний сон по причуде злой волшебницы, предвещала, казалось, судьбу Петербурга и его культуры. Злое волшебство замораживает в вековом сне жизнь целого царства – пророчество, сбывшееся по отношению к России в XX веке. Интуитивное ощущение обреченности беспредельно милой их сердцу эпохи сближало Чайковского, Петипа и «мирискусников».
При этом Бенуа и его друзья, отдавая должное Петипа, вовсе не чувствовали в нем родственную душу, как это было у них с Чайковским. Их хореографическим соратником стал родившийся в Петербурге в 1880 году и умерший в Нью-Йорке в 1942 году Михаил Фокин.
Эстетическая программа «Мира искусства» всегда была достаточно расплывчата; ее в значительной степени определяли индивидуальные склонности и темпераменты. Но трудно вообразить себе более причудливую амальгаму, чем художественные вкусы и устремления Фокина. Здесь были перемешаны тяготение к реализму, даже натурализму; импрессионистские попытки; символистские идеи и декадентские перехлесты; любовь к пикторальным концепциям и чуткий интерес к музыкальной основе балетных движений.
За 37 лет Фокин, к которому у Баланчина всегда было двойственное отношение, поставил больше 80 балетов, из которых только несколько сохранилось до наших дней и только два из них – «Шопениана» (на Западе называемая «Сильфиды») и «Петрушка» – стали репертуарными спектаклями. Но даже по этим двум шедеврам Фокина можно судить, насколько широк был его творческий диапазон.
«Шопениану» часто называют первым полностью бессюжетным, абстрактным балетом. Но забывают о том, что появилась она на свет почти случайно. Ведь Фокин вовсе не собирался сделать «Шопениану» манифестом бессюжетного или «белого» балета. Наоборот, поставленная в 1907 году в Петербурге, в своем первом варианте «Шопениана» была серией романтических зарисовок «из жизни композитора», сопровождавшихся музыкой Шопена в оркестровке Глазунова. Например, под звуки Ноктюрна F-dur вокруг музицирующего Шопена кружили черные монахи. Подобная иллюстративность была встречена насмешками петербургских критиков. Только тогда Фокин сделал «Шопениану» абстрактным произведением.
Хотя «Шопениана» не является виртуозным балетом, ее очарование почти полностью зависит от мастерства исполнителей. Когда в «Шопениане» танцевали Павлова, Карсавина и Нижинский, она представлялась квинтэссенцией романтического балета XIX века с его полутонами, невыразимыми в словах эмоциями и мягкими волнистыми линиями. Баланчин объяснял мне, что последнее он в Фокине ценил больше всего: «У Петипа все было расчерчено по прямым линиям: солисты впереди, кордебалет сзади. А Фокин выдумал кривые линии в балете. Еще он выдумал ансамбль в балете. Фокин брал небольшой ансамбль и придумывал для него интересные, странные вещи».
«Шопениану» Баланчин любил с юности и в начале 70-х годов попросил замечательную балерину Александру Данилову (одну из величайших «муз» Баланчина) возобновить это произведение Фокина для «Нью-Йорк сити балле». Танцовщицы в этой постановке появились на сцене не в традиционных длинных тюлевых платьях, а в тренировочных и под аккомпанемент рояля, а не оркестра. Критики усмотрели в этом желание Баланчина прояснить и подчеркнуть чисто танцевальные аспекты балета Фокина и свою с ними связь, но Данилова в разговоре со мной объяснила причины этого аскетизма проще и лаконичнее: «Мы сделали так от бедности».
«Петрушка» был поставлен Фокиным для «Русского балета» Дягилева. Сенсационная премьера этой самой «петербургской» из всех работ Фокина состоялась в 1911 году на сцене театра «Шатле» в Париже. В экспорте мифа о Петербурге на Запад это был момент экстраординарной важности.
В XX веке фигура русского художника, ищущего творческой свободы на Западе, стала традиционной. Когда говорят о таких изгнанниках, в первую очередь вспоминают беглецов от советского режима. Но первые культурные эмигранты из России XX века появились на Западе еще до коммунистической революции 1917 года. Фактически эмигрантской организацией стал «Русский балет» Дягилева, начавшего организовывать свои «Русские сезоны» в Париже еще с 1907 года.
В эмигранта Дягилев превратился не по своей воле; к этому его привела логика событий. Пределом его мечтаний было усесться в кресло директора русских императорских театров. Для этого поста у Дягилева были все необходимые данные: вкус, эрудиция, чутье к новому, размах, невероятный организаторский талант. Но ни смелыми атаками в лоб, ни сложными обходными маневрами желанной цели достичь не удалось. Дягилеву повредило отсутствие бюрократической цепкости и прочных придворных связей, наличие слишком смелой эстетической программы – и вызывающее нежелание скрывать свою гомосексуальную ориентацию. В итоге в 1901 году он был уволен с должности чиновника особых поручений императорских театров с запрещением поступать когда-либо на государственную службу.
С этого момента по-наполеоновски амбициозный Дягилев сосредоточил свои усилия и долгосрочные планы на пропаганде отечественной культуры за рубежом, подальше от двора и русской бюрократии. Наиболее эффективная форма нащупывалась постепенно. В 1906 году Дягилев организовал L’Exposition de 1’Art Russe au Salon d’Automne[45] в Париже, а в 1907-м там же – «Исторические русские концерты» с участием Римского-Корсакова, Глазунова, Рахманинова и Шаляпина. В 1908 году «Борис Годунов» с Шаляпиным в главной роли был показан в «Гранд-опера». И наконец, в 1909 году Дягилев открыл свой первый парижский оперно-балетный сезон. (Именно тогда парижанам впервые была показана «Шопениана» Фокина, переименованная Дягилевым в «Сильфиды».)
Поначалу ловким маневрированием Дягилеву удавалось выбивать царскую поддержку своим начинаниям. Для этого ему приходилось клянчить, интриговать и объяснять «государственную важность» экспорта русской культуры в Европу. В 1907 году Дягилев в отчаянии жаловался Римскому-Корсакову: «…великого князя Владимира я должен убедить, что наше предприятие полезно с национальной точки зрения; министра финансов, что оно выгодно с экономической стороны, и даже директора театров, что оно принесет пользу для императорской сцены!! И скольких еще!!! И как это трудно!»
О типичной реакции русской бюрократии на культуртрегерские почины Дягилева свидетельствует в высшей степени раздраженная (и не очень вразумительная) запись в дневнике директора императорских театров Теляковского: «Вообще это пресловутое распространение русского искусства принесло императорским театрам немало вреда, ибо пользы до сих пор я вижу мало». Уже в 1910 году русские посольства в Европе были проинструктированы специальным циркуляром из Петербурга, что им запрещается оказывать какую-либо помощь дягилевской антрепризе. Это означало не просто прекращение связей между двором и Дягилевым, но открытое объявление войны. С тех пор русские послы в Париже, Лондоне и Риме вредили Дягилеву как могли; об этом есть свидетельство Стравинского.
Конфронтация царской бюрократии с Дягилевым как бы предсказывала гораздо более ожесточенную войну с изгнанниками, поведенную советским правительством. В сущности, здесь прослеживается определенная русская традиция. За исключением, пожалуй, Екатерины II русские правители не были заинтересованы в экспорте отечественной культуры за рубеж. Для них гораздо более эффективными проводниками русского влияния и престижа представлялись армейские штыки.
Культурный обмен был односторонним – с Запада в Россию, да и то он ограничивался и строго контролировался сверху. В сущности, развлечения с Запада всегда подозревались в декадентстве. Итальянские певцы или французские комедианты были хороши для искушенной верхушки, а массам предназначалась более простая, но и более здоровая русская ярмарка.
«Мир искусства» стал первой русской художественной организацией, активно стремившейся к тесным контактам с Западом. Влияние набиравшей силу русской буржуазии, жаждавшей взаимовыгодного обмена с Западной Европой, тут несомненно. В этом смысле появление фигуры типа Дягилева было закономерно. То, что Дягилев оказался не просто коммивояжером русской культуры, а гением с уникальным творческим видением, можно считать неожиданной огромной удачей неизбежного процесса. Но для Дягилева-карьериста его собственный дар иногда оказывался скорее помехой, затрудняя компромиссы с всесильной императорской бюрократией, которой нужны были вовсе не визионеры, а лишь энергичные служаки вроде Теляковского.
Вот почему «Русский балет» Дягилева превратился фактически в эмигрантскую организацию. В сущности, это был перенесенный из Петербурга в Париж «Мир искусства», ибо Бенуа (как и ряд других членов «Мира искусства», в первую очередь Бакст) стал ведущим сотрудником антрепризы Дягилева. К нему присоединились Стравинский и Фокин. В 1910 году именно эта группа создала спектакль, который многими считался вершиной дягилевских «Русских сезонов», – «Петрушку».
Коллективная работа над «Петрушкой» типична для «Мира искусства». Основным автором следует считать, конечно, Стравинского, который в 1910 году сыграл в Лозанне Дягилеву отрывок из предполагавшегося концерта-штюк для фортепиано с оркестром под названием «Крик Петрушки». Дягилев загорелся идеей развить из этого балет, о чем немедленно написал Бенуа в Петербург, предложив тому сочинить либретто.
Бенуа пришел в восторг: Петрушка – русский Гиньоль – был с детства любимым его кукольным персонажем. Еще недавно Петрушка потешал толпы столичных жителей в балаганах, располагавшихся в дни Масленицы в Петербурге на Марсовом поле. К началу XX века традиция народных гуляний на Марсовом поле захирела, и Бенуа, как истый пассеист, жаждал увековечить этот красочный петербургский карнавал.
Дягилев вернулся в Петербург, и либретто «Петрушки» рождалось за ежевечерним традиционным русским чаем с бубликами в его квартире. Затем к Дягилеву и Бенуа присоединился Стравинский. Позднее Бенуа настаивал, что почти весь сюжет «Петрушки» с тремя куклами – Петрушкой, Балериной и Арапом, – оживающими и посреди масленичного карнавала разыгрывающими традиционную драму любви и ревности, был придуман именно им, но признавал, что иногда «программа» подставлялась под уже написанную музыку. Что до Стравинского, то он в тот момент был в восторге от своего сотрудника: «Это человек на редкость тонкий, ясновидящий и чуткий не только к пластике, но и к музыке».
Как Бенуа вспоминал позднее, перед премьерой, когда надо было решать, кто будет назван автором либретто балета в программе, он предложил уступить авторство Стравинскому, и лишь после combat des gnrosites[46] было решено, что авторами либретто будут именоваться и Стравинский, и Бенуа. (Решение, о котором Стравинский впоследствии глубоко сожалел, так как оно давало Бенуа право на одну шестую гонорарных отчислений не только от театральных, но и концертных исполнений музыки балета.)
Стравинский с 1910 года жил фактически за границей, и «Петрушка» был сочинен в Швейцарии, Франции и Италии и впервые показан в 1911 году в Париже, но это было в высшей степени «петербургское» произведение. Стравинский признавал это даже в конце жизни, когда он пытался замаскировать русские корни «Петрушки», настаивая, что ее характеры и даже музыка вдохновлены Гофманом. Он только «забывал» добавить, что как раз в начале века Гофман был буквально «экспроприирован» «Миром искусства»; родился даже специальный термин «петербургская гофманиада». Бенуа постоянно провозглашал, что Гофман – его кумир и художественный путеводитель, и именно в тот период Стравинский признавался, что он полностью находится в «сфере влияния Бенуа».
Перед собравшимися на премьеру «Петрушки» зрителями парижского театра «Шатле» открывалась картина ярмарки в Петербурге 1830-х годов в эпоху императора Николая I, со шпилем Адмиралтейства в перспективе и полосатыми фонарными столбами по углам. Бенуа и Фокин придумали множество красочных типов, населявших ярмарочную толпу: купцы, кучера, кормилицы, военные, квартальный, цыган с медведем. На фоне праздничного гуляния разворачивалась трагедия Петрушки – куклы, которую обуревают человеческие страсти. Это была традиционная для русской литературы тема страдания «маленького» человека, преломленная через Гофмана, «…здесь и Гоголь, и Достоевский, и Блок», – констатировал посетивший спектакль эрудированный русский критик.
Действительно, влияние драмы Блока «Балаганчик» на концепцию «Петрушки» очевидно. «Балаганчик», поставленный Мейерхольдом в Петербурге в 1906 году, впервые представил на русской сцене страдающую по-человечески куклу Пьеро (он же – русский Петрушка) в рамках условного «театрика». Вдобавок именно в этой постановке Мейерхольд новаторским образом соединил музыку, танец и драматическое действие.
В феврале 1910 года, когда Фокин для вечера петербургского журнала «Сатирикон» поставил небольшой балет на музыку «Карнавала» Шумана, Мейерхольд исполнил в нем партию Пьеро. Это была «реприза» его исполнения роли Пьеро в «Балаганчике» Блока, где Мейерхольд появлялся в белом балахоне с длинными рукавами: печальная кукла с угловатыми движениями, издававшая порой жалобные стенания. Мейерхольд-Пьеро был прямым предшественником Нижинского-Петрушки, столь пленившего пресыщенную парижскую публику «Русского балета».
Современные французские критики писали о влиянии Достоевского на балет «Петрушка»; посвященные искали намеков и параллелей со скандальной связью Нижинского и Дягилева: импресарио якобы играл роль Фокусника-манипулятора, а танцовщик – несчастной куклы; но о влиянии Блока и Мейерхольда не вспоминал никто.
Петербург впервые овладел воображением европейской аудитории благодаря «Преступлению и наказанию» Достоевского. То был таинственный метрополис, сродни Лондону Диккенса и Парижу Бальзака, но суровее и страшнее из-за отдаленности и чуждости. Поэтому экзотичность Петербурга для европейского читателя Достоевского имела, скорее, негативный характер. Другое дело «Петрушка». Трагичность его сюжета была умело и ловко укутана авторами в ностальгическую этнографичность.
Стравинскому могло казаться, что музыка «Петрушки» являет собой «критицизм», как он выразился, творчества «Могучей кучки». Более того, после головокружительных парижских успехов Стравинского самый Петербург вдруг представился ему как «sadly small and provincial»[47]. Но объективно «Петрушка» был воспринят западной аудиторией как национальное произведение.
«Таймс» писала после премьеры балета в Лондоне, что «the whole thing is refreshingly new and refreshingly Russian, more Russian, n fact, than any ballet we have had»[48]. Но экзотичность «Петрушки» не оценивалась западными критиками как архаическая. Это произведение представляло тему Петербурга в рамках новаторской эстетики. «It is supremely clever, supremely modern, and supremely baroque»[49], – дивился в 1913 году лондонский «Обзервер», проницательно суммируя некоторые из важных особенностей петербургского авангарда, позднее аукнувшийся, к примеру, в творчестве Владимира Набокова.
«Петрушка» Стравинского – Бенуа – Фокина – Дягилева оказался первым произведением, давшим западной аудитории идеализированный и романтизированный образ Петербурга. И как удачно, что этот ностальгический образ был создан большей частью в Западной Европе в основном полуэмигрантами под эгидой полуэмигрантской антрепризы. Только так и рождаются, наверное, подлинно ностальгические произведения.
Императорская балетная школа, в которой учился и жил юный Жорж Баланчивадзе, функционировала почти как монастырь. Жизнь воспитанников двигалась в железном ритме и под строгим контролем; прилежание и дисциплина вознаграждались, а непослушание – даже в мелочах – пресекалось, часто с максимальным публичным унижением виновного. Вставали рано, умывались ледяной водой под огромным круглым медным чаном со множеством кранов, под присмотром наставника выходили на прогулку, а в десять часов утра начинались уроки классического танца. Затем занимались общеобразовательными предметами: литературой, арифметикой, географией, историей. Ближе к вечеру во второй раз наступал черед танцевальных занятий. Вечером готовили домашние задания и музицировали. В одиннадцать часов все укладывались спать в огромном дортуаре.
Кормили четыре раза в день за убранными белыми скатертями длинными столами; еда была сытной, разнообразной и вкусной. Есть нужно было быстро и аккуратно; эти два качества поощрялись во всем. Нужды духовные обслуживала церковь при школе. Первая молитва была перед завтраком. На Страстной неделе Великого поста воспитанники должны были говеть, исповедоваться и причащаться.
Как и его товарищи по школе, Жорж Баланчивадзе мог быть уверен в своем будущем. После окончания школы выпускникам было обеспечено место в Мариинском театре, звание артиста императорских театров, безбедное существование и ранняя щедрая пенсия. Усердно и беспорочно исполняй свою работу – и можно ни о чем другом не беспокоиться и не думать. Недаром в те времена говорили: «У балетных весь ум ушел в ноги».
Вероятно, поэтому в балетной школе строго спрашивали только на уроках танца. Уже Фокин жаловался, что история, география, языки преподавались и усваивались поверхностно: «Тогда никто из артистов не уезжал за границу, и французский язык нам казался совершенно ненужной мукой». Лопухов любил вспоминать, что Нижинского, например, выпустили из школы вообще без экзаменов по общеобразовательным предметам, так как было ясно, что он их все равно не сдаст.
Так было заведено изначально и продолжалось десятилетиями. В каждодневной рутине этого балетного монастыря была своя притягательность и логика: она гармонировала с государственным укладом снаружи школы и давала великолепные профессиональные результаты. Пока в России было тихо, тихо было и в стенах балетной школы. Но по мере расшатывания основ имперской государственности брожение начало возникать и среди танцовщиков.
Одним из первых бунтарей был Фокин, за ним потянулись и другие. Тяга к знаниям все увеличивалась, окружающий мир, пестрый и хаотичный, казался все более привлекательным. Лопухов говорил мне, что уже в 15 лет он твердо решил, что «пустым балетным человечком» не будет. «Фокин научил нас задавать вопросы, – вспоминал он. – Ведь раньше как было? Вышел на сцену, сделал свое дело – и уходи. Главное – чтобы твой пируэт вышел ладно, а зачем все это, кого ты изображаешь, – большинство этим даже не интересовалось. После Фокина танцевать бессмысленно стало стыдно».
«Разлагающе» действовали на воспитанников долетавшие из Парижа заманчивые слухи о дягилевской антрепризе. Западная Европа уже не казалась такой далекой и абстрактной. Там пользовался успехом русский балет, но не традиционный, академический, которому учили в школе, а новый, модернистский. Как вспоминала в разговоре со мной поступившая в школу в 1911 году Данилова, «всем вдруг захотелось двигаться вперед, а не пережевывать до бесконечности старое».
В балетной школе конфликт между привычной комфортабельной рутиной и раздражающими новыми веяниями извне набирал силу. Неизвестно, как бы он развивался далее и какой остроты достиг, если бы общая политическая ситуация в России продолжала оставаться прежней. Но в 1917 году страну сотрясли два сейсмических революционных шока. Первая революция смела Николая II, вторая устранила с исторической сцены русскую буржуазию. Большинство институций старого режима было разрушено. Но особенно тяжкий удар был нанесен императорским театрам: они потеряли и августейшего покровителя, и свою основную публику.
В новой катастрофической ситуации о балетной школе поначалу попросту забыли. Балетные и оперные спектакли в революционном Петрограде продолжали идти как бы в сомнамбулическом сне, по инерции, а бывший «монастырь» вдруг остался без всякого контроля. Когда-то учеников доставляли в Мариинский театр для участия в спектаклях в специальных экипажах, под строгим присмотром. Теперь же даже трамваи не ходили, и ученики добирались до театра пешком.
В один из дней поздней осени 1917 года Жорж Баланчин и его однокашник Михаил Михайлов участвовали в танцах в опере Глинки «Руслан и Людмила». В этом спектакле на сцене Мариинки появлялась несравненная танцовщица Тамара Карсавина, а одну из партий пел сам Шаляпин, легендарный бас. Горячо обсуждая их великолепное исполнение, Жорж и его приятель заговорились и не заметили, что театр давно уж опустел. Когда они вышли из театра на улицу, кругом царила темнота.
Ночной Петроград в эти дни был особенно неуютен. То там, то здесь раздавались выстрелы. Вдобавок пошел дождь. Скорчившись в своих прохудившихся черных шинелях, Жорж с Михайловым перепрыгивали через огромные лужи, чтобы окончательно не промочить дырявые штиблеты. (О гардеробе учеников школы давно уже никто не заботился.) Впереди юных танцовщиков прямо по лужам смело шагал какой-то прилично одетый господин. Эта смелость его объяснялась, вероятно, тем, что на нем были прекрасные новые галоши, блестевшие даже в темноте. Прыгая по-блошиному за шагающим напрямик господином, ребята с завистью поглядывали на эти вожделенные галоши. Внезапно один за другим загремели выстрелы, и гордый обладатель галош упал навзничь в лужу.
От неожиданности Баланчин и Михайлов бросились в разные стороны. Михайлов спрятался в подворотне ближайшего дома, куда вскоре принесли и господина в галошах. Он был ранен и громко стонал, повторяя, что рядом с ним одним из выстрелов убило мальчика в черной шинели. «Жорж!» – пронеслось в мозгу смертельно напуганного Михайлова. Он тут же побежал к месту происшествия, но там никого уже не было. Долго бродил Михайлов по близлежащим улицам, пытаясь узнать что-то у редких прохожих, но никто не мог сказать ему, куда унесли убитого мальчика.
Подавленный Михайлов вернулся в школу. «Какова же была моя радость, когда навстречу мне из нашего маленького взбудораженного муравейника бросился Жорж», – вспоминал он позднее. Оказывается, Баланчин тоже слышал разговоры об убитом мальчике в шинели и решил, что это Михайлов. Жорж тоже безрезультатно разыскивал приятеля и, обескураженный, вернулся в общежитие, где поднял на ноги однокашников рассказом о случившейся трагедии. Все были в шоке, не зная, что предпринять. К счастью, на сей раз все обошлось благополучно.
Таких или схожих драматических происшествий было теперь сколько угодно в прежде столь размеренной и упорядоченной жизни воспитанников балетной школы. И чем дальше, тем быстрее и бесповоротнее разваливался их казавшийся некогда незыблемым маленький мирок. В прошлом старательно изолированный от настоящего большого мира, теперь он зависел от любого сотрясения снаружи.
Когда голодал Петроград, голодала и школа. Когда в городе замерз водопровод, сидели без воды и воспитанники. Ни одно лишение, ни один ужас выживания в умирающем Петрограде их не миновал. Для Баланчина, как и для его соучеников, эти резкие изменения статуса и уклада должны были оказаться глубоко травматическими. Всегда с горечью вспоминавший разлуку с семьей, Жорж был во второй раз лишен комфорта налаженного быта. Он окончательно замкнулся в себе.
Правда, Баланчин попытался вновь пожить «семейной жизнью». Весной 1922 года 18-летний Жорж, женившись на прелестной 15-летней начинающей танцовщице Тамаре Жевержеевой, перебрался жить в огромную квартиру своего тестя Левкия Жевержеева в доме № 5 по Графскому переулку.
Левкий Жевержеев, сыгравший в художественном развитии молодого Баланчина исключительную, до сих пор недооцененную роль, был одним из главных петербургских оригиналов. Человек восточного происхождения, он получил в наследство от своих родителей парчовую фабрику и крупнейший в городе магазин церковной утвари на Невском проспекте. Баланчин рассказывал мне: «До революции на фабрике у Жевержеева делали рясы и митры для патриарха и прочего высшего духовенства. Вы знаете, что такое патриаршая ряса? Парча для нее была толстая, тяжелая, из чистого золота. Один вершок такой парчи целый год ткали!»
Но сердце Жевержеева было не в бизнесе. Сам художник-любитель, еще подростком он увлекся приобретением уникальных материалов о русском театре: первые издания пьес, афиши и объявления столетней и более давности, различные документы, эскизы декораций и костюмов, портреты знаменитых актеров прошлого и настоящего. Его библиотека редких книг – около 25 тысяч уникальных томов – стала одной из самых богатых и полных в Петербурге.
Парадоксальным образом, кроме коллекционирования старины, Жевержеев увлекся авангардом. Каждую пятницу он начал приглашать к себе компанию шумной модернистской молодежи. Эти собрания у Жевержеева вскоре стали одной из достопримечательностей художественного Петербурга. Отражением репутации Жевержеева была оценка одного из ведущих новаторов той эпохи, режиссера Мейерхольда: «Город Петра – С.-Петербург – Петроград (как теперь именуется) – только он, только его воздух, его камни, его каналы способны создать таких людей, с таким влечением к строительству, как хозяин пятниц Жевержеев. Жить и умереть в С.-Петербурге! Какое счастье!»
На «жевержеевских пятницах» можно было увидеть поэтов-футуристов Владимира Маяковского, Велимира Хлебникова и Алексея Крученых, художников Казимира Малевича, Владимира Татлина и Павла Филонова, художественного критика Николая Пунина, музыканта Михаила Матюшина. Один из посетителей салона Жевержеева вспоминал позднее: «Самым скромным и тихим на пятницах был сам застенчивый хозяин, которого никто из гостей не замечал. Он никогда не ввязывался в горячие споры, сидел где-нибудь забившись в угол и молча внимательно слушал возбужденные, шумные речи…»
Русский авангард переживал тогда свой «героический» период. Вопреки распространенному одно время на Западе заблуждению, ведущие русские модернисты идеологически и художественно сформировались еще до коммунистической революции 1917 года. Начиная с конца XIX века Россия развивалась необычайно быстрыми темпами. Разительным переменам в экономической и социальной жизни сопутствовали радикальные сдвиги в эстетических воззрениях.
В 1895 году Фридрих Энгельс писал русскому собрату – социал-демократу: «В такой стране, как ваша, где современная крупная промышленность привита к первобытной крестьянской общине и одновременно представлены все промежуточные стадии цивилизации, в стране, к тому же в интеллектуальном отношении окруженной более или менее эффективной китайской стеной, которая возведена деспотизмом, не приходится удивляться возникновению самых невероятных и причудливых сочетаний идей».
Эти «сочетания идей» стали еще более причудливыми, когда «китайская стена», о которой писал Энгельс, фактически развалилась и русская молодежь получила возможность беспрепятственно усваивать новейшие художественные эксперименты Запада. Результаты были фантастическими. За какие-нибудь 10–15 лет русская живопись сумела впитать, глубоко освоить и дерзостно переработать результаты длительного европейского развития. Ведущие русские авангардисты довольно быстро оставили за собой импрессионизм, пуантилизм, стиль «ар нуво», символистскую эстетику и сезаннизм. Они задержались на кубизме, и на некоторое время Пикассо стал их кумиром. Но уже в 1912 году Филонов объявил, что Пикассо «пришел в тупик».
Русские авангардисты были максималистами. Эта черта вообще свойственна русской культуре. Но в лихорадочной атмосфере России 1910-х годов этот максимализм еще более обострился. И Малевич, и Татлин, и Филонов ощущали себя не просто художниками, но пророками нового образа жизни. Акт творения был для них глубоко духовным переживанием. Каждый из этих замечательных художников был связан по-своему с русской религиозной традицией. В картинах каждого из них можно было найти следы влияния старинной русской иконы. И в их горячих речах часто звучали отголоски религиозных и мистических идей.
Это, разумеется, не могло укрыться от внимания Жевержеева, специалиста в такого рода проблематике; недаром он был владельцем магазина церковной утвари. Для Жевержеева очевидны были также связи русского авангарда с народным искусством: старинными лубочными картинками, примитивной живописью вывесок и подносов, вышивками и орнаментами. Как коллекционер, Жевержеев хорошо знал весь этот материал.
В анналах русского авангардного театра запечатлен пример прямого влияния коллекции Жевержеева и его интереса к историческим раритетам на современные новации. Жевержеев заказал мастеру макет знаменитой, так называемой «Сцены в аду», которой в свое время завершалось популярное русское представление-феерия «Тайны Санкт-Петербурга под землей». В центре макета возвышалась фигура сатаны, из раскрытой пасти которого выскакивали чертенята в красном трико, в то время как вокруг горел адский огонь и подымались клубы пара.
Когда мастер заканчивал изготовление макета, к нему пришел поэт-футурист Владимир Маяковский и с увлечением начал расспрашивать о традиционной технике народных феерий и мистерий. А через некоторое время Мейерхольд поставил в Петрограде новую пьесу Маяковского «Мистерия-буфф», в которой была также и сцена в аду. Декорации к «Мистерии-буфф» выполнил Малевич.
Каждый из русских художников-авангардистов хотел быть лидером и имел на это право. У каждого была своя ярко индивидуальная программа. Художники жестоко ссорились. Это беспокоило Жевержеева. Мягкий, рассудительный человек, он хотел примирить этих талантливых людей. Жевержеев считал, что вместе им легче будет противостоять филистерской публике. Поэтому Жевержеев принял самое активное участие в организации в 1910 году общества художников-авангардистов «Союз молодежи».
«Союз молодежи» просуществовал около четырех лет, показав семь громких выставок, выпустив три номера смелого журнала, издавая книги и проводя диспуты, привлекавшие внимание к новому искусству. Ничего этого без Жевержеева не было бы: и журнал, и выставки, и все прочее оплачивались из его кармана.
Да и вообще без миротворческой и объединительской деятельности Жевержеева «Союз молодежи» так долго не продержался бы. Как председатель «Союза молодежи», Жевержеев настоял на том, чтобы в это петербургское общество вступили и московские художники-авангардисты, а также ведущие поэты-футуристы. Добиться этого было нелегко. Зато результатом стали два художественных события, оставившие глубокий след в истории мирового авангарда: показы в Петербурге трагедии «Владимир Маяковский» и оперы «Победа над солнцем».
Русский авангард наилучшим средством для выражения своих идей считал театр. Это шло еще от символистов. Русские символисты всегда были уверены, что «из искусства выйдет новая жизнь и спасение человечества». Андрей Белый проповедовал, что «в глубине целей, выдвигаемых искусством, таятся религиозные цели: эти цели – преображение человечества…».
Особенно ярко эти мессианские идеи отразились в позднем творчестве Александра Скрябина, задумавшего синтетическое музыкально-танцевальное произведение «Мистерия». Исполнение этой «Мистерии», по замыслу автора, должно было привести к «концу мира», когда материальное начало погибнет, а восторжествует дух. Участником «Мистерии», мечтал композитор, станет все человечество. Скрябину виделось, в сущности, небывалое театральное действие, в котором не было бы разделения на актеров и зрителей. Это был апофеоз символистских представлений о возможной мистической преобразующей роли театра.
Для русских символистов театр не просто нераздельно сливался с этикой и религией, но становился волшебным средством преображения духа. Скрябинская «Мистерия» так и осталась утопией, но это обстоятельство не остудило мечтаний русских модернистов. «Музыкальность современных драм, – писал Белый, – их символизм, не указывает ли на стремление драмы стать мистерией? Драма вышла из мистерии. Ей суждено вернуться к ней. Раз драма приблизится к мистерии, вернется к ней, она неминуемо сходит с подмостков сцены и распространяется на жизнь. Не имеем ли мы здесь намека на превращение жизни в мистерию?»
Яростно нападая на «устаревших» символистов, русские авангардисты сохранили тем не менее мистическую веру в высокую, преображающую миссию театра. Это увлечение театром было у них, как и у символистов, всеобъемлющим. Вслед за символистами русские футуристы превращали повседневную жизнь в театр. Символисты «театрализовали» свои отношения друг с другом. Футуристы вынесли этот «домашний» театр на улицу. Малевич разгуливал по улицам с большой деревянной ложкой в петлице. Маяковский щеголял в кофте ярко-желтого цвета, который был определен как цвет футуризма. Футуристы вызывающе раскрашивали свои лица, выводя цветочки на щеках и золотя носы. Они также неплохо зарабатывали на эпатажных театрализованных диспутах, собиравших много любопытствующих.
Жевержеев организовал один из таких диспутов в ноябре 1912 года в Троицком театре миниатюр, который он создал и финансировал. Это был один из первых театров такого рода в Петербурге. Авангардное искусство, отвергаемое установившимися институциями, получало доступ к публике на сцене Троицкого театра (и схожих сцен), а также в полузакрытых кабаре вроде «Бродячей собаки». Администратором Троицкого театра был Александр Фокин, брат хореографа, колоритная фигура, бывший чемпион-автогонщик. Жевержееву порекомендовали безвестного, но многообещающего «молодого поэта и художника», который хотел бы выступить с докладом о новейшей русской поэзии. Его привели к Жевержееву, он меценату понравился, и, таким образом, дебют 19-летнего Маяковского в Петербурге состоялся под эгидой «Союза молодежи».
Выступая, высокий и красивый Маяковский шокировал публику произносимыми роскошным, «бархатным» басом заявлениями о том, что «слово требует сперматизации» и что в живописи, как и в других искусствах и литературе, надо быть «сапожником». Как пояснял друг Маяковского, поэт-футурист Алексей Крученых (любивший носить на шнуре через шею диванную подушечку): «…чтоб писалось туго и читалось туго, неудобнее смазанных сапог или грузовика в гостиной…».
Именно таким «тугим», шершавым языком летом 1913 года написал Маяковский трагедию, которую он предполагал назвать «Восстание вещей» или «Железная дорога». Но поскольку пьеса сочинялась в лихорадочной спешке, то на утверждение в цензуру автор отправил ее с надписью на титульном листе «Владимир Маяковский. Трагедия», то есть без всякого названия. После утверждения цензурой никаких изменений в пьесу вносить не разрешалось. Маяковский был этому даже рад: «Ну, пусть трагедия так и называется – «Владимир Маяковский».
Это было тем более уместно, что поэт и в самом деле был главным действующим лицом своей пьесы. Когда Маяковский прочел ее молодому Борису Пастернаку, тот был поражен: «Я слушал, не помня себя, всем перехваченным сердцем, затаив дыханье. Ничего подобного я раньше никогда не слыхал… Заглавье скрывало гениально простое открытье, что поэт не автор, но – предмет лирики, от первого лица обращающийся к миру. Заглавье было не именем сочинителя, а фамилией содержанья».
Трагедия Маяковского писалась под явным влиянием модных в то время идей о жанре монодрамы драматурга и режиссера Николая Евреинова, иронически описанного союзником футуристов Виктором Шкловским: «Волосы зачесаны назад, подстриженный, очень красивый, официальный садист, выпустил книгу «История телесных наказаний в России»!
К нему придешь – он похлопает в ладоши, придет горничная, молодая и толстая. Евреинов скажет:
– Подайте фазанов.
Горничная отвечает:
– Фазаны все съедены.
– Тогда дайте чай.
Это называется театр для себя».
Постсимволистские театральные идеи блестящего парадоксалиста, «русского Оскара Уайльда», Евреинова, Шкловским, конечно же, окарикатурены. Евреинов доказывал, что жизнь есть непрерывный «театр для себя», с помощью которого личность отгораживается от хаоса непознаваемого мира. Казни и пытки Евреинов тоже относил к области театра. Свое понимание жанра монодрамы Евреинов расшифровывал так: «Драматическое представление, которое, стремясь наиболее полно сообщить зрителю душевное состояние действующего, являет на сцене окружающий его мир таким, каким он воспринимается действующим в любой момент его сценического бытия».
В трагедии «Владимир Маяковский», кроме самого Поэта, появлялись Человек без глаза и ноги, Человек без уха, Человек без головы. Все это были, как и предписывал Евреинов, разные ипостаси автора. В своей пьесе, заметил футурист Бенедикт Лившиц, «Маяковский дробился, плодился и множился в демиургическом исступлении…».
В ноябре 1913 года по всему Петербургу были расклеены афиши, объявлявшие, что в театре «Луна-парк» в начале декабря пройдут «первые в мире четыре постановки футуристов театра»: трагедия «Владимир Маяковский» и опера «Победа над солнцем» будут представлены по два раза каждая. Так как газеты в это время много и в самых сенсационных тонах писали о футуристах, то билеты, несмотря на высокие цены (столько брали, когда выступал Шаляпин), были раскуплены почти мгновенно. На спектаклях присутствовал «весь Петербург».
Открылся «футуристический фестиваль» пьесой Маяковского. И Мейерхольд, и Блок пришли на спектакль футуриста. Увиденное ими яркое и дерзкое зрелище было, несомненно, связано с их театральными идеями, с мечтами символистов о ритуальном театре, в котором поэт, актеры и зрители сольются.






