История культуры Санкт-Петербурга Волков Соломон
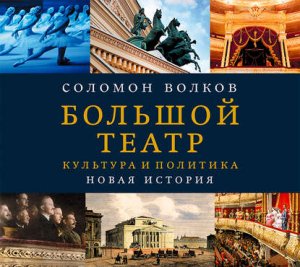
Николай Клюев, близкий к Распутину крестьянский поэт (его даже называли метафорически «двоюродным братом Распутина»), чрезвычайно любил стихи Ахматовой и относился к ней с большим почтением. Ахматова позднее утверждала, что Клюева прочили на место Распутина. Никто бы не удивился, если бы Ахматова вдруг оказалась «придворной поэтессой». В пропитанной мистицизмом, сексом и поэзией атмосфере столицы слухи возникали и лопались ежедневно. Неминуемо они затрагивали и некоронованную императрицу петербургской богемы Ахматову, правившую в «Бродячей собаке».
Сама Ахматова к этому богемному миру и своей роли в нем относилась двояко. В конце 1912 года она написала стихотворение, озаглавленное «В «Бродячей собаке»», с подзаголовком – «Посвящается друзьям». Начинается оно так:
- Все мы бражники здесь, блудницы,
- Как невесело вместе нам!
А кончается строчками, которые могли быть отнесены и к самой Ахматовой, и к ее подруге Судейкиной:
- А та, что сейчас танцует,
- Непременно будет в аду.
Но и напечатав это стихотворение, Ахматова продолжала регулярно появляться в «Бродячей собаке», своеобразным символом которой она стала: noblesse oblige. Без величавой, стилизованно-грустной и строгой Ахматовой «Бродячую собаку» нельзя было себе вообразить. Но и Ахматова, по-видимому, естественнее всего чувствовала себя в этом прокуренном и пропахшем винным перегаром подвале. Недаром вспоминал один поэт: «Нам (мне и Мандельштаму, и многим другим тоже) начинало мерещиться, что весь мир, собственно, сосредоточен в «Собаке», – что и нет иной жизни, иных интересов, – чем «Собачьи»!»
Этот подвальный мирок, ставший неотъемлемой частью и достопримечательностью элитарного Петербурга, вместе со всей столицей содрогнулся летом 1914 года: грянула Первая мировая война. «Ее все ждали, и все в нее не верил, – утверждал потом Виктор Шкловский. – Иногда допускали, что она произойдет, но были уверены, что продолжится она три месяца».
События нарастали быстро и угрожающе. В ответ на объявленную Николаем II всеобщую мобилизацию Германия объявила России войну. На другой день царь опубликовал манифест о войне с Германией, встреченный в столице с небывалым энтузиазмом. Тысячи людей вышли на Дворцовую площадь с флагами, иконами и царскими портретами. Когда Николай с женой появились на балконе Зимнего дворца, толпа опустилась на колени и запела гимн «Боже, царя храни».
Город охватило патриотическое безумие. Начались погромы немецких магазинов, а с крыши здания немецкого посольства были сброшены увенчивавшие ее гигантские чугунные кони. Только этой волной давно уже не виданного патриотизма и шовинизма можно объяснить тот факт, что переименование в августе 1914 года Санкт-Петербурга в Петроград не вызвало никаких серьезных дебатов.
Идея переименования заключалась в замене «германского» названия его «славянским» вариантом. При этом забыли о двух вещах. Название столицы, данное ей Петром Великим, было вовсе не германского, а голландского происхождения. Затем, превращение столицы в Петроград делало ее городом Петра-человека, Петра-императора, в то время как основана она была как город Святого Петра. Это выглядело особенно ироничным в свете известного отношения распорядившегося о переименовании Николая II к «чудотворному строителю». Ведь Николай говорил о Петре Великом: «Это предок, которого менее других люблю за его увлечение западной культурой и попирание всех чисто русских обычаев».
Впрочем, время для дискуссий о правомерности нового имени для столицы, с тщательным взвешиванием аргументов «за» и «против», было явно неподходящим. Блок, лаконично отметив в своей записной книжке: «Петербург переименован в Петроград», – тут же перешел к более важным для него в тот момент страшным вестям с фронта. – «Мы потеряли много войск. Очень много».
Лишь через пять лет эмоциональный описатель достопримечательностей Петербурга Николай Анциферов, уже зная, что произошло в 1917 году, проанализирует этот, вне всякого сомнения, роковой момент в истории города: «Лишение его векового имени должно было ознаменовать начало новой эры в его развитии, эры полного слияния с когда-то чуждой ему Россией. «Петроград» станет истинно русским городом. Но в этом переименовании увидели многие безвкусицу современного империализма, знаменующую собой и его бессилие. Петроград изменяет Медному Всаднику. Северную Пальмиру нельзя воскресить. И рок готовит ему иную участь. Не городом торжествующего империализма, но городом всесокрушающей революции окажется он. Оживший Медный Всадник явится на своем «звонко-скачущем коне» не во главе победоносных армий своего злосчастного потомка, а впереди народных масс, сокрушающих прошлое…»
Пока что все наблюдатели соглашались, что лицо объявленного на военном положении Петрограда резко изменилось. Первое же дыхание войны, горько заметил Лившиц, сдуло румяна с щек завсегдатаев «Бродячей собаки». Русская столица, как много раз повторяла потом Ахматова, прощалась с XIX веком:
- А по набережной легендарной
- Приближался не календарный —
- Настоящий Двадцатый Век.
Люди в Петрограде, вспоминал современник, сразу разделились на две части: на уходящих на фронт – и тех, кто оставался в городе. «Первые, независимо от того, уходили ли они по доброй воле или по принуждению, считали себя героями. Вторые охотно соглашались с этим, торопясь искупить таким способом смутно сознаваемую за собою вину».
Среди уходящих с армией был Гумилев, воспринявший войну с прямолинейной горячностью. В свое время освобожденный от воинской повинности по косоглазию, он с трудом добился разрешения стрелять с левого плеча и отправился на фронт добровольцем в составе эскадрона лейб-гвардии Уланского полка. Уже в октябре Гумилев участвовал в боях, а в конце 1914 года получил свой первый Георгиевский крест.
«Патриотизм его был столь же безоговорочен, как безоблачно было его религиозное исповедание», – вспоминал о Гумилеве первых дней войны хорошо знавший его критик Андрей Левинсон. Этот «просветленный и экзальтированный» патриотизм Гумилева естественно изливался в стихах:
- И воистину светло и свято
- Дело величавое войны,
- Серафимы, ясны и крылаты,
- За плечами воинов видны.
Еще в самом начале сражений Гумилев и Ахматова, встретив Блока, вместе пообедали. Говорили, конечно же, о войне. Когда Блок ушел, Гумилев заметил печально: «Неужели и его пошлют на фронт? Ведь это все равно что жарить соловьев…»
Блок, инстинктивный пацифист по убеждениям, явно не разделял милитаристской экзальтации Гумилева. На фронт Блок не пошел и писал о войне: «Казалось минуту, что она очистит воздух: казалось нам, людям чрезмерно впечатлительным; на самом деле она оказалась достойным венцом той лжи, грязи и мерзости, в которых купалась наша родина…»
Военные действия начались для России удачно; в Петрограде предсказывали, что к Рождеству русские войска войдут в Берлин. Но затем ситуация изменилась: за первые 11 месяцев кровопролитных сражений русские потеряли больше 1,5 миллиона ранеными, убитыми и взятыми в плен. В объявленной на военном положении столице распространялись слухи о катастрофической нехватке оружия и амуниции, о бездарности и трусости генералов, о воровстве и взяточничестве в системе снабжения армии. Все громче говорили об измене, о том, что немка-императрица и ее любимец, всесильный Распутин, ведут страну к гибели.
Петроград распух от беженцев из западных губерний. Ходить по городу разрешалось только до восьми часов, но, по утверждению Виктора Шкловского, ночью по Невскому безнаказанно шлялись толпы проституток. Вообще, число мужчин в городе постепенно уменьшалось; иногда могло показаться, что Петроград стал «женской» столицей. О войне напоминала и нехватка продуктов, и все большее число раненых на улицах. В пользу раненых устраивались многочисленные благотворительные концерты, на которых часто выступала и Ахматова.
Война резко изменила ее привычки и образ жизни. Влияние Гумилева здесь несомненно. Изменилась и поэзия Ахматовой. Но ее муза откликнулась на войну по-иному. О Гумилеве говорили, что «его переживание войны было легким, восторженным». В стихах Ахматовой на военные темы не было и следа восторженности. Слушая их, аудитория замирала в томительном предчувствии. Особым успехом пользовалось ее напечатанное в сборнике «Война в русской поэзии» стихотворение «Молитва»:
- Дай мне горькие годы недуга,
- Задыханья, бессонницу, жар,
- Отыми и ребенка, и друга,
- И таинственный песенный дар —
- Так молюсь за Твоей Литургией
- После стольких томительных дней,
- Чтобы туча над темной Россией
- Стала облаком в славе лучей.
Самозабвенность ахматовской «Молитвы», в 1915 году казавшаяся, возможно, естественной и своевременной, ныне сначала эпатирует, а затем ужасает. Это действительно страшные стихи, почти кощунственные в своем ригористичном, шокирующем патриотизме. И особенно они страшны теперь потому, что нам известно; никто из восторгавшихся ими в годы Первой мировой войны, ни даже их автор не знали – не догадывались – о том, с какой беспощадностью и полнотой жертва, предложенная Ахматовой, будет принята.
Война между тем продолжала перемалывать миллионы человеческих жизней. Над европейскими столицами нависла черная туча, и нигде, быть может, настроение не было столь подавленным и угнетенным, как в Петрограде. Мережковский пустил в ход подхваченное другими русскими интеллектуалами определение господствующего состояния: «одичание». Блок, вернувшись с прогулки к Медному Всаднику, записывал: «На памятнике Фальконета – толпа мальчишек, хулиганов, держится за хвост, сидит на змее, курит под животом коня. Полное разложение. Петербургу – finis».
Гигантская государственная машина страны разваливалась. Николай II терял вожжи управления империей. Взгляд на функции последнего русского монарха кратко выразил один из его вельмож в своих мемуарах: «Государством правила его жена, а ею правил Распутин. Распутин внушал, царица приказывала, царь слушался».
Как всякая формула, и эта, конечно, упрощена. Убийство Распутина придворными заговорщиками в декабре 1916 года надвигавшейся катастрофы не остановило. (Ахматова потом иногда вспоминала, как, услышав об этом убийстве, люди возрадовались.) Но роль личности (или отсутствие таковой) в крахе русской империи несомненна, если иметь в виду самого Николая II, ибо в России, по справедливому замечанию одного историка, «самодержец не символ строя, а самый строй».
Часто повторяют, что спокойный, приветливый и образованный Николай II был бы идеальным конституционным монархом в стране вроде Англии. Но для единоличного управления огромной Россией в кризисный момент ему определенно не хватало ни решимости, ни воли, ни размаха. Эти качества подменялись у императора упрямством и тотальной убежденностью в том, что народ и армия обожают своего батюшку-царя, а мутят воду только интеллектуалы, окопавшиеся в «гнилом Петербурге».
Подобная манера управления страной была, без сомнения, одной из причин того, что вскоре Николай II потерял власть. В июле 1918 года он вместе с семьей был расстрелян большевиками на Урале, где император тогда содержался под стражей местного Совета.
Но в начале 1917 года Николай II еще даже не задумывался о подобной зловещей возможности, хотя его империя, и в особенности ее столица, бурлила. Зинаида Гиппиус вспоминала: «Война всколыхнула петербургскую интеллигенцию, обострила политические интересы… Деятели самых различных поприщ, – ученые, адвокаты, врачи, литераторы, поэты, – все они так или иначе оказывались причастными политике… для нас, не потерявших еще человеческого здравого смысла, – одно было ясно: война для России, при ее современном политическом положении, не может окончиться естественно; раньше конца ее – будет революция».
К январю 1917 года даже убежденные монархисты вроде Гумилева разуверились в войне, осознав ее бессмысленность и бесперспективность. Гумилев в это время, по воспоминаниям друга, открыто возмущался «глупыми приказами и тупым мышлением» начальников. Это жестокое разочарование в системе охватило всю иерархическую лестницу империи, от прапорщика Гумилева до крупнейших сановников. Поразительны по откровенности записи в дневнике директора императорских театров Теляковского 26 января 1917 года: «Надо быть совсем слепым, тупым, чтобы не чувствовать, что дальше так нельзя править страной…» 29 января: «Плохо, и давно плохо, в России жить, но теперь становится невыносимо, ибо это уже не плохое правление, а какое-то глумление над подданными». И так далее, страница за страницей.
Петроград охватывала анархия, но именно в это время императорский Александринский театр показал самый, быть может, знаменитый спектакль предреволюционной России: драму Михаила Лермонтова «Маскарад» в постановке Мейерхольда с декорациями Головина. Все в этом спектакле было легендарным. Его репетиции, длившиеся под руководством Мейерхольда уже более пяти лет, сами по себе превратились в своеобразный театральный ритуал. Головин сделал для «Маскарада» 4 тысячи рисунков костюмов, грима, мебели и другой бутафории, побив все рекорды, известные в истории русского театра. «Маскарад» обошелся в невероятную даже для, видимо бездонной, императорской казны сумму в 300 тысяч рублей золотом.
Лермонтову, убитому в 1841 году на дуэли на 27-м году жизни, и не снилось, что его юношеская драма, которую он так и не увидел на сцене, будет когда-нибудь поставлена с такой неслыханной, сказочной роскошью. «Маскарад» был типичной романтической мелодрамой из жизни великосветского Петербурга, в которой герой, ревнивец Арбенин, отравлял свою жену.
Дерзкий и независимый Лермонтов любил набрасывать рисунки Петербурга, поглощенного разъяренным морем. «В таком изображении, – вспоминал хорошо знавший Лермонтова граф Соллогуб, – отзывалась его безотрадная, жаждавшая горя фантазия». Но даже фаталист и пессимист Лермонтов вряд ли мог предугадать, что постановка его «Маскарада», которую сами актеры прозвали «Закат Империи», окажется последним спектаклем старой России, погибающей в волнах революционного наводнения. Это совпадение было верхом романтической иронии.
В неоконченном романе Лермонтова «Княгиня Лиговская» (1836), действие которого происходит в Петербурге, топография города размечена весьма точно. В этом смысле (как и во многих других) Лермонтов оказался новатором, предвосхитив детальные описания столицы в прозе Достоевского. Как остроумно заметил Леонид Долгополов, эта топографическая точность связана, всего вероятнее, с тем, что и Лермонтов, и Достоевский получили военное образование.
Но Лермонтов не узнал бы прямых проспектов Петербурга в февральские дни 1917 года, когда они были заполнены толпами народа. Демонстрации протеста ширились; одна из них даже прервала репетицию «Маскарада» в Александринском театре, когда актеры бросились к окнам и в страхе наблюдали, как громадная лавина рабочих молча двигалась по Невскому. Над головами демонстрантов колыхались транспаранты с требованиями хлеба. Исполнитель роли Арбенина, любимец публики Юрий Юрьев вспоминал, что «в этой сосредоточенности молчаливой массы чувствовалось нечто угрожающее…».
События вокруг «Маскарада» развивались гротескным и символическим образом. Несмотря на то что в городе совершенно определенно складывалась взрывная, революционная обстановка, министр императорского двора настоял на том, чтобы не отменять премьеры. В очередной раз в истории России соблюдение ритуала оказалось важнее всего.
Мейерхольд, ощущая всю трагическую парадоксальность ситуации, был тем не менее возбужден. Не в первый раз интуиция Мейерхольда подсказывала ему художественный выбор, политическая наивность которого граничила с вызовом. В 1913 году, в дни пышных торжеств по случаю 300-летия царствующей династии Романовых, он поставил на сцене Мариинского театра оперу Рихарда Штрауса «Электра», где была сцена обезглавливания царских особ.
В «Маскараде» главной задачей Мейерхольда было создание уникальной режиссерской партитуры, согласно которой буквально каждое слово актера имело точный эквивалент в его жестах или движениях. На бесчисленных репетициях Мейерхольд искал точную схему перемещения каждого из сотен статистов, занятых в «Маскараде», на огромном пространстве сцены Александринского театра. Итоговая сложнейшая виртуозная система взаимодействия актеров в спектакле одним из критиков была названа «оперой без музыки». Так закладывались основы «биомеханики» – знаменитого в будущем авангардного театрального учения Мейерхольда.
Премьера «Маскарада» была назначена на 25 февраля. В городе в этот вечер было пустынно и жутко, но у подъезда Александринского театра автомобили стояли черными сплошными рядами: на спектакль съехалась вся знать, все богатеи столицы. Несмотря на то что билеты стоили огромных денег, все они были раскуплены. К своему величайшему изумлению, Юрьев увидел в царских ложах театра великих князей.
Головин оформил сцену как продолжение зала. Торжествовали трагические черные и красные цвета. На сцене под пряную музыку Глазунова и томный «Вальс-фантазию» Глинки веселилось, интриговало и неслось к гибели высшее общество имперской столицы. За этим спектаклем из зала наблюдало обреченное на гибель настоящее высшее общество той же столицы. Никакой романтический автор с самым буйным воображением не выдумал бы более символической и мелодраматической сцены.
Действие «Маскарада» перебрасывалось из игорного дома на маскарад, когда перед ошеломленными зрителями на сцене кружились мириады масок. Затем – на бал… Блестящая игра актеров, особенно Юрьева, декорации, костюмы, музыка сливались в умопомрачительный гобелен. Даже пресыщенные, привыкшие ко всему завсегдатаи премьер ахали от нагромождения театральных эффектов. Правда, один из критиков написал (конечно, уже после революции), что ему было страшно наблюдать за спектаклем: «…так близко, в одном городе, рядом с голодными и хлеба алчущими – эта художественно-развратная, нагло-расточительная, бессмысленно-упадочная роскошь ради прихоти. Что же это – Рим цезарей? Что же, отсюда мы поедем к Лукуллу кушать соловьиные языки, и пусть кричит голодная сволочь, ищущая хлеба и свободы?»
Кончался спектакль жуткой сценой православной панихиды: специально приглашенный Мейерхольдом церковный хор словно отпевал режим, страну, ее столицу. Занавес опустился не только над «Маскарадом» Лермонтова, но и над пышным, захватывающим и трагичным маскарадом целой эпохи.
Аплодисментам, казалось, не будет конца. Авансцену завалили корзинами с цветами и лавровыми венками. Когда на поклоны вышел исполнитель главной роли Юрьев, публика встала. Вдруг наступила тишина, в которой торжественно прозвучало объявление о том, что Юрьев удостоен подарком самого Николая II – золотым портсигаром, украшенным бриллиантовым орлом. Хотя немногие тогда могли вообразить, что эта императорская награда окажется последней в истории русской сцены, театральные завсегдатаи переглянулись, иронически улыбаясь.
Известно было, что Юрьев – гомосексуалист, своей сексуальной ориентации вовсе не скрывавший. Подарок царя, человека весьма викторианских воззрений, выглядел странно: из памяти публики еще не изгладился скандал 1911 года, когда из императорских театров был внезапно уволен блестящий танцовщик Вацлав Нижинский. Поводом к увольнению был слишком смелый, по утверждению дирекции, костюм Нижинского. Но молва настаивала, что подлинной причиной наказания являлась вызывавшая неудовольствие царской семьи любовная связь танцовщика с Дягилевым.
Ахматова, бывшая среди публики в вечер премьеры «Маскарада», в 60-е годы утверждала, что царский подарок – золотые часы – получил также и Мейерхольд. Спектакль ей не понравился: «Слишком много мебели на сцене… А Юрьева я никогда не ценила». Больше всего ей запомнилось то, как трудно было уехать со спектакля. «На Невском проспекте грохотали выстрелы, конники с обнаженными шашками наезжали на случившийся народ; на крышах и чердаках ставились пулеметы».
Ни автомобиля, ни собственного экипажа у Ахматовой не было, а извозчики отказывались везти ее из театра на Выборгскую сторону, где она тогда жила. Они сконфуженно объясняли Ахматовой, что ехать так далеко – невозможно, могут убить. «Барышня, у меня двое детей», – оправдывался один извозчик; другой, покряхтев, все же поехал. «Наверное, у него не было детей», – меланхолично вспоминала Ахматова. А навстречу ее пролетке по улицам Петрограда уже шли восставшие войска.
Через несколько дней Николай II, увидев, что он более не в силах контролировать страну, нехотя отрекся от престола. Монархия в России пала, власть в Петрограде перешла формально в руки Временного правительства (которое немедленно объявило амнистию политическим заключенным), а фактически – в руки Совета рабочих и солдатских депутатов, контролировавшего войска, железные дороги, почту и телеграф. Все соглашались, что свергнувшая царя народная революция была гигантской импровизацией; по словам Виктора Шкловского, она «произошла, а не была организована». Шкловскому эта революция представлялась «вещью легкой, ослепительной, ненадежной, веселой».
Петроград сотрясали беспрерывные митинги, на которых пылкие ораторы часами произносили вдохновенные речи перед зачарованной аудиторией. Война с немцами, от которой все устали, между тем продолжалась. Свобода не принесла также и хлеба, с продовольствием в столице было по-прежнему трудно. Революция развивалась зигзагами. Вскоре одним из самых известных политических деятелей Петрограда стал вернувшийся недавно в столицу из изгнания Владимир Ленин.
Ленин и его коллега по партии, Лев Троцкий, оба прославились как гипнотические ораторы, каждый в своем стиле. Троцкий увлекал темпераментом, Ленин убеждал кажущейся простотой и логикой. Временное правительство не могло объяснить солдатам, почему война нужна, а рабочим – почему закрываются фабрики; оно также оттягивало передачу земли крестьянам. С балкона элегантного особняка Кшесинской (балерина бежала оттуда в дни революции, и большевики превратили ее дворец в свою штаб-квартиру) Ленин доказывал, что войну надо прекратить, и обещал народу немедленное благосостояние, как только будет уничтожена власть буржуазии. Гениальный политик, превосходно понимавший психологию толпы, Ленин простым языком говорил о ясных целях, убеждая усталые и голодные массы, что возможно мгновенное решение всех сложных проблем.
Петроградская интеллигенция пребывала в полной растерянности. Ее сердца по большей части принадлежали умеренно-либеральной партии конституционных демократов (в сокращении – кадеты), одно время задававшей тон во Временном правительстве. Однако, видя, что умеренные быстро теряют вожжи правления, наиболее проницательные члены петроградской элиты попытались установить контакты и с большевиками, одним из видных лидеров которых в Петрограде был публицист и драматург Анатолий Луначарский. Среди большевиков Луначарский числился экспертом по культуре. Поэтому именно его Юрьев, ведущий актер Александринского («бывшего императорского») театра, осенью 1917 года внезапно пригласил к себе на квартиру, чтобы обсудить «судьбы столичной культуры».
Явившись к Юрьеву, Луначарский застал в уютной квартире с бархатными креслами человек 40 наиболее известных актеров. Среди них Луначарский с удивлением увидел импозантную фигуру одного из руководителей партии кадетов, Владимира Набокова (отца будущего знаменитого писателя). Дипломатичный Юрьев объявил, что он, как и все, понимает – на страну надвигается политическая буря, неизвестно, какое правительство придет к власти завтра. А потому он просит Луначарского и Набокова, каждый из которых имеет шансы в недалеком будущем стать русским министром культуры, изложить свои взгляды на театральное дело.
В ответ красноречивый Луначарский произнес полуторачасовую речь, успокаивая актеров, что в случае своей победы большевики не закроют старые «буржуазные» театры. Набоков же, в типичной для русских либералов манере, от дискуссии с большевистским парвеню уклонился, заявив с иронической улыбкой, что никаких утопических программ его партия предложить не может.
Вероятно, Набокову казалось, что он выглядит солидно и реалистически. На самом деле это была характерная для ситуации тех дней сдача позиций без боя большевикам, хотя бы и в частном вопросе. В тот решающий для русской истории период множество подобных эпизодов разыгрывалось во всех сферах жизни Петрограда с аналогичными результатами. Повсюду большевики наступали.
Месяцы проходили в политическом маневрировании, в попытках переворотов справа и слева, в то время как солдаты и рабочие столицы продолжали бурлить, митинговать и выдвигать все более радикальные требования. Утром 25 октября по городу были расклеены плакаты, объявлявшие о низложении Временного правительства и переходе всей власти к Советам.
Вечером того же дня в Мариинском театре давали два балета – «Щелкунчик» и произведение Михаила Фокина «Эрос», поставленное на музыку «Струнной серенады» Чайковского; этот балет, вне всякого сомнения, был одним из импульсов, побудивших впоследствии Джорджа Баланчина создать свою знаменитую «Серенаду». Публика возбужденно обменивалась последними известиями, передавая из рук в руки развернутые вечерние газеты, которые медленно плыли по рядам, как белые лебеди. Все ожидали атаки большевиков на Зимний дворец, где все еще заседало парализованное страхом Временное правительство.
Когда спектакль начался, зрители вздрогнули от явственного звука орудийного выстрела: это стоявший на Неве напротив Зимнего дворца крейсер «Аврора» дал холостой выстрел, оглушительные раскаты которого разнеслись по всей столице. Ворвавшиеся в Зимний дворец большевики арестовали министров Временного правительства. Во главе нового правительства (названного Советом Народных Комиссаров) стал невысокий, широкогрудый, рыжий Ленин, 47-летний профессиональный революционер с максималистской программой, уверенный в своем мессианском предназначении.
В начале своего правления Ленин и его большевистские соратники по правительству серьезно сомневались в том, что они будут в состоянии удержать власть, которая так неожиданно – и для них самих, и для их непримиримых врагов – свалилась им в руки. Один молодой художник на другой день после переворота заглянул в совершенно пустой Зимний дворец, где наткнулся на нового министра культуры – народного комиссара просвещения Анатолия Луначарского (прав оказался артист Юрьев). Луначарский философски заметил художнику, что большевикам, по-видимому, «здесь сидеть не больше двух недель, потом их повесят вот на этих балконах».
Про Временное правительство презрительно говорили, что оно заседает не сидя, а стоя. Большевики, установив в Петрограде самый радикальный в истории коммунистический режим, тоже чувствовали себя крайне неуверенно. Их окружало море вражды.
Уже через несколько дней после переворота петроградские театры, протестуя против «беззаконного правительства Ленина и Луначарского», прекратили работу. Когда Луначарский объявил, что хочет встретиться с интеллектуалами, готовыми к сотрудничеству, на прием к нему пришли всего шесть или семь человек, без труда разместившихся на одном диване. (Правда, среди них были такие талантливые люди, как Блок, Маяковский, Альтман и Мейерхольд.) Открыто объявляя таким образом о готовности сотрудничать с новым неустойчивым режимом, эти люди серьезно рисковали. От них отвернулись многие друзья, и в случае вполне возможного – и ожидаемого большинством – незамедлительного и кровавого поражения большевиков Блока или Маяковского могли повесить, как это грозились сделать враги советской власти. (Мейерхольд вскоре пошел еще дальше, вступив в коммунистическую партию.)
К этой небольшой, но представительной группе интеллектуалов, готовых сотрудничать с советской властью, вскоре присоединился и лидер группы «Мир искусства» Бенуа. Луначарский в секретном докладе Ленину сообщил о Бенуа, что тот «приветствовал Октябрьский переворот еще до октября». Имелось в виду вот что. В апреле 1917 года, когда Ленин и большевики, рвясь к власти, ожесточенно нападали на курс Временного правительства на «войну до победного конца», Бенуа писал в одной из своих статей: «Да успокойтесь же, друзья, не сжигайте всех кораблей своего идеализма только потому, что в тот же порт вошел дредноут Ленина и эскадра вообще левых. Ей-ей, ужиться можно будет и с ними. Ну, кое-что придется уступить, ну, кое-что придется устроить иначе, ну, кое в чем вам станет менее удобно и, во всяком случае, менее привычно. Но, во-первых, жизнь в целом от этого не только не станет хуже, а станет лучше. А затем, разве уж так трудно кое с чем расстаться, раз вам вместе с этим обещают такое предельное счастье, такой абсолют счастья, как возобновление чисто человеческих отношений между людьми вообще, раз кончится это царство пошлости, крови и лжи, каким является война, раз можно будет снова думать о дальнейших этапах на пути к общему благу вселенной?»
Это красноречивое, но политически прекраснодушное заявление, которое сейчас кажется настолько наивным, что вызывает даже что-то вроде умиления, в тот момент было довольно смелым актом, ибо шло наперекор здравому смыслу и общественному мнению (во всяком случае, в интеллектуальных кругах столицы). Не удивительно, что большевики поначалу приняли Бенуа с распростертыми объятиями. Он вместе с Блоком занимался тысячью больших и маленьких дел – в частности, принял участие в обсуждении проведенной большевиками довольно-таки решительной реформы русской орфографии.
Это была одна из бесчисленных реформ новой власти; согласно другой, первый день после 31 января 1918 года было предписано считать не 1-м, а 14-м февраля – «в целях установления в России одинакового со всеми культурными народами исчисления времени». Так страна перешла от юлианского календаря, которым пользовалась с 1699 года, к западному (григорианскому) календарю.
Это нововведение даже монархисты одобрили. Директор музея Эрмитаж граф Дмитрий Толстой написал жене почти пророчески: «Проскочили по большевистскому повелению четырнадцать дней жизни – это единственное разумное, что оставит России большевистское правление». Изменения же в орфографии консерваторами были приняты в штыки, и, к примеру, Игорь Стравинский, как и многие другие русские эмигранты, продолжал писать по старой орфографии до последних дней своей жизни.
Жизнь в большевистском Петрограде погружалась в хаос, озверевшие толпы громили склады и винные погреба. В ответ правительство приказало уничтожить винные запасы. Ахматова с содроганием вспоминала, как она с Мандельштамом, проезжая по Петрограду, сначала почувствовала сильный коньячный запах, а затем увидела огромные коричневые глыбы замерзшего коньяка.
В городе постоянно слышалась перестрелка. Несмотря на объявленное Лениным желание заключить мир, немцы развернули наступление на Петроград. Блок записал в дневнике, в обычном своем мистически-популистском стиле: «Только – полет и порыв; лети и рвись, иначе – на всех путях гибель». И дальше: «Немцы продолжают идти… Если так много ужасного сделал в жизни, надо хоть умереть честно и достойно».
21 февраля на заседании Совета Народных Комиссаров Ленин огласил воззвание: «Германские генералы хотят установить свой «порядок» в Петрограде… Социалистическая республика Советов находится в величайшей опасности». Большевики обратились к «трудящемуся населению»: «Все развращенные элементы, хулиганы, мародеры, трусы должны быть беспощадно изгнаны из рядов армии, а при попытках сопротивления – должны быть стерты с лица земли… В Петрограде, как и во всех других центрах революции, необходимо железной рукой поддерживать порядок».
По городу поползли слухи, что правительство во главе с Лениным готово бежать в Москву. Большевики официально объявили, что слухи эти совершенно ложны, хотя в тот день, когда это категорическое опровержение появилось в печати, Ленин уже составил текст постановления о переезде правительства и переносе столицы из Петрограда в Москву. (Конечно, это был не первый и не последний случай, когда слова и дела большевиков не совпадали.)
Сначала эта эвакуация эвфемистически называлась «разгрузкой» Петрограда. Еще Временное правительство решило, что некоторые важные компоненты военной промышленности должны быть вывезены из Петрограда в глубь страны. Ленин активизировал этот процесс. Но подготовляемое бегство из Петрограда почти всей большевистской верхушки и правительственного аппарата держалось в полном секрете: боялись террористических актов. Совсем недавно, 1 января 1918 года, автомобиль Ленина был обстрелян, когда большевистский вождь возвращался с армейского митинга в Михайловском манеже.
Приехав в Нью-Йорк в середине 70-х годов, я познакомился с последним оставшимся в живых участником этого легендарного покушения, Николаем Мартьяновым. Вежливый, сдержанный Мартьянов говорил мне, что считает Ленина очень везучим человеком, потому что среди нападавших на него тогда, в 1918 году, были самые меткие стрелки русской армии, но Ленина даже не оцарапало: «Просто удивительное счастье у него было!»
Неунывающий Мартьянов с товарищами тут же стали готовить новую атаку на Ленина, но были арестованы по доносу. Им грозил неминуемый расстрел, когда внезапно пришло распоряжение Ленина: «Дело прекратить. Освободить. Послать на фронт». Как прокомментировал один из сотрудников Ленина, «громадное благородство было проявлено здесь Владимиром Ильичем…».
10 марта 1918 года в 10 часов вечера на специальном поезде № 4001 Ленин и его соратники выехали из Петрограда в Москву. Поезд шел довольно долго, почти сутки, и за это время Ленин успел написать статью, где говорилось: «История человечества проделывает в наши дни один из самых великих, самых трудных поворотов, имеющих необъятное – без малейшего преувеличения можно сказать: всемирно-освободительное – значение». Для Петрограда, во всяком случае, эти дни имели действительно историческое и роковое значение. 16 марта Всероссийский съезд Советов утвердил сформулированное Лениным постановление: «В условиях того кризиса, который переживает русская революция в данный момент, положение Петрограда как столицы резко изменилось. Ввиду этого съезд постановляет, что впредь до изменения указанных условий столица Российской Социалистической Федеративной Советской Республики временно переносится из Петрограда в Москву».
И эта декларация была не более чем дымовая завеса. Это ясно, в частности, из секретного рапорта Луначарского в Совет Народных Комиссаров, написанного в начале марта 1918 года, но опубликованного только в 1971 году: «Правительство твердо и совершенно правильно решило покинуть Петербург и перенести столицу Советской России в Москву даже в том случае, если мы получим более или менее длительное замирение». И далее Луначарский точно и безжалостно предсказывает (продолжая называть столицу по-старому, Петербургом, как это делали и многие другие ее обитатели), каковы будут последствия этого важнейшего шага: «Петербургу придется круто. Он вынужден будет болезненно пережить процесс свертывания и в экономическом, и в политическом отношении. Конечно, правительство всемерно постарается облегчить этот мучительный процесс, но все же нельзя будет спасти Петербург от обострения продовольственного кризиса, от дальнейшего роста безработицы…»
Самое интересное, что в тот момент интеллектуалы Петрограда в своем большинстве вовсе не оценивали эту драматическую перемену пессимистически. Их настроение с сарказмом описала в передовой статье, озаглавленной «Рано пташечки запели», большевистская «Красная газета»: «В связи с эвакуацией среди буржуазии своеобразное ликование. Им кажется, что по эвакуации уйдут из Петрограда и ненавистные им большевики и снова станет у власти прежняя городская Дума и настанет буржуазный рай». Блок в своей записной книжке 11 марта пометил, как всегда, лаконично: «Бегство» в Москву, паника, слухи».
16 марта большевикам удалось подписать сепаратный мир с немцами, и Петроград избежал немецкой оккупации. У элиты бывшей столицы это известие вызвало смутные надежды. Та же «Красная газета» издевалась: «По городу пошел слух о том, что Петербург будет объявлен вольным городом. В публике – на улицах, в трамвае, в кафе – можно многое услышать о будущем «вольном» Петербурге. Так называемая «чистая публика» строит свою веру в этот приятный ее сердцу слух на эвакуации столицы и выезде правительства в Москву: «Уехали ведь они недаром, говорят, есть такой тайный пункт в мирном договоре, чтобы Петроград стал международным городом…» Буржуазия строит свои самые фантастические надежды на нелепых слухах, и всюду, где собирается сытая публика, говорят об этих надеждах. Да это и понятно: что осталось делать разбитой на всех позициях буржуазии, как не мечтать о неосуществимом?»
Кто удивится тому, что в марте 1918 года население Петрограда больше верило самым фантастическим слухам, чем декретам и редакционным статьям в официальных газетах? Люди отказывались смотреть правде в глаза, еще не понимая, что круг русской истории замкнулся. Когда-то Пушкин так описал перенос Петром Великим столицы русской империи из Москвы в Петербург:
- И перед младшею столицей
- Померкла старая Москва,
- Как перед новою царицей
- Порфироносная вдова.
Только в 1919 году Анциферов признался сам себе: «В космическом ветре русский империализм нашел свою трагическую кончину. Петербург перестал венчать своей гранитной диадемой Великую Россию. Он стал Красным Питером. А Москва, порфироносная вдова, стала вновь столицей, стольным градом новой России. А Петербург?» И Анциферов отвечает на свой риторический вопрос, цитируя пророческие строки из написанного еще перед Первой мировой войной эпического романа Андрея Белого «Петербург»: «Если же Петербург не столица, то – нет Петербурга. Это только кажется, что он существует».
Утрата статуса столицы нанесла Петрограду ужасный удар. Сразу обнажились многие слабости города, маскировавшиеся в течение двух столетий массивным вливанием капитала и рабочей силы. Вдруг все вспомнили, что бывшая столица оторвана от остальной России, находится слишком близко к границе, открыта для вражеских атак, что здесь скверный климат, что на город регулярно обрушиваются разрушительные наводнения, а продовольствие и сырье для его промышленности нужно завозить издалека.
Нет сомнения, что все эти соображения были взвешены Лениным перед тем, как он решил – окончательно и бесповоротно – вернуть русскую столицу из Петрограда в Москву, ощущая себя, по собственным словам, полководцем, «который уводит в глубь страны остатки разбитой или заболевшей паническим бегством армии». Но в этом решении, несомненно, присутствовал также и психологический, эмоциональный, почти иррациональный элемент.
Ленин сам говорил, что Россию мало знает. Не менее 15 лет своей короткой жизни (Ленин умер в 1924 году, не дожив до 54 лет) он провел в эмиграции, за границей. Для Ленина Россия олицетворялась Петербургом с его атрибутами имперской власти, всемогущей, постоянно преследовавшей профессионального революционера Ленина полицией и столичными тюрьмами, в одной из которых он, арестованный в 1895 году, провел 14 месяцев (исхитрившись передать на волю вписанный молоком среди строк медицинской книги проект партийной программы).
Ясно, что Ленин питал самые враждебные чувства к монархическому и бюрократическому Петербургу. Но Ленин также презирал и ненавидел петербургскую интеллигенцию, которую считал в массе своей никчемной, бесхребетной, слюняво-либеральной и, главное, контрреволюционной, а потому вредной. Эту антиинтеллектуальную позицию Ленина подтверждают воспоминания о нем многих людей, даже относившихся к Ленину с восхищением.
Один типичный и психологически весьма показательный пример приводит Луначарский. Писатель Максим Горький, всячески защищавший перед Лениным петроградскую интеллигенцию, пришел к вождю большевиков с жалобой на то, что большевистская секретная полиция арестовывает людей, которые до революции скрывали от царских жандармов многих большевиков, в том числе самого Ленина.
На это заявление Горького Ленин, усмехнувшись, возразил, что подобных идеалистов-либералов следует арестовывать именно потому, что они такие «славные, добрые» люди, всегда сочувствующие преследуемым. Раньше они скрывали большевиков от царя, а теперь – контрреволюционеров от большевиков. «А нам, – жестко завершил свой спор с Горьким Ленин, – надо активных контрреволюционеров ловить и обезвреживать. Остальное ясно».
Перенос столицы из Петрограда в Москву был, помимо прочего, также и актом мести Ленина (быть может, во многом бессознательным) петроградской интеллигенции, которую вождь большевиков называл «озлобленной… ничего не понявшей, ничего не забывшей, ничему не научившейся, в лучшем – в редкостно наилучшем случае – растерянной, отчаивающейся, стонущей, повторяющей старые предрассудки, запуганной и запугивающей себя».
Как Петр Великий, порывая с Москвой, как бы начинал русскую историю заново, так и Ленин, оставляя позади себя царскую столицу, утверждал свое право на радикальный эксперимент. Как известно, в Москве интеллигенция сопротивлялась приходу власти большевиков с гораздо большим ожесточением, чем в Петрограде. Но для Ленина это не имело значения именно потому, что другой России, кроме Петербурга, он в сущности не знал.
Решительно и бесповоротно отказываясь от Петрограда, Ленин демонстрировал всему миру (и себе), насколько серьезен отказ нового режима от старой России, ее институций и ее интеллигенции. Уже покинув Петроград, Ленин писал оставшемуся в городе Горькому: «Интеллектуальные силы рабочих и крестьян растут и крепнут в борьбе за свержение буржуазии и ее пособников, интеллигентиков, лакеев капитала, мнящих себя мозгом нации. На деле это не мозг, а говно».
С переездом правительства в Москву грозные предсказания Луначарского о судьбе Петрограда начали немедленно сбываться. Безработица и разруха здесь увеличивались не по дням, а по часам, начался массовый отток населения. В послереволюционные годы городское население сокращалось по всей России. Но и экономический спад, и обезлюдение были самыми разительными именно в Петрограде.
В 1915 году в Петрограде жили 2 миллиона 347 тысяч человек. На 2 июня 1918 года, то есть через два с половиной месяца после потери статуса столицы, в городе числилось уже только 1 миллион 468 тысяч человек. Это стремительное уменьшение неуклонно продолжалось: перепись августа 1920 года показала, что в Петрограде живут только 799 тысяч человек, то есть около 35 процентов дореволюционного населения.
Голодный и холодный город умирал, и многие вспоминали проклятье сосланной в монастырь жены Петра Великого царицы Евдокии: «Санкт-Петербурху пустеет будет!» В XX веке это проклятие не раз принимало угрожающую актуальность. Замерзли водопроводы и уборные. Чтобы согреться, люди жгли мебель, книги, разбирали на дрова деревянные дома. Художник-авангардист Юрий Анненков, впоследствии эмигрировавший во Францию, вспоминал: «Эпоха бесконечных голодных очередей, «хвостов», перед пустыми «продовольственными распределителями», эпическая эра гнилой промерзшей падали, заплесневелых хлебных корок и несъедобных суррогатов. Французы, пережившие четырехлетнюю нацистскую оккупацию, привыкли говорить об этих годах как о годах голода и тяжелых нехваток. Я тоже провел это время в Париже: немного меньшее количество одних продуктов, несколько худшее качество других, поддельный, но все же ароматный кофе, чуть сокращенная электрическая энергия, чуть сокращенное пользование газом. Никто не умирал на обледенелых тротуарах от голода, никто не рвал на части палых лошадей, никто не ел ни собак, ни кошек, ни крыс».
Петроградцы через все это прошли, но что-то удерживало их от полного одичания. Шкловский утверждал: «Этот город не стал провинциальным, он не был взят, потому что он растоплял своим жаром, сжигал своим огнем всех, на него идущих. Картофель, морковка, которую приносили как цветы, стихи и завтрашний день были священны».
Фабрики города перестали дымить, и потому небо над Петроградом стало безоблачным, непривычно голубым. Художники эгоцентрично находили новую прелесть в радикально изменившемся городском пейзаже: «Не стало видно богатых, роскошных экипажей. Исчезла толпа сытых фланирующих людей. Улицы опустели, и город, который раньше был виден как бы до колен, встал во весь свой рост. Бывало, прежде, рисуя его, ждешь иногда несколько минут, когда пройдет вереница людей и даст возможность определить линию основания здания, колонны, памятника или горизонт над рекой. Сейчас совсем свободно».
Но и эта неслыханная трансформация города многим художникам, особенно авангардным, казалась недостаточной. Им хотелось почувствовать себя, хоть на час, подлинными хозяевами бывшей столицы, еще смелее, еще отчаяннее играть с ее все еще величественными и прекрасными площадями, проспектами, дворцами и монументами.
Петроград в те дни был провозглашен «Петроградской Трудовой Коммуной». В вышедшем в конце 1918 года первом номере полуофициальной газеты «Искусство коммуны», редактором которой стал будущий муж Ахматовой Пунин, в качестве передовицы появилось стихотворение футуриста Владимира Маяковского «Приказ по армии искусства»:
- Из сердца старое вытри.
- Улицы – наши кисти.
- Площади – наши палитры.
В другом стихотворении, вскоре тоже помещенном в коммунистической газете, Маяковский уверенно заявлял: «Новый грядет архитектор – это мы, иллюминаторы завтрашних городов». Эти заявления радикального поэта отнюдь не являлись лишь утопическими манифестами. Скорее, они подводили итоги фантастическим художественным экспериментам, уже осуществленным авангардистами в масштабах всего города.
Первая грандиозная театрализованная демонстрация, подражавшая легендарным празднествам Великой французской революции, прокатилась по улицам Петрограда 1 мая 1918 года. Красные знамена, разноцветные лозунги, гирлянды из зелени и флажков покрыли важнейшие здания, площади, мосты и набережные. На огромных плакатах красовались оранжевые солдаты и киноварного цвета крестьяне. Народный комиссар Луначарский носился по городу в автомобиле с одного массового митинга на другой. «Легко праздновать, – заклинал он, – когда все спорится и судьба гладит нас по головке. Но то, что мы – голодный Петроград, полуосажденный, с врагами, таящимися внутри него, – мы, несущие на плечах своих такое бремя безработицы и страданий, гордо и торжественно празднуем, – это по чести – настоящая заслуга».
В Зимнем дворце, неугомонным Луначарским переименованном во Дворец искусств, перед семитысячной аудиторией исполнили «Реквием» Моцарта. Многие впервые слушали классическую музыку, и, как вспоминал Луначарский, маленький мальчик в первом ряду, вообразив, что он в церкви, опустился на колени и так простоял весь концерт.
В небе парили аэропланы; флот, стоявший на Неве, расцветился тысячами флагов. Вечером был устроен небывалый фейерверк, с Петропавловской крепости гремел артиллерийский салют. И завершился этот памятный день тысячным шествием пожарных Петрограда в сияющих медных шлемах и с пылающими факелами в руках.
Когда через несколько месяцев было решено устроить пышные торжества в честь первой годовщины большевистской революции, авангардных художников Петрограда уже пытались оттеснить от участия в декорировании города. Луначарский раздал заказы большой группе художников, скульпторов, архитекторов (не менее 170 человек), среди которых было много реалистов. Но авангардист Натан Альтман, например, все же добился разрешения перемоделировать ни больше ни меньше как Дворцовую площадь (переименованную – в память о недавно убитом видном большевике – в площадь Урицкого), а заодно и находящийся на ней былой символ монархии – Зимний дворец.
В 1966 году Альтман рассказывал мне, что ему хотелось превратить площадь в огромный зал под открытым небом, где революционная толпа наконец-то почувствовала бы себя как дома. Для этого надо было «уничтожить имперское величие площади». На Зимнем дворце и других расположенных на площади зданиях Альтман развесил гигантские агитационные панно, на которых были изображены «новые гегемоны»: исполинские фигуры рабочих и крестьян. В центре площади у Александровской колонны Альтман поставил трибуну, скомпонованную из ярких красных и оранжевых плоскостей, при вечернем освещении создававших ощущение буйного кубистического пламени. Эта революционная трибуна как бы взрывала ассоциировавшуюся в глазах художника со старым миром Александровскую колонну.
Схожим образом авангардисты Петрограда трансформировали Эрмитаж, Адмиралтейство, Академию наук и многие другие исторические здания старого Петербурга. Когда я спросил Альтмана в 1966 году, откуда взялись необходимые для этого громадные средства – ведь только для декораций и панно понадобились десятки тысяч метров холста, – художник, загадочно усмехнувшись, ответил кратко: «Тогда не скупились».
В истории украшения городов этот щедрый и смелый эксперимент, осуществленный в голодном и разрушенном Петрограде, открыл новую страницу. Но голодные и озлобленные городские массы, понятно, встретили «футуристические выкрутасы» группы левых художников враждебно. Современник свидетельствовал: «Чужими и непонимающими шли манифестирующие колонны мимо красных с черным парусов, наброшенных художником Лебедевым на Полицейский мост, мимо зеленых полотен и оранжевых кубов, покрывавших по прихоти Альтмана бульвар и колонну на Дворцовой площади, мимо фантастически искаженных фигур с молотами и винтовками в простенках питерских зданий».
Даже рабочие, демонстрировавшие в поддержку большевиков, смутно ощущали, что над городом, в котором они живут, производится какое-то идеологическое насилие. Для коренных петербуржцев модернистские эксперименты с площадями и дворцами города, проведенные в ноябре 1918 года, ничем не отличались от другого скандального надругательства над историческими ценностями бывшей столицы, учиненного в том же ноябре. В Петроград на съезд Комитетов деревенской бедноты собралось несколько тысяч крестьян, и многие из них были поселены во Дворце искусств (бывшем Зимнем дворце). Когда, закончив прения, крестьяне разъехались, выяснилось, что не только все ванны дворца – до революции официальной резиденции императорской семьи, – но и огромное количество дворцовых севрских, саксонских и восточных ваз музейной ценности были заполнены экскрементами.
Выражая шок петроградской интеллигенции, Максим Горький возмущался демонстративным презрением новых хозяев страны к ее культурному достоянию, с которым они не ощущали абсолютно никакой связи: «Это было сделано не по силе нужды, – уборные дворца оказались в порядке, водопровод действовал. Нет, это хулиганство было выражением желания… ломать, искажать, осмеивать, порочить прекрасное».
Петербургская литература, как бы почуяв смертельную угрозу питающим ее истокам, ринулась на защиту этого прекрасного. В этом она явно запаздывала. Предсказывая грядущие неслыханные катаклизмы, симфонии Чайковского оплакивали великий город еще в XIX веке. Бенуа и его соратники по «Миру искусства» с тем же пророчески-ностальгическим чувством описали и запечатлели столицу в начале века. Но современная «Миру искусства» литература, даже самая новаторская, продолжала удручающе рутинным образом посылать Петербургу проклятья. В этом смысле она оставалась под гипнотическим влиянием Гоголя и Достоевского, ставших кумирами русских символистов.
Здесь важно еще раз подчеркнуть, что многие ведущие символисты выросли в атмосфере преобладания славянофильских идей. Некоторые из них были детьми видных университетских деятелей. С университетским миром их связывали отношения любви-вражды. Радикально перетолковав многое в наследии Гоголя и Достоевского, литераторы-символисты остались под гораздо большим влиянием идей этих авторов, чем русские художники начала века.
Даже соратники Бенуа и Дягилева по журналу «Мир искусства», Мережковский и его жена Гиппиус, в своем отношении к Петербургу не вышли за пределы тем, заданных Гоголем, а затем развитых Достоевским. Гиппиус писала мастерские стихи, а Мережковский – пухлые, в свое время чрезвычайно популярные, исторические романы (среди них специально посвященный Петру Великому, под красноречивым названием «Антихрист», с подзаголовком «Петр и Алексей»), суть которых без особого труда можно было свести к выводу, достаточно безапелляционно сформулированному еще Достоевским: Петербург – явление по отношению к России чужеродное, а посему обреченное на гибель. «Санкт-Петербурху пустеет будет». Это старое проклятье в занятном беллетристическом изложении превращалось в идеологическое клише.
Несравненно более талантливой и значительной была атака на имперскую столицу в романе «Петербург» родившегося в 1880 году в Москве и там же умершего в 1934 году символиста Андрея Белого. Это монументальное произведение, в первой редакции законченное в 1913 году, – несомненная вершина русской символистской прозы. Набоков причислял «Петербург» Белого, наряду с эпопеей Пруста «В поисках утраченного времени», «Улиссом» Джойса и «Превращением» Кафки, к величайшим прозаическим шедеврам XX века, и это мнение разделяется многими специалистами.
Отношение Белого к Петербургу сугубо отрицательное, и в этом смысле он верный продолжатель традиции Гоголя – Некрасова – Достоевского. «Культуру Европы придумали русские; на Западе есть цивилизации; западной культуры в нашем смысле слова нет; такая культура в зачаточном виде есть только в России» – подобные славянофильские пассажи в письмах москвича Белого не редкость. Поэтому признание Белого, сделанное им в письме к своему другу, петербуржцу Блоку, – «В Петербурге я турист, наблюдатель, не житель…» – не должно нас удивлять.
Тот факт, что наиболее заметный модернистский «текст о Петербурге» принадлежит москвичу, оказывается парадоксальным чисто внешне, ибо суть «Петербурга» Белого, как его ни трактуй и ни поворачивай, заключается в принижении и художественном развенчании «незаконной» столицы. (Ахматова в свои поздние годы любила повторять: «Роман «Петербург» для нас, петербуржцев, так не похож на Петербург».) И недаром нобелевский лауреат Иван Бунин, отвергавший роман Белого, заметил раздраженно: «Да и какая идея у книги гнусная – «Быть Петербургу пусту»… чем же Петербург ему не угодил?»
Одним из импульсов к написанию романа Белого стало открытие 23 мая 1909 года конного монумента императору Александру III на Знаменской площади. Созданная отпрыском одной из самых родовитых русских фамилий, родившимся в Италии от американки, скульптором князем Паоло Трубецким, новая статуя вызвала полемическую газетную бурю. На тяжеловесном неповоротливом битюге восседал такой же тяжеловесный и мрачный император.
Многие видели в этом монументе чуть ли не политическую карикатуру, но сам Трубецкой, знаменитый еще и тем, что он ни книг, ни даже газет не читал (вдобавок он не знал ни слова по-русски), на вопрос: «Какая идея заложена в вашем памятнике?» ответил: «Не занимаюсь политикой. Я просто изобразил одно животное на другом».
Ко всеобщему изумлению, на осуществлении именно проекта Трубецкого настояла увидевшая в нем большое портретное сходство вдова Александра III Мария Федоровна, и ее сын, император Николай II, был вынужден с ней согласиться. Как только памятник Александру III был поставлен, по Петербургу стали гулять злые стихи:
- На площади стоит комод,
- На комоде – бегемот,
- На бегемоте – идиот,
- На идиоте – шапка.
Николай II задумал было перенести мозолившее ему глаза изваяние в сибирский город Иркутск, но отказался от своей идеи, когда ему сообщили о новом петербургском бонмо: государь хочет сослать своего батюшку в Сибирь. По иронии судьбы желание последнего русского императора выполнила советская власть: в 1937 году работа Трубецкого была снята с постамента и сослана – правда, не в Сибирь, а в садик рядом с Русским (бывшего Александра III) музеем[40]. Проходя по Русскому музею, я всегда невольно останавливался у одного из его больших окон, чтобы взглянуть на гротескно-приземленный силуэт всадника и коня, столь контрастный летящему вперед Медному Всаднику Фальконе. Контраст этот, разумеется, ощущался еще более остро и болезненно в 1909 году для многих зрителей, в том числе и для Белого; монумент Трубецкого был еще одним эстетическим доказательством тупика пути, по которому направил Россию Петр Великий.
Белый ввел в свой роман и статую Фальконе, и мотивы посвященной ей поэмы Пушкина, но он снял дуализм Пушкина, колебавшегося в оценке роли основателя Петербурга. Для Белого Медный Всадник – фигура из Апокалипсиса, скачущая по Петербургу 1905 года как ужасный символ крушения западнических устремлений русской империи.
Авантюрный сюжет романа Белого – охота революционеров-террористов за важным петербургским чиновником – лишь повод для взрыва фантастических ситуаций, блестящих описаний и мистических теорий (Белый в это время стал фанатическим приверженцем Рудольфа Штейнера и его антропософского учения). На читателя обрушивается литературный шквал огромной силы и темперамента. Белый применяет в своем произведении иронию, гротеск, пафос, пародию (в частности, пародируется самая «петербургская» опера Чайковского – «Пиковая дама»). Он виртуозно использует весь арсенал средств, накопленный его предшественниками Гоголем и Достоевским, и создает совершенно новые эффекты, смешивая страшное, смешное и трагическое в неповторимой манере и с помощью языковых фокусов, о которых Евгений Замятин справедливо заметил, что они соотносятся с русским языком так же, как язык «Улисса» – с английским.
Для исходящего из антропософских постулатов Белого Петербург находится, с одной стороны, на границе земного и космического, с другой – между Западом и Азией. В этом – философская новизна романа; до Белого столица империи рассматривалась лишь в рамках противостояния Запада и России. Но Белый словно взмывает в космос и оттуда видит Петербург зажатым между двумя мирами – «западным» и «азиатским». Для Белого это трагическая ситуация: «Запад смердит разложением, а Восток не смердит только потому, что уже давным-давно разложился!»
Европа, предсказывает Белый, неминуемо погибнет, поглощенная Азией, а Петербург, этот мерзкий пример победы цивилизации над культурой, исчезнет. Русские писатели до Белого, с наслаждением фантазируя об уничтожении своей столицы, призывали обрушиться на город три из четырех стихий: Петербург у них погибал от наводнения, сгорал и испарялся в воздухе как мираж. У Белого в действие вводится четвертая стихия – земля: Петербург в его романе проваливается.
Когда вдохновенный Белый, расширяя свои голубые пронзительные глаза, подпрыгивая и почти взлетая, так что волосы вставали на его голове, как корона, читал отрывки из своего романа на «Башне» у Вячеслава Иванова, завороженные слушатели, кивая в такт гипнотически-ритмизованной прозе, были готовы считать автора пророком. (Кстати, Белый и в самом деле предсказал в 1919 году в своих стихах изобретение атомной бомбы.) Иванов и предложил Белому название «Петербург» для его эпической «поэмы в прозе»: «Петербург в ней – единственный, главный герой».
Блок, которого с Белым связывали типичные для русских символистов отношения дружбы-вражды, осложненные к тому же истерической влюбленностью Белого в жену Блока, записал, познакомившись с романом: «…отвращение к тому, что он видит ужасные гадости; злое произведение; приближение отчаянья (если и вправду мир таков…)».
И еще Блок отметил в этом, по его словам, «сумбурном романе с отпечатком гениальности», поразительные совпадения с собственной поэмой «Возмездие», над которой Блок в те годы трудился, стараясь создать традиционное автобиографическое повествование в стихах, и в которой образ Петербурга занимал значительное место. Действительно, поражает – при очевидном несходстве стилистики – общность отношения к столице москвича Белого и коренного петербуржца Блока.
Славянофильско-символистская доктрина, диктовавшая отрицание «немецкого» Петербурга, оказывалась сильнее непосредственного опыта даже такой независимой личности, как Блок. «Возмездие» Блока и наброски к нему заполнены славянофильскими антипетербургскими штампами. Например, Петр Великий в поэме Блока, как и у Белого, возникает как исчадие дьявола:
- Царь! Ты опять встаешь из гроба
- Рубить нам новое окно?
- И страшно: белой ночью – оба —
- Мертвец и город – заодно…
Подобными же символистскими штампами, следствием смешения славянофильской и модернистско-урбанистической фразеологии, переполнена изобилующая темпераментными курсивами личная переписка Блока: «… – опять страшная злоба на Петербург закипает во мне, ибо я знаю, что это поганое, гнилое ядро, где наша удаль мается и чахнет… живем ежедневно – в ужасе, смраде и отчаянье, в фабричном дыму, в румянце блудных улыбок, в треске отвратительных автомобилей… Петербург – гигантский публичный дом, я чувствую. В нем не отдохнуть, не узнать всего, отдых краток там только, где мачты скрипят, барки покачиваются на окраине, на островах, совсем у ног залива, в сумерки».
Эта внешне парадоксальная любовь Блока к окраинам Петербурга, при ненависти к его «помпезному» центру по своему происхождению также идеологична и вытекает из славянофильских установок. Но в данном случае она все-таки окрашена подлинным чувством, счастливым результатом которого было множество стихотворений, в которых Блок, не называя Петербург по имени, тем не менее дает нам почувствовать тоску; грусть и очарование его окрестностей.
В этих стихах мелькают тени «маленьких» петербуржцев: бродяг, проституток, карточных шулеров, пьяных матросов. Петербург Блока всем этим людям враждебен; в традициях Гоголя, Некрасова и Достоевского гигантский метрополис изображается безжалостным чудовищем. Но мы ощущаем также и пронзительную личную ноту, схожую с городскими наблюдениями Блока в его дневниках, вроде такой, почти «диккенсианской», записи: «Какая тоска – почти до слез. Ночь – на широкой набережной Невы, около университета, чуть видный среди камней ребенок, мальчик. Мать («простая») взяла его на руки, он обхватил ручонками ее за шею – пугливо. Страшный, несчастный город, где ребенок теряется, сжимает горло слезами».
Неудивительно поэтому, что именно Блоку, поначалу с энтузиазмом встретившему большевистский переворот, удалось создать потрясающую картину послереволюционного, вставшего дыбом Петрограда в своей написанной в январе 1918 года знаменитой поэме «Двенадцать». Эти «двенадцать» – идущий по темному, разрушенному городу патруль красногвардейцев, и одновременно они, в воображении Блока, преображаются в двенадцать апостолов, которых возглавляет сам Иисус Христос.
Петроград в «Двенадцати» предстает в серии импрессионистских зарисовок: хлесткий ветер раскачивает огромные политические плакаты, снег, гололедица, стрельба и грабежи на улицах. Несмотря на мистический образ Христа, все это выглядело весьма натуралистично, местами подчеркнуто грубо и вульгарно; поэтому произведение Блока подняли на щит и сторонники, и враги нового режима. Некоторые видели в «Двенадцати» карикатуру на разбойников-большевиков. Других шокировало, что у Блока красногвардейцев по Петрограду ведет Христос. Один писатель в письме своему приятелю негодовал: «А вот и я, и многие миллионы людей сейчас видят что-то другое, совсем не то, чему учил Христос. Так с какой же стати ему вести эту банду? Увидишь Блока, спроси его об этом».
Политические позиции Блока и Ахматовой в этот момент резко разошлись. С начала большевистской революции Ахматова печаталась в либеральных газетах антикоммунистического направления, вскоре закрытых властями. Она также читала свои стихи на митингах с отчетливым антибольшевистским характером.
На одном из них, организованном с целью поддержки политических заключенных, жертв большевистского террора, прошедшем под шапкой «Утро о России», Ахматова читала свое старое стихотворение «Молитва», в новых условиях приобретшее еще более зловещий оттенок. Выступала она в окружении своих друзей: в том же антибольшевистском концерте танцевала Ольга Судейкина и играл на рояле Артур Лурье. Блоку, на собрание это, разумеется, не пошедшему, рассказали, что публика кричала по его адресу: «Изменник!»
Показательно, что Ахматова также отказалась участвовать в другом литературном вечере, когда узнала, что в той же программе будут декламировать «Двенадцать». В своей записной книжке глубоко удрученный Блок назвал это «поразительным известием».
Позднее Ахматова, вспоминая о Петербурге после большевистской революции, утверждала: «Город не просто изменился, а решительно превратился в свою противоположность». Из сходных наблюдений за агонизирующим Петроградом Ахматова и Блок делали, однако, прямо противоположные выводы.
Различия в подходе к петербургскому мифу у Блока и Ахматовой диктовались и индивидуальными, и общими («родовыми») причинами. Играли роль разница в возрасте, принадлежность к разным социальным слоям и литературным школам. Акмеисты, и в их числе Ахматова, были по сравнению с символистами более свободны от воздействия штампов славянофильской, «профессорской» культуры. Поэтому их отношение к Петербургу было более непредвзятым и сочувствующим.
В этом смысле акмеистов многое роднило с Бенуа и его «Миром искусства». С художниками-петербуржцами акмеистов сближало также стремление к гибкой, уверенно-виртуозной линии и прорисованной, почти ажурной детали. В ранних стихах Ахматовой и Мандельштама, двух ведущих акмеистов, есть определенное сходство с рисунками членов «Мира искусства». Как и у этих художников, Петербург в творчестве Ахматовой и Мандельштама перестает быть угрожающим и пугающим, а приобретает обжитые, почти интимные черты. Но есть и различия с «Миром искусства», становившиеся со временем все более существенными.
Акмеисты считали своим предтечей поэта Иннокентия Анненского (1855–1909), автора опубликованного посмертно стихотворения «Петербург», где в наиболее концентрированном виде сформулировано символистское понимание роли города на Неве:
- Только камни нам дал чародей,
- Да Неву буро-желтого цвета,
- Да пустыни немых площадей,
- Где казнили людей до рассвета.
У Ахматовой перед Анненским, помимо почитания поэтического, было особое, личное преклонение. Она всегда с заметным чувством вспоминала слова Анненского, сказанные им, когда его родственник женился на старшей сестре Ахматовой: «Я бы выбрал младшую». Ахматова говорила: «Я веду свое «начало» от стихов Анненского. Его творчество, на мой взгляд, отмечено трагизмом, искренностью и художественной цельностью…»
Для Анненского с Петербургом навсегда связано «сознанье проклятой ошибки». Для акмеистов же существование Петербурга обсуждению не подлежит, этот город для них – данность, и принадлежность к нему – предмет гордости. Поэтому они отбрасывают петербургскую мифологию Анненского, но заимствуют у него трагическую точность и беспощадную зоркость описания, уникальную выразительность пейзажной детали, подобно той, которой открывается его «Петербург»:
- Желтый пар петербургской зимы,
- Желтый снег, облипающий плиты…
Виктор Жирмунский утверждал: «Петербургский пейзаж Ахматовой был ее поэтическим открытием». На самом деле Ахматова многое позаимствовала у Анненского, кое-что у Блока и других символистов. Но пейзаж, который виделся ими как безлюдный, враждебный и исторически беззаконный, у Ахматовой обрастает корнями, легитимизируется и, главное, становится «домашним», своим. У Ахматовой «автобиографическая» героиня ее психологических стихотворных новелл в модернистском ключе свободно передвигается в историческом и временном пространстве Петербурга.
Для Ахматовой Петербург, как и для Анненского, заколдованное место. Но, в отличие от Анненского, от этого город становится ей только милей. Ахматова не чувствует себя чужой —
- Над Невою темноводной,
- Под улыбкою холодной
- Императора Петра.
Улыбка Петра, может быть, и «холодная», но она адресована непосредственно ей, Ахматовой. В одном стихотворении 1914 года Ахматова без оговорок связывает с Петербургом все свое существование: она называет его «блаженной моей колыбелью», «торжественной брачной постелью» и «солеёю молений моих». Удивительное, но типичное для Ахматовой соединение! Это город, в котором живет Муза Ахматовой, город, «горькой любовью любимый».
Так, пожалуй, ни один участник «Мира искусства» в то время не сказал бы и даже не подумал. У них в тот период отношение к Петербургу было любовное, но все же с едва уловимым оттенком снисходительности, точно к предмету, прекрасному и сердцу приятному, но безусловно относящемуся к прошлому. Эти художники восхищались Петербургом, как знатоки – антикварной редкостью.
От подобного подхода акмеисты довольно быстро отказались. Ахматова потом настаивала, что Мандельштам к мирискусническому любованию Петербургом относился «брезгливо». Но сама она чрезвычайно основательно изучила архитектуру старого Петербурга, и на ее и Мандельштама к этой архитектуре отношение Бенуа и К° оказали, вне всякого сомнения, существенное влияние.
Сам Мандельштам вспоминал: «…семи или восьми лет, весь массив Петербурга, гранитные и торцовые кварталы, все это нежное сердце города, с разливом площадей, с кудрявыми садами, островами памятников, кариатидами Эрмитажа, таинственной Миллионной, где не было никогда прохожих и среди мраморов затесалась всего одна мелочная лавочка, особенно же арку Главного штаба, Сенатскую площадь и голландский Петербург я считал чем-то священным и праздничным».
Такое – сугубо интимное и одновременно торжественное, окрашенное историзмом – отношение акмеистов к столице предвещало особую трагичность, с которой Ахматова восприняла резкое изменение лица города на Неве после прихода большевиков к власти:
- Когда приневская столица,
- Забыв величие свое,
- Как опьяневшая блудница,
- Не знала, кто берет ее…
Омри Ронен нашел в этих разгневанных строках отсылку к Книге Пророка Исайи: «Как сделалась блудницею верная столица, исполненная правосудия! Правда обитала в ней, а теперь – убийцы». Но негодование Ахматовой быстро сменилось ужасом от вопиющей деградации любимого города: «Все старые петербургские вывески были еще на своих местах, но за ними, кроме пыли, мрака и зияющей пустоты, ничего не было. Сыпняк, голод, расстрелы, темнота в квартирах, сырые дрова, опухшие до неузнаваемости люди. В Гостином дворе можно было собрать большой букет полевых цветов. Догнивали знаменитые петербургские торцы. Из подвальных окон «Крафта» еще пахло шоколадом. Все кладбища были разгромлены».
Ахматова не уехала на Запад, как это после большевистской революции сделали многие видные деятели русской культуры. Для нее отказ эмигрировать был сознательным, жертвенным актом. Одной из многих и сложных причин этого рокового решения было декларированное Ахматовой стремление спасти хоть какие-то остатки петербургского величия, «дворцы, огонь и воду» бывшей столицы.
Отождествление акмеистами судьбы Петербурга с судьбой России приобретало настолько декларационный характер, что в стихах Мандельштама, например, по наблюдению Сергея Аверинцева, «символом верности русской беде становится Исаакиевский собор», хотя, парадоксальным образом, с чисто архитектурной точки зрения это сооружение поэту не нравилось. Таким образом, акмеисты открыли новый период в истории петербургского мифа: его элементы вновь – после столетнего перерыва – рассматривались со знаком «плюс» в символическом плане, даже если они вызывали субъективно негативное отношение. После умиленного взгляда на город художников «Мира искусства» это был значительный шаг, вызванный резко изменившимися политическими и социальными реалиями.
Многие дореволюционные идеологические противники Петербурга теперь оказались в эмиграции. Для Ахматовой, Мандельштама и Гумилева в тот момент, когда выбор – оставаться в городе на Неве, а не бежать на Запад – был сделан, решение это приобрело ощутимый оттенок жертвенности.
Причастность к страданиям Петрограда окрасилась в мистические тона. Впервые в истории русской культуры неизбежная гибель города интерпретировалась как первый этап его неминуемого же возрождения, но в иной форме.
Таковы предсказания постапокалипсического существования города у Мандельштама: «Трава на петербургских улицах – первые побеги девственного леса, который покроет место современных городов. Эта яркая, нежная зелень, свежестью своей удивительная, принадлежит новой одухотворенной природе. Воистину Петербург самый передовой город мира. Не метрополитеном, не небоскребом измеряется бег современности: не скоростью, а веселой травкой, которая пробивается из-под городских камней».
Ощущение катарсиса перед лицом гибнущего Петрограда с еще большей мистической силой выражено в стихах Ахматовой:
- Все расхищено, предано, продано,
- Черной смерти мелькало крыло,
- Все голодной тоскою изглодано,
- Отчего же нам стало светло?
Иррациональное, почти экстатическое ощущение Ахматовой, что к разваливающимся грязным домам Петрограда «так близко подходит чудесное», расшифровывается Мандельштамом: «Нет ничего невозможного. Как комната умирающего открыта для всех, так дверь старого мира настежь распахнута перед толпой. Внезапно все стало достоянием общим. Идите и берите. Все доступно: все лабиринты, все тайники, все заповедные ходы».
В стихах Мандельштама той поры побеждают ужас и отчаяние, вызванные конвульсиями Петрограда. Жаловаться некому, остается взывать к небесам:
- Прозрачная звезда, блуждающий огонь, —
- Твой брат, Петрополь, умирает!
Но в эссе Мандельштама «Слово и культура» можно прочесть автобиографические строки, проливающие совершенно иной свет на происходящие события: «Наконец мы обрели внутреннюю свободу, настоящее внутреннее веселье. Воду в глиняных кувшинах пьем как вино, и солнцу больше нравится в монастырской столовой, чем в ресторане. Яблоки, хлеб, картофель – отныне утоляют не только физический, но и духовный голод».
Иронический комментарий к подобного рода почти религиозному исступлению и одержимости катарсическими идеями, царившими в умирающем Петрограде, дал в своих записках трезвый и немного циничный наблюдатель, художник Владимир Милашевский: «Ущербное питание, вялые функции физического тела действовали как-то на психику. Она порождала ущербные, странные, искривленные продукты! В монастырях сознательно недоедали, чтобы сильнее веровать, грезить наяву, иметь видения. – Верую! Верую! Верую исступленно!»
К началу 20-х годов Петроград и в самом деле напоминал видение. Мы можем судить об этом по потрясающей серии автолитографий «Петербург в 1921 году» Мстислава Добужинского, родившегося в 1875 году в Новгороде, а умершего в 1957 году в Нью-Йорке. Эта серия была прощанием Добужинского с городом, который он любил больше всего на свете; уже в эмиграции художник вспоминал: «На моих глазах город умирал смертью необычайной красоты, и я постарался посильно запечатлеть его страшный, безлюдный и израненный облик».
Один из участников «Мира искусства», в котором увлечены Петербургом были все поголовно, Добужинский выделялся даже среди них своим феноменальным проникновением в душу столицы. Он не стилизовал, не эстетизировал, не идеализировал старый Петербург. Внимание Добужинского с самого начала привлек современный ему город: «Эти спящие каналы, бесконечные заборы, глухие задние стены домов, кирпичные брандмауэры без окон, склады черных дров, пустыри, темные колодцы дворов – все поражало меня своими в высшей степени острыми и даже жуткими чертами. Все казалось небывало оригинальным и только тут и существующим, полным горькой поэзии и тайны».
Современники Добужинского довольно рано заметили, что наряду с Петербургом Пушкина, Гоголя или Достоевского в литературе, в изобразительном искусстве возник «Петербург Добужинского»: «Стали, например, глядя на туманный закат в Лондоне, говорить, подобно О. Уайльду, что «это закат Тернера», а глядя на каменные спины петербургских построек – что «это стены Добужинского»! Какая магия стиля! Какая сила внедрения своего субъективного видения в душу другого! Словно нам дали другие глаза на некоторые предметы, другие очки…»
Из признаний самого Добужинского ясно, какое огромное воздействие оказал на восприятие художником Петербурга Достоевский. Именно сквозь призму Достоевского увидел поначалу Добужинский имперскую столицу – и стал фиксировать в ней отнюдь не столичные приметы, а окраинные районы, тускло освещенные, пустынные, грустные. Стены, крыши, трубы Петербурга складывались для Добужинского в фантастический пейзаж, исполненный тревоги и ожидания.
Уже в этих ранних работах Добужинский скорее удивляется Петербургу, чем осуждает его. Ахматова впоследствии напишет о том, что она глядит на любимый город «с любопытством иностранки». Хорошо знавший Добужинского Милашевский находил нечто сходное в петербургских работах художника: «У Добужинского есть это ощущение человека, будто впервые только что увидевшего Петербург. Нужно быть уроженцем иных мест, чтобы все предстало в непривычной диковинности. Добужинский и не был уроженцем Петербурга, как Сомов, как Бенуа или Блок, он увидел его впервые юношей, а потом взрослым художником. Но Петербург стал родиной его души».
Все свое восхищение Достоевским Добужинский выразил в иллюстрациях к его «Белым ночам», которым писатель дал подзаголовок «Сентиментальный роман». 17 строгих и прозрачных рисунков для «Белых ночей», исполненных Добужинским в начале 20-х годов, стали его высшим достижением. Эти рисунки с их изумительно угаданными и блестяще осуществленными контрастами черного и белого, рождающими атмосферу светлой печали, смело можно назвать лучшими иллюстрациями к Достоевскому. В то же время они составляют самый вдохновенный лирический гимн Петербургу, когда-либо созданный русским изобразительным искусством. У этого цикла Добужинского в истории русской культуры нет соперников.
Альбом литографий Добужинского «Петербург в 1921 году» стал также ни с чем не сравнимым документом, запечатлевшим трагедию бывшей столицы. Добужинский фиксирует то видящееся ему прощание города с западной цивилизацией, которое в стихах в те же годы выразила Ахматова:
- Еще на западе земное солнце светит
- И кровли городов в его лучах блестят,
- А здесь уж белая дома крестами метит
- И кличет воронов, и вороны летят.
Трудно вообразить, через какие эмоциональные потрясения должен был пройти этот влюбленный в Петербург художник, в жизни несколько медлительный и по-королевски спокойный, чтобы, не выдержав в конце концов тягот и унижений послереволюционного существования, собрать чемоданы и, пока это было еще возможно, эмигрировать на Запад, покинув навсегда и город, и друзей, в том числе Ахматову.
В конце 1920 – начале 1921 года в Петрограде была отменена плата за городской транспорт и бани, бесплатными стали квартиры, вода, электричество. Проблема заключалась лишь в том, что трамваи в этот период почти не ходили, вода замерзла и мытье не то что в бане, а даже у себя дома стало редкостью. Деньги все равно ничего не стоили, ибо на них нечего было купить. Продукты питания распределялись в виде пайков.
Для людей, официально не работавших на заводе или в какой-либо советской канцелярии, хлебный паек составлял полфунта в день, его называли «голодным». Чтобы выжить, интеллектуалы занимались «пайколовством», выуживая пайки где только возможно.
Художник Юрий Анненков, выполнивший удивительные, необычайно соответствовавшие ее революционному духу кубистические иллюстрации к первому изданию поэмы Блока «Двенадцать», чрезвычайно наловчился в добывании пайков. В качестве профессора реорганизованной Академии художеств он получал «ученый» паек, как учредитель культурно-просветительной студии для милиционеров – «милицейский» паек. (В эту же студию Анненков устроил Добужинского, который стал просвещать милиционеров о тех петербургских памятниках архитектуры, которые им надлежало охранять.) Приятельские отношения с военными моряками обеспечили Анненкову «специальный» паек Балтийского флота. (В архиве сохранились темы лекций, санкционированных большевиками для моряков зимой 1920/21 года: «Происхождение человека», «Итальянская живопись», «Нравы и быт жителей Австрии».) Но самый щедрый паек – «матери, кормящей грудью» – Анненков получал в родильном центре, именовавшемся «Капли молока имени Розы Люксембург», за то, что читал акушеркам лекции по истории скульптуры.
Блоку, который до революции сравнительно легко зарабатывал на жизнь, при большевиках пришлось туго, так как «пайколовством» он заниматься не умел. Коммунисты поначалу отнеслись к нему с симпатией. Анненков вспоминал, как в октябре 1919 года он вместе с Блоком, Белым, Ольгой Судейкиной и еще несколькими друзьями засиделись в гостях и, поскольку Петроград был на осадном положении, решили заночевать у хозяина.
Ольгу уложили в кровать, а Блок задремал, сидя у стола. Под утро раздался властный стук в дверь: с обыском явились вооруженные матросы во главе с самим военным комендантом Петрограда. Рейд этот был вызван тем, что о «подозрительных» гостях хозяина донесли бдительные соседи из «домового комитета бедноты». Такие комитеты были созданы большевиками в каждом петроградском доме.
– Есть посторонние?
– Да, видите: у стола дремлет поэт Александр Блок, – ответил хозяин. – Он живет далеко и не успел бы домой до комендантского часа.
– Деталь! – поразился высокопоставленный большевик. – Который Блок, настоящий?
– Стопроцентный!
Взглянув на спящего поэта, комендант, шепнув хозяину: «Хрен с вами!» – вышел на цыпочках, уводя за собой гремевших оружием матросов. Анненков тогда подумал: вероятно, этот коммунист в юности прочел, как и многие его сверстники, «Незнакомку» Блока…
Когда утром Блок, Белый и Анненков расходились по домам, то на пустынном Невском проспекте состоялась символическая встреча новой власти и интеллигенции: они натолкнулись на скучающего милиционера с винтовкой на плече, который, широко расставив ноги, запечатлевал мочой на снегу свое имя – «Вася». Увидев это, Белый закричал: «Я не умею писать на снегу! Мне нужны чернила, хотя бы баночка чернил! И какой-нибудь обрывок бумаги!» – «Проходите, граждане, не задерживайтесь», – пробурчал милиционер, застегивая ширинку…
Своим пробавлявшимся лекционной халтурой знакомым Блок говорил: «Завидую вам всем: вы умеете говорить, читаете где-то там. А я не умею. Я могу только по написанному». Но на писательские гонорары существовать было невозможно. Петроградские писатели в те дни сосчитали, что Шекспир, чтобы выжить в Петрограде 1920 года, должен был бы писать три пьесы в месяц, а Тургенев на гонорар за свой роман «Отцы и дети» мог бы кормиться не более трех недель. Как и многие другие петроградские интеллектуалы, Блок был вынужден пойти на службу в возглавляемый Луначарским Народный комиссариат просвещения, то есть, попросту говоря, советское министерство культуры. Поэт работал в его театральном отделе, заседал во всевозможных комиссиях и секциях, в редколлегии издательства «Всемирная литература». Здесь Блоком и другими специалистами был составлен огромный список произведений писателей всех времен и народов, который надо было заново перевести на русский язык и издать для массовой пролетарской аудитории. Только в первой серии планировалось издать 1,5 тысячи названий академического типа с подробными комментариями и до 5 тысяч более популярных изданий.
Для осуществления этой утопической идеи Максима Горького в тех тяжелейших условиях понадобилось бы не меньше 100 лет, но пока что можно было подкормить петроградских писателей. Один из них, Андрей Левинсон, оказавшись в эмиграции, с горечью вспоминал о деятельности «Всемирной литературы» как о «безнадежном и парадоксальном труде насаждения духовной культуры Запада на развалинах русской жизни»: «…великодушной иллюзией мы жили в эти годы, уповая, что Байрон и Флобер, проникающие в массы хотя бы во славу большевистского «блефа», плодотворно потрясут не одну душу».
На заседаниях редколлегии «Всемирной литературы» Блок часто встречался с Николаем Гумилевым, который в 1918 году из Парижа, где он служил в офисе военного атташе свергнутого большевиками Временного правительства, вернулся в революционный Петроград. По рассказам отговаривавших Гумилева от этого, по их мнению, безрассудного шага друзей поэта, он свое решение объяснял так: «Я дрался три года с немцами, охотился на львов в Африке. А вот большевиков я никогда не видел. Почему бы мне не отправиться в Петроград? Вряд ли он опаснее джунглей».
В большевистском Петрограде Гумилев повел себя вызывающе, объявляя на каждом шагу, что он монархист, и демонстративно крестясь на каждую церковь, что в условиях официального атеизма и «красного террора» воспринималось чуть ли не как безумие. Как раз в дни прибытия Гумилева в Петроград один русский писатель жаловался в письме к другому: «Сейчас по вечерам на улицах патрули, – обыскивают, – ищут оружие. В приказе сказано, что, если у кого найдут оружие и будут его отбирать, а тот будет сопротивляться – расстреливать на месте. Где же отмена смертной казни? Прежде цареубийц судом судили, а потом вешали, а теперь «на месте». Всех сделали палачами!»
Тем не менее Луначарский и Горький взяли Гумилева на службу во «Всемирную литературу»; он стал также читать лекции петроградским рабочим и военным морякам. Даже и перед такой публикой Гумилев умудрялся декламировать монархические стихи. Он смеялся: «Приспособленцев большевики презирают. Я предпочитаю, чтобы меня уважали».
Годы спустя Ахматову спросили, почему Гумилев принимал участие в разных просветительских организациях под эгидой большевиков: переводил, читал лекции по теории поэзии, учил молодых поэтов. Ахматова ответила, что и до революции Гумилев был прирожденным организатором, достаточно вспомнить историю создания акмеизма. Но в то время смешно было и думать о том, чтобы, например, явиться к царскому министру просвещения и заявить: «Я хочу организовать студию, в которой будут учиться сочинять стихи». При большевиках это вдруг стало возможным. Кроме того, просто надо было выживать. До революции Гумилев жил на ренту, а в большевистском Петрограде только служба в ведомстве Луначарского могла спасти его от голода.
Так Ахматова оправдывала и объясняла поведение Гумилева. Сама она, несмотря на голодное существование, на службу к большевикам не пошла. Рассказывала, что однажды, когда стало совсем трудно, пришла к Горькому с просьбой дать ей какую-нибудь работу. Горький предложил обратиться в Коммунистический Интернационал, в пресловутый Коминтерн, главой которого был руководитель петроградских коммунистов Григорий Зиновьев. Там Ахматовой дадут переводить на итальянский язык коммунистические прокламации. Она от такой работы отказалась: «…подумайте: я буду делать переводы, которые будут посылаться в Италию, за которые людей будут сажать в тюрьму…» Принципиальность Ахматовой дорого ей обходилась. Ее приятель сообщал в письме жене: «Ахматова превратилась в ужасный скелет, одетый в лохмотья».
Возвращение Гумилева в большевистский Петроград из Франции, где он находился в 1917 году в составе русского экспедиционного корпуса, Ахматова комментировала лаконично: «Он любил мать и был хорошим сыном».
Брак Ахматовой и Гумилева развалился фактически еще до революции. Гумилев позднее признавался одной своей подруге, что очень скоро после женитьбы стал изменять Ахматовой: «А она требовала абсолютной верности». По словам Гумилева, Ахматова вела с ним «любовную войну» по Кнуту Гамсуну, то есть устраивала бесконечные сцены ревности с бурными объяснениями и не менее бурными примирениями. Гумилев же решительно отказывался «выяснять отношения».
Уже в 60-е годы Ахматова подтверждала, что Гумилев был «сложный человек, изящный, но не мягкий. Его нельзя назвать отзывчивым». В ответ на очередное заявление Ахматовой: «Николай, нам надо объясниться» Гумилев неизменно отвечал: «Оставь меня в покое, мать моя!»
Даже рождение в 1912 году сына Льва не спасло шедший камнем на дно брак. «Мы и из-за него ссорились», – жаловался потом Гумилев. Ребенка воспитывали родственники Гумилева, Ахматовой мальчик почти не видел и однажды на вопрос о том, что он делает, ответил: «Вычисляю, на сколько процентов вспоминает меня мама».
Высоко ценивший творчество Ахматовой, Гумилев тем не менее не мог простить ей стихотворения военных лет «Молитва», называя его чудовищным. Он цитировал:
- Отними и ребенка, и друга… —
и возмущенно комментировал: «Она просит Бога убить нас с Левушкой! Ведь под другом здесь, конечно, подразумеваюсь я… Но, слава богу, эта чудовищная молитва, как и большинство молитв, не была услышана. Левушка – тьфу, тьфу, тьфу, чтобы не сглазить! – здоровый и крепкий мальчик». Гумилев никогда не узнал о том, что именно эта, воплощенная в стихотворении, молитва Ахматовой как бы предсказала подлинное – и самое трагичное из возможных – развитие событий. (Когда в июне 1941 года Ахматова впервые встретила Цветаеву, последняя спросила ее: «Как вы могли написать: «Отними и ребенка, и друга…» Разве вы не знаете, что в стихах все сбывается?»)
Сразу же после приезда Гумилева в Петроград Ахматова сказала ему: «Дай мне развод». Она вспоминала, что Гумилев страшно побледнел и, не уговаривая ее, ответил: «Пожалуйста…» Узнав, что Ахматова выходит замуж за Владимира Шилейко, Гумилев поначалу отказывался этому верить: столь эксцентричным считался в Петрограде этот молодой ассиролог. Сам Гумилев сразу же сделал предложение одной из своих подруг, прелестной Анне Энгельгардт. В 60-е годы Ахматова в ответ на расспросы о конкретной причине развода только пожимала плечами: «В 1918 году все разводились». И добавляла: «Я вообще и всегда за развод». Она считала, что Гумилева этот ее решительный шаг очень обидел, и даже намекала, что ее бывший муж сочувствовал враждебному отношению к ней молодых поэтов, своих учеников.
Это был один из характерных парадоксов революционной эпохи, что голодный и холодный Петроград тех лет кишел начинающими поэтами. Их неоспоримым поэтическим кумиром поначалу был Блок. Но после «Двенадцати» от него многие отшатнулись, и теперь на роль лидера молодых талантов претендовал Гумилев. Психологически, политически и поэтически Гумилев был антиподом Блока. Ахматова вспоминала: «Блок не любил Гумилева, а как можно знать – почему? Была личная вражда, а что было в сердце Блока, знал только Блок, и больше никто». О стихах Гумилева Блок отзывался как о холодных и «иностранных». Ахматова с обидой вспоминала, как она надевала ботинки в каком-то гардеробе, а за ее спиной стоял Блок и бубнил: «Вы знаете, я не люблю стихов вашего мужа». Ему также казалась странной и дикой идея Гумилева о том, что можно учить людей писать стихи, что есть какие-то правила и законы стихосложения. Возражая Гумилеву, Блок горько иронизировал: «Мне хочется крикнуть, что Данте хуже газетного хроникера… что поэт вообще – Богом обделенное существо…»
Гумилев, который вообще-то поэзию Блока почитал чрезвычайно, яростно нападал на его поэму «Двенадцать», доказывая, что этой поэмой Блок послужил «делу Антихриста»: «Вторично распял Христа и еще раз расстрелял Государя».
Примечательно, однако, что именно в политической области позиции Блока и Гумилева начали постепенно сближаться. Гумилев пришел к выводу, что большевики крепко держат власть в своих руках. И хотя Гумилев так и не принял большевистскую платформу, какие-то элементы политики коммунистов начали ему импонировать. Например, Гумилев заявлял, что, если они пойдут завоевывать Индию, его шпага – с ними. Он также утверждал, что «большевики, даже расстреливая, уважают смелых». Романтизируя коммунистов, Гумилев возводил их в ранг достойных противников (или даже потенциальных союзников).
Блок, напротив, постепенно разочаровывался в созданном им романтическом образе революции. Выступая перед петроградскими актерами, он жаловался: «Разрушение еще не закончилось, но оно уже убывает. Строительство еще не началось. Музыки старой – уже нет, новой – еще нет. Скучно». В дневнике Блока множатся мрачные записи: «Как я вообще устал»; «Я как в тяжелом сне».
В феврале 1919 года Блок был арестован петроградской Чрезвычайной Комиссией. Его подозревали в участии в антисоветском заговоре. Через день (и после двух допросов) Блока освободили, так как за него вступился Луначарский. В 1920 году Блок записал в дневнике: «…под игом насилия человеческая совесть умолкает; тогда человек замыкается в старом; чем наглей насилие, тем прочнее замыкается человек в старом. Так случилось с Европой под игом войны, с Россией – ныне».
Блок совсем перестал писать стихи и на вопросы о своем молчании отвечал: «Все звуки прекратились. Разве вы не слышите, что никаких звуков нет?» Художнику Анненкову он жаловался: «Я задыхаюсь, задыхаюсь, задыхаюсь! Мы задыхаемся, мы задохнемся все. Мировая революция превращается в мировую грудную жабу!»
Интересно, что почти в тех же выражениях описывал впоследствии эту эпоху живший в те годы в Петрограде великий бас Федор Шаляпин (кстати, поклонник «Двенадцати» Блока). Шаляпин признавал, что «в самой глубокой основе большевистского движения лежало какое-то стремление к действительному переустройству жизни на более справедливых, как казалось Ленину и некоторым другим его сподвижникам, началах». Но и его, как Блока, начала угнетать все возрастающая бюрократизация и в повседневной, и в артистической жизни, пока наконец Шаляпин не почувствовал, что этот «робот меня задушит, если я не вырвусь из его бездушных объятий». Вскоре певец покинул Петроград и уехал на Запад.
Воплем отчаяния стала прочитанная Блоком в феврале 1921 года речь на вечере, посвященном памяти Пушкина. Эту речь слушали и Ахматова, и Гумилев, явившийся на чтение во фраке, под руку с дамой, дрожавшей от холода в черном платье с глубоким вырезом. Блок стоял на эстраде в черном пиджаке поверх белого свитера с высоким воротником, засунув руки в карманы. Процитировав знаменитую строку Пушкина:
- На свете счастья нет, но есть покой и воля… —
Блок повернулся к сидевшему тут же на сцене обескураженному советскому бюрократу (из тех, которые, по язвительному определению Андрея Белого, «ничего не пишут, только подписывают») и отчеканил: «…покой и волю тоже отнимают. Не внешний покой, а творческий. Не ребяческую волю, не свободу либеральничать, а творческую волю – тайную свободу. И поэт умирает, потому что дышать ему уже нечем; жизнь потеряла смысл».
После подобной, исполненной высшего пафоса и трагизма декларации, оглашенной к тому же с эстрады, поэту-пророку, каким воспринимался (и ощущал себя сам) Блок, оставалось только умереть. К лету 1921 года здоровье Блока ухудшилось настолько, что Луначарский и Горький попросили Ленина выпустить поэта для лечения в Финляндию. Четырьмя месяцами ранее Луначарский в ответ на специальный секретный запрос Ленина так охарактеризовал самого Блока и его произведения: «…во всем, что пишет – есть своеобразный подход к революции: какая-то смесь симпатии и ужаса типичнейшего интеллигента. Гораздо более талантлив, чем умен».
Ленина что-то в Блоке интриговало: в описи личной библиотеки вождя большевиков в Кремле можно найти наименования не менее дюжины книг Блока и о Блоке. Тем не менее Политбюро Коммунистической партии, собравшись на заседание под председательством Ленина, в разрешении на выезд Блоку отказало. Ленин боялся, что на Западе Блок будет открыто выступать против советской власти. Так же считал представитель ЧК, чье мнение в подобных вопросах часто бывало решающим. (Это обстоятельство бесило Луначарского, который в одном из письменных обращений к Ленину с иронией назвал ЧК «последней инстанцией».)
Было ясно, что Блок умирает, и Луначарский с Горьким продолжали бомбардировать Ленина воззваниями о немедленной помощи. Тот сдался, но было уже поздно. В разговоре с Анненковым Блок назвал однажды смерть «заграницей, в которую каждый едет без предварительного разрешения». В эту заграницу он отбыл 7 августа 1921 года. На первой странице официальной газеты «Правда» появилось краткое сообщение: «Вчера утром скончался поэт Александр Блок». И все. Ни одного слова комментария.
Блок умер от эндокардита[41], осложненного нервным расстройством и сильным истощением. Но современники восприняли его кончину символически, как того хотел и сам поэт; им было ясно, что Блок задохнулся от недостатка личной и творческой свободы, от «душевной астмы», как выразился Белый.
В этом смысле смерть Блока подводила черту под целой эпохой более решительно и эффективно, чем это сделали обе русские революции 1917 года. Ахматова еще весной 1917 года предсказывала: «Будет то же самое, что было во Франции во время Великой революции, будет, может быть, хуже». Но у Блока с революцией были связаны самые радужные надежды, которые с ним разделяли некоторые в высшей степени одаренные люди.
Например, Артур Лурье, автор исполненной еще при жизни Блока модернистской кантаты на его стихи, вспоминал: «Блок имел на меня громадное влияние; вместе с ним и наученный им, я слушал музыку революции. Как и мои друзья, авангард молодежи – художники и поэты, – я поверил в Октябрьскую революцию и сразу же примкнул к ней. Благодаря поддержке, оказанной нам Октябрьской революцией, все мы, молодые артисты-новаторы и эксцентрики, были приняты всерьез. Впервые мальчикам-фантастам сказали о том, что они могут осуществить свои мечты и что в чистое искусство не вторгнется не только никакая политика, но вообще никакая сила. Нам была предоставлена полная свобода делать все, что нам угодно в нашей сфере; подобный случай произошел впервые в истории. Нигде в мире никогда не было ничего подобного этому».
Гибель Блока разрушила эту веру в «идеализм» советской власти и в возможность бескомпромиссного сосуществования с большевиками. Блок и его единомышленники сравнительно легко перенесли принесенную революцией потерю материального благополучия. Настоящей трагедией стала утрата духовной независимости, пресечение возможности свободного самовыражения. Вот почему, когда тот же Артур Лурье написал в статье памяти поэта: «Русская Революция кончилась со смертью Александра Блока», он выразил общее ощущение петроградской левой интеллигенции.
Сам Блок в одном из своих последних писем нашел страшные, жестокие и очень русские слова о своей предсказанной и ожидаемой им самим гибели: «… слопала-таки поганая, гугнивая родимая матушка Россия, как чушка своего поросенка». А последними строчками предсмертного, прощального письма к матери стали: «Спасибо за хлеб и яйца. Хлеб настоящий, русский, почти без примеси, я очень давно не ел такого». Блоку не исполнилось и 41 года…
Поэта похоронили 10 августа; Кузмин в дневнике записал: «Попы, венки, народ. Были все. Скорее можно перечислить отсутствующих». Кто-то сказал, что, если бы сейчас вдруг взорвалась бомба, в Петрограде не осталось бы в живых ни одного представителя литературно-художественного мира. Пели музыку Чайковского, этого истинно петербургского композитора. Анненков, помогавший опустить гроб в могилу, запомнил стоявшую рядом плачущую Ахматову. Он не знал, что именно в тот день Ахматова узнала об аресте ее бывшего мужа Гумилева.






