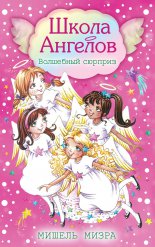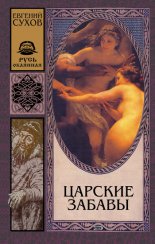Ада, или Радости страсти Набоков Владимир
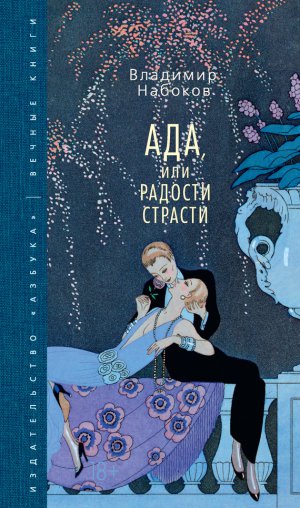
Воспользовавшись отсутствием Ларивьер и Люсетты, Ван вдосталь натешился Адой в удобной детской и как раз высунулся в неудачно выбранное окно, из которого толком не было видно подъездной дорожки, когда послышалось густое гудение отцовской машины. Он полетел вниз – с такой скоростью, что лестничные перила обжигали ему ладонь, радостно воскрешая схожие эпизоды детства. В парадных сенях было пусто. Демон проник в дом боковой галереей и теперь сидел в прометенной солнцем музыкальной гостиной, протирая специальной «замшинкой» монокль в ожиданьи «коня и яка» (бородатая шутка). Волосы, выкрашенные в цвет воронова крыла, белые, будто у гончей, зубы, аккуратно подстриженные черные усы на глянцевитом, смуглом лице. Влажные, темные глаза его лучились любовью, на которую Ван отвечал взаимностью и которую оба старались прикрыть привычным подтруниваньем.
– Здравствуй, папочка.
– А, Ван, здравствуй.
Tres Americain[117]. Школьный двор. Он хлопает дверцей машины, идет по снегу. Неизменно в перчатках, но всегда без пальто. Не хочешь заглянуть в «ванную комнату», отец? Родина, милая родина.
– Ты в «ванную комнату» заглянуть не хочешь? – спросил, подмигивая, Ван.
– Нет, спасибо, утром уже купался. (Легкий вздох, как летит время: он тоже в мельчайших подробностях помнил общие обеды отцов и детей в Риверлэйне: обязательное учтивое приглашение в ватер-клозет, радушных учителей, несъедобные блюда, жирные рагу, «Боже, храни Америку», сконфуженных сыновей, вульгарных отцов, титулованных знатных особ английской и греческой крови, их спортивные яхты и «Яки», и взаимное якшанье на Багамудах. Могу ли я, сын мой, под рукой переложить это вкуснейшее синтетическое изделие с розовой корочкой на твою тарелку? «Тебе не понравилось, папочка!» (разыгрывая уязвленный ужас). Боже, храни вкусовые луковицы бедных американцев.)
– Замечательный звук у твоей новой машины, – сказал Ван.
– Не правда ли? Да, – (надо бы расспросить Вана насчет этого «горнишона» – обозначение смазливенькой «камеристочки» на русско-французском диалекте самого подлого разбора). – Ну, как ты тут, мой мальчик? В последний раз мы виделись в день твоего возвращения из Чуса. Попусту тратим жизнь в разлуке! Скоморохи рока! Послушай, давай перед осенним триместром проведем месяцок в Лондоне или в Париже!
Демон сронил монокль и вытер глаз стильным кружевным платочком, который извлек из грудного кармана смокинга. Слезные железы Демона срабатывали без задержки, если только подлинное горе не вынуждало его следить за собой.
– Папочка, у тебя сатанински здоровый вид. Еще и свежая гвоздика в бутоньерке. I suppose you have not been much in Manhattan lately – where you did its last syllable?[118]
Кровиночка Винов – домотканые каламбуры.
– En effet, я позволил себе проехаться в Акапулько, – ответил Демон, ненужно и невольно припоминая (с тем особым шквальным наплывом подробностей, что докучал и его детям) полосатую, лиловую с черным рыбку в чаше аквариума, такие же полоски кушетки, высвеченные субтропическим солнцем прожилки стоящей на каменном полу ониксовой пепельницы, кипу старых, заляпанных апельсиновым соком номеров журнала «Повеса» (playboy), привезенные им с собой драгоценности, фонограф, дремотным женским голосом поющий «Petite negre, au champ qui fleuronne», и изумительный животик очень дорогой, очень непостоянной и совершенно обворожительной юной креолки.
– А та девушка, как бишь ее, тоже с тобой ездила?
– Видишь ли, мой мальчик, если честно, с каждым годом их номенклатура становится все более запутанной. Поговорим о чем-нибудь попроще. Где же выпивка? Мне обещал ее один мимолетный ангел.
(Мимолетный ангел?)
Ван потянул зеленый снурок звонка, отправив в буфетную певучий призыв и заставив старинный, оправленный в бронзу аквариум с томящейся в нем одинокой цихлидой антифонически булькнуть в углу музыкальной гостиной (диковинный, возможно как-то связанный со степенью насыщенности кислородом отклик, понятный лишь Киму Богарнэ, кухонному мальчишке). «Может, вызвонить ее после обеда?» – подумал Демон. В котором часу это будет? Пользы чуть, а для сердца вредно.
– Тебе уже сказали? – спросил Ван, снова присаживаясь на плотный подлокотник отцовского кресла. – Дядя Дан приедет с поверенным и Люсеттой поздно вечером.
– И отлично, – откликнулся Демон.
– А Марина с Адой спустятся через минуту – ce sera un diner a quatre.
– И отлично, – повторил он. – А ты, мой дорогой, мой бесценный юноша, превосходно выглядишь, – так что я даже не вижу необходимости преувеличивать комплимент, как делают некоторые, обращаясь к стареющему мужчине с доведенными до блеска бальных туфель волосами. И смокинг твой недурен – то есть недурно признать в одеждах сына руку своего старинного портного – это все равно, как поймать себя на повтореньи ужимки, присущей кому-то из пращуров, – к примеру, вот этой (три раза помахав у виска левым указательным пальцем), так мама обозначала небрежное, миролюбивое несогласие; тебя сей ген миновал, но мне не раз случалось замечать этот жест в зеркале моего парикмахера, когда я запрещал ему втирать «Кремлин» мне в плешь; и знаешь, кто еще его перенял? – моя тетушка Китти, та, что вышла за банкира Боленского, разведясь наконец со своим кошмарным старым бабником, Левкой Толстым, писателем.
Демон предпочитал Диккенсу Вальтера Скотта, а о русских романистах держался весьма невысокого мнения. Ван, как обычно, счел необходимым поправить его:
– Он фантастический художник, папа.
– А ты фантастически милый мальчик, – ответил Демон, роняя еще одну пресную слезу. Он прижал к щеке крепкую и ладную ладонь Вана. Ван поцеловал волосистый кулак отца, уже сжимавший незримый пока бокал с вином. Несмотря на обилие мужественных ирландских черт, все Вины, в венах которых текла и русская кровь, проявляли немалую нежность при ритуальных приливах родственных чувств, оставаясь отчасти неловкими в словесных ее выражениях.
– Ты подумай, – воскликнул Демон, – что такое – у тебя лапищи, будто у плотника. Покажи-ка другую ладонь. Милость господня, (бормочет:) венерин бугор изуродован, линия жизни изрезана, зато донельзя длинна... (цыганским певком:) Долго будешь жить, дорогой, Терру увидишь и обратно вернешься, умным да веселым. (обычным своим голосом:) Что ставит меня как хироманта в тупик, так это странное состояние сестры твоей жизни. Откуда такая шершавость?!
– Маскодагама, – шепнул, приподняв брови, Ван.
– Ну да, конечно, экой я тупица. А теперь скажи – тебе в Ардисе нравится?
– Я его обожаю, – ответил Ван. – Для меня он – chateau que baignait la Dore[119]. Я с великой радостью провел бы здесь всю мою изрезанную, изумительную жизнь. Но это пустые мечты.
– Пустые? Как знать, как знать. Насколько мне известно, Дан собирается оставить поместье Люсиль, но Дан жадноват, а мои дела таковы, что я в состоянии ублажить самого жадного жадину. В твоем возрасте я полагал, что приятнейшее слово во всем языке рифмуется с «билиард», теперь я точно знаю, что не ошибался. Если тебе действительно по сердцу это имение, сынок, я могу попытаться его купить. Я мог бы слегка нажать на мою Марину. Когда на нее, так сказать, наседаешь, она вздыхает совершенно как пуфик. Черт, здешние слуги далеко не Меркурии. Дерни еще за снурок. Да, может быть, Дана удастся принудить к продаже поместья.
– У тебя совершенно черное сердце, папа, – сказал обрадованный Ван, перенявший этот жаргонный оборот у Руби, своей ласковой юной нянюшки, родившейся на Миссисипи, в местах, где большая часть мировых судей, филантропов, разного рода первосвященников так называемых вероисповеданий и иных почтенных и родовитых людей обладает темной или смуглой кожей, унаследованной от предков из Западной Африки – первых мореходов, достигших Мексиканского залива.
– Как знать, как знать, – задумчиво продолжал Демон. – Поместье едва ли стоит больше двух миллионов, да надо еще вычесть то, что должен мне кузен Дан, а заодно и окончательно загаженные Ладорские пастбища, от них все равно придется понемногу избавляться, если, конечно, местные помещики не взорвут на воздух керосиновый завод, стыд и срам нашего округа. Я не питаю к Ардису особой привязанности, но и против него ничего не имею, вот околоток здешний – особ статья, околоток мне совсем не по вкусу. В городишке Ладора развелось многовато притонов и игра там уже не та, что прежде. Да и в соседях тут кого только нет. Бедный лорд Эрминин без малого спятил. Дня два назад я разговорился на бегах с женщиной, за которой волочился в незапамятные времена – задолго до того, как Моисей де Вер в мое отсутствие наставил ее мужу рога, а после в моем присутствии его же и застрелил, – острота, которую ты уже без сомнения слышал и именно от меня...
(Настал черед «отцовской шарманки».)
– ...впрочем, хорошему сыну надлежит со смиреньем внимать отцу, даже когда тот заводит свою шарманку... Да, так она мне сказала, что Ада частенько видается с ее сыном, et cetera. Это правда?
– В общем нет, – сказал Ван. – Они встречаются время от времени больше в гостях. Обоим по нраву лошади, скачки – вот и все. И никаких et cetera, тут даже говорить не о чем.
– И прекрасно! Ага, я слышу чью-то зловещую поступь. Прасковья де Прей обладает худшим из недостатков сноба: склонностью к преувеличениям. Bonsoir[120], Бутеллен. Что-то ты стал багров, точь-в-точь вино твоей родины, впрочем, все мы, как говорят америкашки, не очень-то молодеем, вот и мою прелестную посланницу перехватил дорогою какой-то ухажер поудачливей и посвежее.
– Прошу, папочка, – пролепетал Ван, вечно боявшийся, что какая-либо из многословных отцовских шуток обидит слугу – между тем, как сам он временами грешил чрезмерной резкостью.
Впрочем, – воспользуемся приевшимся повествовательным оборотом, старый француз слишком знал своего прежнего барина, чтобы обидеться на господскую шутку. Ладонь его еще приятно звенела после шлепка по молодому, сочному заду Бланш, которая не смогла понять простой барской просьбы, да еще и вазу с цветами раскокала. Поставив поднос на низкий столик, он со скрюченными, словно бы продолжавшими держать его пальцами отступил на несколько шагов и лишь тогда любовным поклоном ответил на приветствие Демона. Как здоровье мсье, по-прежнему отменное? Разумеется.
– Я был бы не прочь получить к обеду бутылку вашего «Шато-Латур д'Эсток», – сказал Демон, и едва дворецкий, мимоходом сняв с фортепиано мятый носовой платочек и отвесив еще один поклон, удалился: – Ну, а сам-то ты как ладишь с Адой? Ей сколько – уже без малого шестнадцать? Весьма музыкальна и романтична?
– Мы с ней большие друзья, – сказал Ван (тщательно приготовивший ответ на вопрос, который ожидал рано или поздно от кого-то услышать). – В сущности, у нас гораздо больше общего, чем, скажем, у обычных влюбленных или у брата с сестрой, двоюродных, а то и родных. Сказать по правде, мы почти неразлучны. Мы много читаем, она, благодаря дедовской библиотеке, на редкость образованна. Знает названия всех здешних цветов и птичек. Вообще девочка презанятная.
– Ван... – примерился было Демон, но примолк – как примерялся и примолкал за прошедшие годы уже множество раз. В конце концов сказать придется, однако сейчас не самый удобный момент. Он вставил монокль и оглядел бутылки. – Ну-с, что ты скажешь насчет аперитива? Отец дозволял мне «Лиллетовку» и «Иллинойскую запеканку» – «антрану свади», как выразилась бы Марина, пойло было похлеще трюмной водицы. Подозреваю, что у твоего дядюшки имеется за соландерами его кабинета потаенный складик, в котором он хранит виски почище этого usque ad Russkum[121]. Что ж, отведаем, как и собирались, коньячку – или ты законченный «filius aquae»?
(Каламбур вышел у него ненароком – всякому случается, заболтавшись, ляпнуть какую-нибудь несусветицу.)
– Предпочитаю кларет. Попозже налягу на «Латур». Нет-нет, я не приверженец чистой воды, да и пить в Ардисе воду из крана никому бы не посоветовал!
– Надо будет сказать Марине, – произнес Демон, прополоскав десны и без спеха сглонув, – что ее мужу пора перестать наливаться до изумления водочкой и перейти на французские и калифранцузские вина – особенно после недавнего ударчика. Я его днями встретил в городе, невдалеке от Мэд-авеню, смотрю, вполне нормально двигается мне навстречу, но как только заприметил меня – за целый квартал, – завод у него начал слабеть, и в конце концов он замер – просто-напросто встал как вкопанный! – так до меня и не дошел. Как хочешь, а это ненормально. Ладно. Как мы говаривали в Чусе, за то, чтобы наши милашки никогда не встречались друг с дружкой. Одни только юконцы воображают, будто коньяк нехорош для печени, и то потому, что у них ничего кроме водки не водится. Ну что же, я рад, что ты подружился с Адой. Это славно. Давеча в галерее на меня наскочила на диво ладная субреточка. Ни разу не подняла глаз от пола и отвечала все по-французски, как я ни... Пожалуйста, мой мальчик, слегка подвинь ту ширму, вот так, хорошо, солнце, особенно если оно лупит из-под грозовой тучи, не для моих бедных глаз. И не для бедных желудочков. Тебе нравятся этакие, а, Ван – склоненная головка, открытая шея, высокие каблучки, и все рысцой да враскачку, нравятся, нет?
– Видите ли, милостивый государь...
(Сказать ему, что я самый молодой из венусианцев? Интересно, он тоже из наших? Подать знак? Нет, не стоит. Ну, отвечай же что-нибудь.)
– В общем, у меня в Лондоне был довольно пылкий роман с моей партнершей по танго, – ты видел наш танец, когда прилетал на последнее выступление, помнишь?
– Как не помнить. Занятно, стало быть, нынче это называется «танцем».
– Мне кажется, милостивый государь, коньячку вам уже хватит.
– Ишь ты, поди ж ты, – сказал Демон, с трудом воздерживаясь от щекотливого вопроса, вытесненного из разума Марины (если ему вообще удалось проникнуть туда каким-нибудь задним ходом), быть может, лишь ее неспособностью выстроить родственную – кровную аналогию; ибо всякая неспособность есть синоним многомыслия, и ничего не бывает полнее пустой головы.
– Разумеется, – продолжал Демон, – в пользу летнего отдыха в деревне можно сказать многое...
– Свежий воздух и прочее, – вставил Ван.
– Но кто бы поверил, что юноша посмеет указывать отцу, сколько тот вправе выпить? – наливая четвертую рюмочку по самый золотой ободок, заметил Демон и продолжил, держа ее за тонкую ножку: – С другой стороны, без летней любви и жизнь на свежем воздухе может показаться тоскливой, а в здешнем соседстве достойных девушек днем с огнем не сыскать. Есть, конечно, милашка Эрминина, une petite juive tres aristocratique, но сколько я знаю, она помолвлена. Да, кстати, де Прей сообщила мне, что ее сын записался в добровольцы и скоро примет участие в этой злосчастной заграничной затее, на которую нашей стране следовало бы не обращать никакого внимания. Интересно, не оставит ли он у себя за спиной соперника?
– О господи, разумеется, нет, – ответил честный Ван. – Ада девушка серьезная. У нее нет ухажеров – кроме меня, ca va seins durs. А ну-ка, папа, кто так сказал вместо «sans dire»[122], ну, кто, папа, кто?
– А! Кинг-Винг! Это когда я спросил, как ему нравится его жена-француженка. Ну что ж, приятно слышать такое об Аде. Так говоришь, она любит лошадей?
– Она любит все то, что любят наши красавицы, – сказал Ван, – балы, орхидеи и «Вишневый сад».
Тут в гостиную вбежала и Ада. Да-да-да, вот она я! Сияющая!
Старый Демон, сложив горою радужные крылья, полупривстал и сразу осел, обнимая Аду одной рукой, держа рюмку в другой, целуя девочку в шею, в волосы, зарываясь в ее свежесть с пылом, для дядюшки отчасти чрезмерным.
– Боженька! – воскликнула она (и этот внезапно прорвавшийся отголосок детской наполнил Вана умилением, attendrissement, melting ravishment, даже большим того, которое, по-видимому, испытывал его отец). – Как я рада видеть тебя! Когтями раздирая облака! Он камнем пал, где замок был Тамары!
(Лермонтов в переложении Лоудена.)
– Когда я в последний раз наслаждался твоим обществом, – сказал Демон, – стоял апрель, ты была в дождевом плаще с черно-белым шарфом и пахло от тебя мышьяком после визита к дантисту. Тебе будет приятно услышать, что доктор Перламутнер сочетался браком со своей секретаршей. Но к делу, цыпка моя. Я готов принять твое платье (безрукавное, черное, узкое), я способен смириться с твоей романтической прической, меня нимало не удручают твои лодочки на босу ногу да и духи «Beau Masque»[123] тоже passe encore, но, бесценная моя, я с отвращением отвергаю эту багровую губную помаду. Возможно, такова нынче мода в достопочтенной Ладоре. Но для Мана или Лондона она не годится.
– Okay (ладно), – сказала Ада и, оскалив крупные зубы, с силой оттерла рот крохотным платочком, извлеченным из выреза платья.
– И это тоже провинциально. Тебе следует завести сумочку из черного шелка. А теперь я покажу тебе, какой я маг и волшебник: ты мечтаешь стать концертирующей пианисткой!
– Вот уж нет! – возмущенно откликнулся Ван. – Совершенная гиль. Она ни единой ноты правильно взять не умеет!
– Ну и пусть ее, – сказал Демон. – Приметливость вовсе не обязательно становится матерью дедукции. Я, впрочем, ничего не вижу дурного в носовом платочке, небрежно брошенном на «Бехштейне». Тебе нет нужды так густо краснеть, любовь моя. Давайте-ка я в видах комической разрядки кое-что процитирую:
Lorsque son fi-ance parti pour la guerre
Irene de Grandfief, la pauvre et noble enfant
Ferma son pi-ano ... vendit son elephant
Несообразное «дитя» здесь подлинное, а до «слона» я додумался сам.
– Да что ты! – хохотнула Ада.
– Наш великий Коппе безусловно ужасен, – сказал Ван, – но и у него встречаются чарующие стихи, которые присутствующая здесь Ада де Гранфиф несколько раз с переменным успехом перепирала на английский.
– Будет тебе, Ван! – с непривычной игривостью прервала его Ада и зачерпнула в горсть соленого миндаля.
– Нет-нет, послушаем, – воскликнул Демон, беря из ее ладони орешек.
Складная перекличка соразмерных движений, бесхитростная оживленность вновь встретившихся членов семьи, никогда не схлестывающиеся нити марионеток – все это проще описать, чем представить.
– Если пародировать почтенные приемы повествования дозволено лишь самым великим и негуманным художникам, – сказал Ван, – то простить переложение блестящих стихов можно только близкому родственнику. Позвольте же мне предварить опыт кузины, – чьей бы кузиной она ни была, – пушкинской строкой, хотя бы для пущего шика...
– Для пущего шипа! – воскликнула Ада. – Любое переложение, даже мое, сродни попыткам заменить подлесник змеевидным карказоном: в итоге у нас на руках остается какой-нибудь жалкий целовник.
– Какового для моих скромных нужд и нужд моих скромных друзей более чем хватает, – вставил Демон.
– Итак, – продолжал Ван (оставляя втуне аналогию, сочтенную им неприличной, поскольку древним обитателям ладорской округи бедное растение представлялось не столько средством, целительным для укушенных гадом, сколько символом девичьей легкости на передок; ну да ладно). – Стихи на случай сохранились. Я их имею. Вот они: «Leur chute est lente» – мы с ними сжились...
– Я-то уж во всяком случае, – перебил его Демон:
- Leur chute est lente. On peut les suivre
- Du regard en reconnaissant
- Le chene a sa feuille de cuivre
- L'erable a sa feuille de sang.
Роскошная вещь!
– Да, то был Коппе, а теперь кузина, – сказал Ван и продекламировал:
- Their fall is gentle. The leavesdropper
- Can follow each of them and know
- The oak tree by its leaf of copper,
- The maple by its blood-red glow.[124]
– Брр! – отозвалась переводчица.
– Ничего не «брр»! – вскричал Демон. – Девочка моя, твой «leavesdropper» это великолепная находка.
Он притянул свою девочку к себе, она присела на подлокотник «Klubsessel'а», а он присосался крупными влажными губами к ее заалевшему под густыми черными прядями уху. Вана пронзила дрожь наслаждения.
Подоспел выход Марины, и она произвела его в великолепной игре света и тени: усыпанное блестками платье, лицо в чуть размытом фокусе, столь любимом звездами в пышном расцвете лет, раскрытые для объятья руки и Джоунз за спиной – он нес два шандала и, стараясь не нарушать декорума, легонько отбрыкивался ногами от коричневатого, егозившего в тени клубка.
– Марина! – с нарочитым энтузиазмом возгласил Демон и, похлопывая ее по ладони, присел рядом с нею на канапе.
Размеренно отдуваясь, Джоунз поставил на низкий комодик с мерцающими напитками один из двух прекрасных, обвитых драконами подсвечников и направился было с его парой туда, где Марина с Демоном завершали обмен предварительными любезностями, но Марина поспешила указать ему на тумбу близ полосатой рыбки. Отдуваясь, он задвинул шторы, ибо ничего кроме живописных развалин не осталось от дня за окном. Джоунз был в усадьбе человеком новым – очень дельным, важным и неспешным, хоть и потребовалось время, чтобы все привыкли к его посапыванью и повадкам. Несколько лет спустя он оказал мне услугу, которой я никогда не забуду.
– Это jeune fille fatale[125], светлая, щемящая красота, – доверительно объяснял Демон своей прежней любовнице, нимало не любопытствуя, слышит ли эти слова (слышит) предмет его восхвалений, – Ада в противоположном конце гостиной помогала Вану ловить пса, несколько слишком выставляя при этом ноги. Наш давний приятель, взволнованный встречей не меньше прочих членов семьи, приковылял по пятам за Мариной, сжимая в радостной пасти старый, отороченный горностаевым мехом шлепанец. Последний принадлежал Бланш, получившей приказ отвести Така к себе, но, как всегда, не позаботившейся надежно его запереть. Обоих детей пробирал холодок deja-vu[126] (в сущности говоря, двоекратной, если взирать на нее из художественного далека).
– Пожалста, без глупостей, особенно devant les gens, – сказала чрезвычайно польщенная Марина (выговаривая последнее «s» совсем как ее великосветские дамы), и дождавшись, пока неторопливый слуга, пожевывая рыбьим ртом, унесет задравшего к потолку лапы и выкатившего грудь Така вместе с его жалкой игрушкой, продолжала: – Но и то сказать, в сравнении с соседскими дочерьми – с той же Грейс Эрмининой или с Кордулой де Прей, Ада у нас ни дать ни взять тургеневская девушка, а то и девица из Джейн Остин.
– Вообще-то я – Фанни Прайс, – вставила Ада.
– В сцене на лестнице, – прибавил Ван.
– Не будем обращать внимания на их шуточки, – сказала Демону Марина. Я никогда не могла разобраться в их играх и маленьких тайнах. Впрочем, мадемуазель Ларивьер написала чудный сценарий об удивительных детях, совершающих странные поступки в старинных парках, – только не позволяй ей распространяться сегодня о ее литературных успехах, иначе она нам весь вечер испортит.
– Надеюсь, твой муж не слишком задержится, – сказал Демон. – Сама знаешь, после восьми по летнему времени он всегда не в своей тарелке. Кстати, как Люсетта?
В этот миг Бутеллен величаво распахнул обе створки дверей, и Демон подставил Марине свернутую калачиком руку. Ван, на которого в присутствии отца порою накатывало прискорбное озорство, вознамерился подобным же манером ввести в столовую Аду, но та с родственной sans-gene[127], которую вряд ли одобрила бы Фанни Прайс, шлепнула его по руке.
Еще один Прайс, типичный, чересчур типичный старый слуга, которого Марина (и Г.А. Вронский в пору их краткого романа) невесть почему называла «Грибом», поместил во главе стола ониксовую пепельницу – Демон любил подымить между переменами блюд, сказывались русские предки. Боковой столик был, тоже на русский манер, заставлен красными, черными, серыми, бланжевыми закусочками, – салфеточную икру отделяла от свежей телесная тучность соленых грибков, подберезовиков и белых, розовость копченого лосося спорила с багрянцем вестфальской ветчины. На отдельном подносе мерцали разнообразные водочки. Французскую кухню представляли chaudfroids и foie gras[128]. В темной, неподвижной листве за раскрытым окном с грозной поспешностью свиристели сверчки.
То был – сохраним повествовательный лад – приятный, обстоятельный, обаятельный обед, и хотя разговор почти целиком сводился к семейственным прибауткам и бойким банальностям, этой встрече предстояло остаться в памяти странно значительным, пусть и не сплошь приятным переживанием. Подобным опытом дорожишь примерно так же, как воспоминанием о внезапной влюбленности в какую-нибудь картину, вспыхнувшей при посещении живописной галереи, или грезовым ладом, грезовыми подробностями, смысловым богатством красок и обликов, присущими иному сновидению, во всех прочих отношениях пустому. Стоит отметить, что отчего-то в тот вечер все были не в лучшей форме – даже читатель, даже Бутеллен (раскрошивший, увы, бесценную пробку). Неприметная примесь фарса и фальши витала над вечером, не позволяя и ангелу, – если ангелы способны заглядывать в Ардис, – испытывать непринужденность; и все же то был волшебный спектакль, которого ни один художник не позволил бы себе пропустить.
Скатерть и свечи сверкали, маня мотыльков – и порывистых, и пугливых, – и подстрекаемая привидением Ада помимо собственной воли признавала меж ними многих своих «порхливых приятелей». Белесые пришлецы, которым только и нужно было, что расправить хрупкие крылья на какой-нибудь лучезарной поверхности, потолочные хлопотуны в боярских мехах, какие-то плотного сложения ракалии с косматыми сяжками и, наконец, чума вечеринок, багровотелые, в черных поясках бражники, безмолвно или погуживая, вплывали или врывались в столовую из отсырелой темной и теплой ночи.
Не следует, ни в коем разе не следует забывать, что стояла сырая, темная и теплая ночь середины июля 1888 года, что дело происходило в Ардисе, в округе Ладора, и что за овальным обеденным столом, сиявшим хрусталем и цветами, сидела семья из четырех человек – это не сцена из пьесы, как может, да что там может – должно показаться, – которую зритель (вооружась фотокамерой или программкой) наблюдает из бархатной бездны сада. Шестнадцать лет пролетело с окончания трехлетней любви Марины и Демона. Различной длины антракты – разрыв на два месяца весной 1870-го и другой, почти на четыре, в середине 1871-го – в ту пору лишь обостряли нежность и непереносимость этой любви. Ее на редкость огрубевшие черты, ее наряд, это облепленное блестками платье, мерцание сетки на розово-русых волосах, красная, обожженная солнцем грудь и мелодраматический грим с избытком охры и терракоты даже отдаленно не напоминали мужчине, любившему ее пронзительнее, чем любую из женщин, с которыми он распутничал, натиска, блеска и лиризма, присущих некогда красоте Марины Дурмановой. Демона это удручало – этот глубокий обморок прошлого, разбредшиеся кто куда музыканты его странствующего двора, логическая невозможность соотнести сомнительную явь настоящего с бессомненной прошлого. Даже hors-d'oeuvres[129] на «закусочном столе» усадьбы Ардис, даже стенная роспись ее столовой никак не связывались с их petits soupers, хотя, Бог свидетель, три главных столпа, на которых зиждилась любая трапеза Демона, были всегда одинаковы – соленые молодые грибочки, схожие тесными шлемиками с шахматной пешкой, серый жемчуг свежей икры и паштет из гусиной печенки, утыканный периньонскими трюфелями.
Демон забросил в рот последний кусочек черного хлеба с упругой молодой лососинкой, проглотил последнюю стопочку водки и занял место насупротив Марины, усевшейся на другом конце продолговатого стола, за большой бронзовой вазой с похожими на творенье ваятеля яблоками «кальвиль» и виноградом «персты». Алкоголь, уже усвоенный его могучим организмом, помог, по обыкновению, распахнуть то, что он на галльский манер именовал «заколоченными дверьми», и теперь, бессознательно приоткрыв рот, как делают, расправляя салфетку, все мужчины, он разглядывал вычурную прическу Марины (фасон ciel-etoile) и пытался постигнуть (в редкостном – полном значении этого слова), пытался овладеть реальностью факта (силком загнав его в чувственный фокус), согласно которому именно эту женщину он любил нестерпимо, и именно эта женщина любила его надрывно и прихотливо, требуя, чтобы они обладали друг дружкой на коврах и подушках, брошенных на пол («как делают все добропорядочные люди в долине Тигра и Евфрата»), именно она могла через две недели после родов со свистом летать по пушистым склонам на бобслейных салазках или прикатить на Восточном экспрессе – с пятью сундуками, прадедом Така и горничной – в руководимую доктором Стеллой Оспенко ospedale[130], где он оправлялся от царапины, полученной на сабельной дуэли (и все еще заметной теперь, почти семнадцать лет спустя – беловатый рубец под восьмым ребром). Не странно ли, что встречая на исходе долгой разлуки приятеля или толстую тетеньку, которую любил в детстве, немедленно ощущаешь воскрешение теплых чувств, между тем как при встрече с прежней возлюбленной этого никогда не случается, – как будто то человеческое, что содержалось в твоей привязанности к ней, оказалось сметенным вместе с прахом нечеловеческой страсти в ходе некоей операции тотального уничтожения. Он еще раз взглянул на Марину и покивал, подтверждая, что суп превосходен, – нет, все же эта немного кряжистая женщина, по всей вероятности добросердечная, но норовистая и с брюзгливым лицом, лоснящимся (нос, лоб и все остальное) от коричневатого масла, которое она считала более «молодящим», нежели пудра, все же она чужее ему, чем Бутеллен, который однажды на руках вынес ее, изобразившую обморок, из ладорской виллы и погрузил в таксомотор – вслед за последней, самой последней ссорой, в канун ее венчания.
Марина же, будучи, в сущности говоря, манекеном в человеческом облике, сомнений подобного рода не питала: ей недоставало того «третьего зрения» (индивидуального, волшебно подробного воображения), которым порой обладают и дюжинные, серые во всех иных смыслах люди и без которого память (даже память глубокого «мыслителя» или гениального механика) представляет собой, если честно сказать, не более чем лекало или листок отрывного блокнота. Мы отнюдь не желаем строго судить Марину, как-никак в наших висках и запястьях пульсирует ее кровь, и многие наши странности принадлежат ей, не ему. И все же мы не вправе закрывать глаза на заскорузлость ее души. Сидевший во главе стола мужчина, соединенный с нею двумя беззаботными молодыми людьми – «юным любовником» (на фильмовом жаргоне) по правую руку Марины и «инженю» по левую – ничем не отличался от Демона, который о прошлое Рождество восседал рядом с ней у «Праслина», и кажется, что в этом же черном смокинге (возможно, лишь без гвоздики, определенно утянутой им из вазы, которую Бланш велено было принести из галереи). Края дурманящей бездны, близость которой он чуял при всяком свиданьи с Мариной – невыносимое ощущение «волшебства жизни» с ее преувеличенной неразберихой геологических разломов, – эти края невозможно было соединить посредством того, что она принимала за пунктирную линию их будничных встреч: «бедный старый» Демон (титул, с которым уходили в отставку все ее наложники) являлся ей в обличии безвредного призрака – в театральных фойе, «между веером и зеркалами», в гостиных общих знакомых, а однажды раз в Линкольн-парке (он указывал тростью на лиловый зад обезьяны и в согласии с правилами beau monde[131] не поклонился Марине, ибо сопровождал куртизанку). Где-то еще глубже, совсем глубоко хранились три года разбросанных в безумном беспорядке свиданий с ним, которые ее подпорченный серебристым экраном рассудок надежно преобразовал в мелкую мелодраму, в «Опаляющую любовь» (название единственной ее имевшей бурный успех картины) – страстные сцены в «дворцах», пальмы и лиственницы, его Беспредельная Преданность и невозможный нрав, разрывы, примирения, «Голубые экспрессы», слезы, страхи, измены, угрозы безумной сестры, ни на что, разумеется, не способной, но оставляющей следы тигриных когтей на занавесах сновидений, особенно тех, что порождаются жаром, навеянным тьмой и туманом. И тень возмездия (с дурацкими юридическими околичностями), скользящая по декорациям за спиной. Конечно, все это лишь павильонные постройки, их ничего не стоит разобрать, уложить, снабдить биркой «Ад» и малой скоростью отправить куда подальше; и только редко-редко, глядишь, и вернется вдруг некий намек – скажем, в мастерском крупном плане двух левых, разнополых ладоней, – чем они занимались? Марина уже не могла припомнить (хоть и прошло всего лишь четыре года!), – играли а quatre mains[132]? – ни он, ни она не брали фортепьянных уроков, – изображали на стене теневого зайца? – ближе, теплее, но все не то; что-то там отмеряли? Но что? Взбирались на дерево? На гладкий-прегладкий древесный ствол? Но где и когда? Когда-нибудь, мечтательно помышляла она, нужно будет все разложить по полочкам. Там подчистить, тут переснять. Что-то «вырезать», что-то «вмонтировать», подретушировать кое-где уж слишком красноречиво ободранную эмульсию, связать эпизоды «наплывами», а избыток ненужного, неудобного «метража» аккуратно изъять, заручившись кое-какими гарантиями; да, когда-нибудь прежде, чем смерть с ее хлопушкой возвестит окончание съемок.
Нынче же она ограничилась тем, что механически потчевала Демона его любимыми яствами, которые ей удалось, составляя меню, довольно точно припомнить, – «зелеными щами» (изумрудного бархата супом из щавеля и шпината с плавающими в нем скользкими, вкрутую сваренными яйцами) и подаваемыми к ним с пылу с жару, приятно пышными «пирожками» с мясом, с морковкой, с капустой – peer-rush-KEY, – так произносимыми здесь и так почитаемыми от века. Следом за ними, решила она, хороши будут: жаренный в черных сухарях судак с вареной картошкой, рябчики и особого приготовленья спаржа («безуханка»), которая, как уверяют поваренные книги, не порождает прустовских «последствий».
– Марина, – покончив с первой переменой, негромко позвал Демон. Марина, – повторил он погромче. – Я далек от того (излюбленный его оборот), чтобы порицать вкус Дана по части выбора белых вин или манеры de vos domestiques[133]. Ты меня знаешь, я на такой вздор внимания не обращаю, я... (машет рукой), но, дорогая моя, – продолжал он, окончательно перейдя на русский, – человек, который подавал пирожки – этот новый, рыхловатый, с глазами...
– Они у нас все с глазами, – сухо отозвалась Марина.
– Конечно-конечно, однако у этого такие глаза, будто он вот-вот снова зацапает все, что подал. Но не в том дело. Он пыхтит, Марина! У него одышка. Его надо показать доктору Кролику. Это, в конце концов, неприятно. Пыхтит, как помпа. У меня суп от него рябил.
– Послушай, папа, – сказал Ван, – доктор Кролик ему вряд ли поможет, поскольку доктор, как тебе хорошо известно, умер, а кроме того, Марина не может велеть слугам, чтобы они не дышали, поскольку они, и это тебе тоже известно, все еще живы.
– Истинно Виновское остроумие, истинно Виновское, – пробормотал Демон.
– Вот именно, – сказала Марина. – Уволь, я не желаю вникать в эти вещи. Бедный Джоунз никакой не астматик, он просто волнуется, потому что хочет услужить получше. Он здоров как бык, мы с ним этим летом много раз плавали на лодке из Ардисвилля в Ладору и назад, он всю дорогу греб да посвистывал. Ты жесток, Демон. Не могу же я сказать ему «не пыхтите», как не могу велеть Киму, кухонному мальчишке, чтобы он не щелкал нас исподтишка, – этот Ким, он какой-то фотографический бес, хотя в остальном премилый, ласковый, честный мальчик; точно так же я и Фрэнш, моей молоденькой горничной, не могу приказать чтобы она перестала получать приглашения на самые изысканные в Ладоре bals masques[134], которые ей почему-то вечно присылают.
– А это уже интересно, – заметил Демон.
– Вот непристойный старик! – со смехом воскликнул Ван.
– Ван! – сказала Ада.
– Я непристойный молодой человек, – вздохнул Демон.
– Скажите, Бутеллен, есть у нас еще какое-нибудь хорошее белое вино, что бы вы нам посоветовали? – спросила Марина.
Дворецкий улыбнулся и прошептал баснословное имя.
– Да, это да, – сказал Демон. – Ах, дорогая моя, тебе не следует взваливать все хлопоты об обедах на свои бедные плечи. Так относительно гребли, – ты что-то такое говорила про греблю... Известно ли вам, что moi, qui vous parle[135] состоял в пятьдесят восьмом в гребной сборной страны? Ван предпочитает футбол, но выше университетской сборной он не поднялся, не правда ли, Ван? И в теннис я играю лучше него – не в лаун-теннис, конечно, это игра приходских священников, а, как выражаются на Манхаттане, в «площадной». Что там у нас еще, Ван?
– В фехтовании я тебе по-прежнему не соперник, зато я лучше стреляю. Это не настоящий судак, папа, но все равно превосходный, можешь мне поверить.
(Марина, не успевшая раздобыть к обеду европейский продукт, избрала ближайшее из его местных подобий – окуневую щуку, она же «дора», под татарским соусом и с вареной молодой картошечкой.)
– А! – сказал Демон, сделав глоток «Рейнвейна лорда Байрона». – Это вполне искупает «Слезы Богородицы».
– Я только что рассказывал Вану насчет твоего мужа, – продолжил он, повышая голос (он почему-то полагал, совершенно ошибочно, что Марина понемножечку глохнет). – Дорогая моя, поверь, он слишком увлекается можжевеловой водкой, что-то в нем появилось мутноватое, странное. Пару дней назад я прогуливался по Пат-лэйн, по той стороне, что ближе к Четвертой авеню, смотрю, летит куда-то в этом его диком городском автомобиле, ну ты знаешь – двухместный, вместо руля рычаги и ходит на неочищенной нефти. Так вот, заметил он меня с порядочного расстояния, помахал рукой, тут это его сооружение вдруг сверху донизу затряслось, затряслось и наконец за полквартала от меня встало, а он сидит и этак задом его подпихивает, представляешь? как ребенок, который никак не стронет с места трехколесный велосипед, и пока я к нему приближался, меня не оставляло отчетливое ощущение, что не в «Крепыше» его что-то разладилось, а в нем самом.
По доброте своего бесчестного сердца Демон, однако ж, не стал говорить Марине, что ее полоумный муж ухитрился тайком от своего художественного эксперта мистера Айкса за несколько тысяч долларов купить у давнего знакомого Демона по игорным домам (и с его, Демона, благословения) двух поддельных Корреджио – лишь для того, чтобы по какой-то непростительно счастливой случайности перепродать их столь же полоумному коллекционеру за полмиллиона, каковую сумму Демон ныне считал как бы ссудой, предоставленной им кузену, обязанному рано или поздно ее возвратить, если, конечно, здравый смысл еще имеет хождение на этой парсунной планете. Со своей стороны и Марина не стала рассказывать Демону про шашни Дана с молодой больничной сиделкой, тянувшиеся со времени его последней болезни (кстати сказать, как раз у этой всюду сующей свой нос Бесс Дан в одном памятном случае попросил помощи «в подыскании чего-нибудь симпатичного для наполовину русской девочки, увлекающейся биологией»).
– Vous me comblez, – сказал Демон, имея в виду бургундское, – хотя, впрочем, мой дед по матери, пожалуй, предпочел бы выйти из-за стола, чем смотреть, как я пью под gelinotte красное вино вместо шампанского. Превосходно, дорогая моя (посылая поцелуй над простором пламени и серебра).
Жареные рябчики, вернее новосветские их представители (называемые здесь «горными куропатками»), подавались с брусникой (здесь называемой «горной клюквой»). Одна особенно сочная, поджаристая птичка обронила шарик мелкой дроби между красным языком и крепкими клыками Демона.
– La feve de Diane[136], – заметил он, аккуратно выложив дробину на край тарелки. – Как у тебя с машиной, Ван?
– Полная неясность. Я выписал «Розли» вроде твоей, но раньше Рождества мне ее не доставят. Попытался найти «Силентиум» с коляской и тоже не смог: война – хотя какая может быть связь между войной и мотоциклом, для меня загадка. Но мы обходимся, Ада и я, – ездим верхом, на велосипедах, даже на вжикере.
– Я вот спрашиваю себя, – сказал коварный Демон, – отчего это мне вдруг вспомнились прелестные строки нашего великого канадца о покрасневшей Ирен:
Le feu si delicat de la virginite
Qui что-то sur son front...
Хорошо. Можешь забрать в Англию мою, при условии, конечно...
– Кстати, Демон, – вмешалась Марина, – где и как я могла бы добыть старый поместительный лимузин со старым умелым шофером – вроде тех, что лет уже сто служат, к примеру, твоей Прасковье?
– Невозможно, моя дорогая, они все кто в раю, кто на Терре. А вот чего хочется Аде, что жаждет получить на день рождения моя молчаливая любовь? Это ведь, по расчету по моему, ближайшая суббота, верно? Une riviere de diamants?
– Протестую! – вскричала Марина. – Да-да, я серьезно. Я против того, чтобы ты дарил ей «квака сесва» (quoi que ne soit), об этом мы с Даном позаботимся сами.
– И кроме того, ты забудешь, – рассмеявшись, сказала Ада и с большой сноровкой показала кончик языка Вану, при слове «бриллианты» уставившемуся на нее в ожидании привычной реакции.
Ван спросил:
– При каком условии?
– При том, что тебя уже не поджидает точно такая же в гараже Георга на Ранта-роуд.
– Тебе, Ада, скоро придется вжикать в одиночестве, – продолжал он. – В конце каникул я собираюсь умыкнуть Маскодагаму в Париж. «Qui что-то sur son front, en accuse la beaute!»
Так и тянулась эта незначащая болтовня. У кого из нас не ютятся в мрачных пропастях сознания яркие воспоминания подобного рода? Кто не съеживался и не закрывал руками лицо, столкнувшись со злобным взглядом своего живописного прошлого? Кто в испуге и одиночестве долгой ночи...
– Что это было? – вскричала Марина, которую кэрлетические бури пугали даже сильнее, чем антиалабористов округа Ладора.
– Зарница, – предположил Ван.
– Ежели вам угодно знать мое мнение, – сказал Демон, разворачиваясь на стуле и вглядываясь в волнующиеся занавеси, – это была фотовспышка. Как-никак меж нами присутствует прославленная актриса и сенсационный акробат.
Ада подбежала к окну. Под мечущимися в тревоге магнолиями стоял, нацелив камеру на безобидное, веселое семейство, бледный мальчишка с двумя разинувшими рот горничными по бокам. Впрочем, то был всего лишь ночной мираж, явление в июле обычное. Никто не делал снимков, разве один лишь Перун, неудобосказуемый бог грозы. Марина в ожидании грома шевелила губами, про себя перебирая секунды, – словно молясь или подсчитывая пульс тяжелобольного. Предполагалось, что каждый сердечный удар отмеряет милю непроглядной ночи, отделяющую живое сердце от обреченного овчара, уже убитого где-то – о, далеко, далеко отсюда – на вершине горы. Гром наконец раскатился, но глухо. Вторая вспышка выявила анатомию балконного окна.
Ада вернулась на место. Ван поднял ее слетевшую под стул салфетку, успев, пока нагибался и разгибался, чиркнуть виском по Адиному колену.
– Нельзя ли мне получить еще немного Петерсонова рябчика, Tetrastes bonasia windriverensis? – величественно осведомилась она.
Марина позвонила в небольшой бронзовый колокольчик. Демон, коснувшись ладонью Адиной спины, попросил передать ему эту пробудившую в нем кое-какие воспоминания вещицу. Ада, порывисто изогнувшись, исполнила его просьбу. Вставив в глазницу монокль и приглушив благовест памяти, Демон осмотрел колоколец; нет, это не тот, что некогда стоял на подносике у постели в сумрачном шале доктора Лапинэ; этот даже не в Швейцарии сделан – всего лишь еще одно благозвучное переложение, с полувзгляда на оригинал обнаруживающее всю грубость совершенного переводчиком подлога.
Увы, бедная птица не пережила «оказанных ей почестей» и, после краткого совещания с Бутелленом, рядом с asperges en branches[137], которые смаковали все прочие, на тарелке молодой госпожи появился не вполне уместный, но более чем съедобный кусок арлезианской колбасы. Что-то вроде благоговейного испуга вызывало в стороннем наблюдателе удовольствие, с которым она и Демон совершенно одинаково изгибали лоснистые губы, поднося к ним из некой небесной выси роскошного родича скромной лилии долин, которого они держали за стебель пальцами, одинаково сложенными в щепоть – словно для «троеперстного знамения», за неприятие коего (смехотворная схизма, требующая, чтобы конец большого пальца непременно отстоял на вершок от конца указательного) одни русские люди всего два столетия назад заживо жгли других на берегах Великого Невольничьего озера. Ван вспомнил, как близкий друг его учителя, образованный, но жеманно-щепетильный Семен Афанасьевич Венгеров (1855-1954), в ту пору бывший еще молодым доцентом, но уже прославленным пушкинистом, говаривал, что единственный вульгарный пассаж в сочинениях его любимого автора – это содержащееся в незавершенной главе «Евгения Онегина» описание приличной лишь каннибалам радости обжорливых молодых людей, выдирающих «живых и жирных» устриц из их «раковин». Впрочем, «на вкус, на цвет», как дважды и оба раза неверно переводит ходовую французскую фразу («chacun a son gout»[138]) английский автор Ричард Леонард Черчилль в своем романе «Достойный и добрый человек», посвященном одному крымскому хану, некогда любимому репортерами и политиками, – так во всяком случае утверждал язвительный и пристрастный Гийом Монпарнасс, о новообретенной славе которого Ада, макая в чашу с водой перевернутый венчик правой кисти, принялась рассказывать Демону, исполнявшему тот же обряд и точно с таким же изяществом.
Марина достала «албанию» из хрустального ларчика, наполненного турецкими сигаретами с фильтром из лепестков красной розы, и протянула ларчик Демону. Ада с некоторой неуверенностью закурила тоже.
– Ты превосходно знаешь, – сказала Марина, – что отец не одобряет твоего курения за столом.
– Да ничего, пускай, – пробурчал Демон.
– Я про Дана говорю, – грозно пояснила Марина. – Он очень привередлив на этот счет.
– Он привередлив, а я нет, – ответил Демон.
Ада с Ваном невольно расхохотались. Это все были шуточки – не первостатейные, но все-таки шуточки.
Впрочем, мгновенье спустя Ван заметил:
– Пожалуй, я тоже не откажусь от «алиби» – виноват, от «албании».
– Прошу всех отметить, – сказала Ада, – насколько voulu была эта оговорка! Я люблю покурить, когда хожу по грибы, и всякий раз что я возвращаюсь, этот гадкий дразнила твердит, будто от меня пахнет неким влюбленным турком или албанцем, встреченным мною в лесу.
– Что ж, – сказал Демон, – Ван совершенно прав, проявляя заботу о твоей нравственности.
Настоящие русские «профитроли» – такие, какими их еще до 1700-го первыми стали готовить в Гаване русские повара, – это слоеные пирожки, политые густым шоколадом, они много крупнее темноватых, махоньких «profit rolls»[139], подаваемых в ресторанах Европы. Наши друзья уже покончили с этим сладким блюдом, приправленным соусом chocolat-au-lait[140] и готовы были приняться за фрукты, как вдруг в столовую, произведя некоторый фурор, вторгся Бут, а следом за ним его отец с поминутно спотыкающимся Джоунзом.
Все унитазы и водопроводные трубы дома внезапно заурчали, будто одно колоссальное расстроенное чрево. Такое их поведение всегда предвещало звонок дальнего следования. Марина, уже несколько дней ожидавшая неких вестей из Калифорнии – в ответ на свое опаляющее послание, – едва сдержала в этот миг страстное нетерпение, стремление при первом же булькающем спазме полететь к дорофону в сенях, тут-то и вбежал молодой Бут, волоча за собою длинный зеленый соединительный шнур (зримо вспухавший и опадавший, точно переваривающая мышь-полевку змея) с прикрепленной к нему мудрено изукрашенной, бронзовой с перламутром трубкой, которую Марина с бурным «A l'eau!"[141] прижала к уху. Но то был всего лишь суетливый старый Дан, позвонивший, дабы уведомить всех, что Миллер так-таки не сумел выкроить этим вечером время и приедет с ним, Даном, в Ардис завтра спозаранку, тем более что утро вечера мудренее.
– Насчет «спозаранку» не сомневаюсь, а вот «мудренее» навряд ли, заметил Демон, чувствуя, что уже сыт семейными радостями по горло, и начиная раздраженно сожалеть о первой половине карточной ночи в Ладоре, которой он пожертвовал ради хоть и приготовленного с наилучшими намерениями, но не вполне первоклассного обеда.
– Кофе нам подадут в палевую гостиную, – сказала Марина с такой печалью, словно речь шла о месте горестной ссылки. – Джордж, пожалуйста, не наступите на шнур. Ты даже не представляешь, Демон, до чего мне не хочется снова, спустя столько лет, встречаться с этим противным Норбертом фон Миллером, скорее всего ставшим еще наглей и угодливей да к тому же не знающим, я уверена, что жена Дана – это именно я. Он из балтийских русских (обращаясь к Вану), но самый что ни на есть echt deutsch, даром что у его матери, урожденной Ивановой не то Романовой, не помню уже, был в Финляндии или в Дании ситцевый заводик. Вообразить не могу, как он вдруг стал бароном, – когда я двадцать лет назад познакомилась с ним, он был зауряднейшим господином Миллером.
– Каковым и остался, – лаконично откликнулся Демон, – ты перепутала двух разных Миллеров. Поверенный Дана, это мой старинный приятель Норман Миллер из конторы «Фейнли, Фелер и Миллер», до умопомрачения похожий внешне на Уилфрида Лори. Норберт же, помнится, обладал головой, что твой Kegelkugel, жил в Швейцарии, отличнейшим образом знал, чья ты жена, и вообще был мерзавец, каких поискать.
Быстро покончив с чашкой кофе и рюмкой черри, Демон поднялся.
– «Partir c'est mourir un peu, et mourir c'est partir un peu trop». Скажи Дану с Норманом, что завтра в «Бриане» я готов в любое время угостить их чаем и булочками. Кстати, как Люсетта?
Марина слегка нахмурилась и покачала головой, входя в роль доброй, встревоженной матери, хотя в сущности любви к дочерям она питала даже меньше, чем к умнице Таку и беднячку Дану.
– Ах, мы натерпелись такого страху, – в конце концов ответила она, такого страху. Но теперь, кажется...
– Ван, – сказал отец, – сделай одолжение. Шляпы у меня не было, но перчатки были точно. Попроси Бутеллена поискать в галерее, скорее всего я их там обронил. Нет. Погоди! Все в порядке. Оставил в машине – помню, я мимоходом взял из вазы цветок, и он был прохладным...
С этими словами Демон отбросил его, вместе с тенью недолговечной потребности погрузить обе ладони в мягкую грудь.
– Я рассчитывала, что ты у нас заночуешь, – сказала Марина (которой на деле было все равно). – Какой у тебя номер в отеле, часом, не двести двадцать второй?
Ей нравились романтические совпадения. Демон справился с биркой на ключе: 221 – тоже неплохо, профетически и анекдотически говоря. Ехидная Ада, разумеется, скосилась на Вана, раздувшего ноздри для приобретения пущего сходства с узким прекрасным носом Педро.
– Смеются над старухой, – не без кокетства сказала Марина и на русский манер чмокнула в лоб поднесшего ее руку к губам гостя. – Ты прости, добавила она, – я на крыльцо не пойду. Плохо стала переносить темноту и сырость, а я уж и без того чувствую, что температура у меня подскочила самое малое до тридцати семи и семи.
Демон пристукнул по висящему рядом с дверью барометру. Но по тому уже столько стучали, что он перестал различимым образом отзываться и теперь остался на четверти четвертого.
Ван и Ада вышли проводить Демона. Ночь стояла теплая, из темноты сеялось то, что ладорские мужики называют зеленым дождичком. Черный Демонов «Седан» элегантно поблескивал между лощеных лавров в свете надкрылечного фонаря, под которым, словно снежинки, вились мотыльки. Он нежно расцеловал детей, девочку в щеку, мальчика в другую, снова Аду – в ямочку белой, обнявшей его за шею руки. Никто не глядел на Марину, махавшую стеклярусной шалью из яркого, как мандимус, эркерного окна, откуда она видела лишь мерцающий автомобильный капот да косо летящие в свете фар струи дождя.
Демон натянул перчатки и под громкий ропот мокрого гравия укатил.
– Последний поцелуй зашел, пожалуй, далековато, – сказал со смешком Ван.
– Да полно, – соскользнули губы, только и всего, – рассмеялась Ада, и смеясь, они обнялись в темноте и пошли, огибая крыло усадьбы.
На мгновение оба задержались, укрытые снисходительным деревом, под которым до них задерживалось немало гостей, выходивших, чтобы выкурить после обеда сигару. Мирно, невинно, застыв бок о бок в различных, предписанных им природою позах, они добавили по звонкой струйке к более профессиональному журчанию ночного дождя, потом, держась за руки, постояли в углу решетчатой галереи, ожидая, когда в окнах погаснет свет.
– Что-то было не так, off-key, этим вечером. Ты заметила? – тихо спросил Ван.
– Как не заметить. И все-таки я его обожаю. По-моему, он законченный сумасшедший – ни места, ни занятия в жизни, далеко не счастливый, с безответственной философией – и однако же нет никого, с кем его можно хотя бы сравнить.
– Да, но что же сегодня не сладилось? Ты словно воды в рот набрала, а все, что говорила она, выходило фальшиво. Я все гадаю, не учуял ли он каким-то внутренним нюхом тебя во мне и меня в тебе? Он пытался меня расспросить... Да, семейный сбор получился не ахти каким радостным. Ну скажи, что именно пошло за обедом не так?
– Любимый мой, будто ты сам не знаешь? Мы-то, может быть, и изловчимся вечно носить наши маски, покуда смерд нас не разлучит, но пожениться нам никогда не удастся, во всяком случае, пока они оба живы. Просто не выйдет, потому что он на свой лад еще добропорядочнее, чем закон и зуд общественного мнения. Собственных родителей не подкупишь, а сорок, пятьдесят лет дожидаться их смерти – слишком страшно, чтобы даже думать об этом, я хочу сказать, сама мысль, что кто-то способен ждать такого, не в нашей природе, она нам чужда – и чудовищна!
Он поцеловал ее в приоткрытые губы, нежно и «нравственно», по определению, принятому ими для наполненных смыслом минут – в противоположность исступлению страсти.
– Как бы там ни было, – сказал он, – изображать тайных агентов во враждебной стране довольно забавно. Марина поднялась к себе. У тебя волосы мокрые.
– Шпионов Терры? Ты веришь, веришь в существование Терры? Ведь веришь же! Ты принимаешь его. Я тебя насквозь вижу!
– Принимаю, как состояние разума. Это не вполне то же самое.
– Но ты-то хочешь доказать, что это то же самое и есть.
Он коснулся ее губ еще одним набожным поцелуем. Впрочем, по краям они уже занимались огнем.
– Как-нибудь, – сказал он, – я попрошу тебя повторить представление. Ты будешь сидеть, как четыре года назад, за тем же столом, при том же свете, рисуя тот же самый цветок, а я воспроизведу всю ту сцену с такой радостью, гордостью, с такой – не знаю, как сказать, – с такой благодарностью! Смотри, все окна уже погасли. Знаешь, я тоже могу переводить стихи, когда от них некуда деться. Вот послушай:
- Lights in the room were going out.
- Breathed fragrantly the розы.
- We sat together in the shade
- Of a wide-branched березы.[142]
– Ну да, «birch»[143], покидающая переводчика «in the lurch»[144], так? Кошмарный стишок Константина Романова, верно? Новоиспеченного президента Лясканской Академии Литературы, правильно? Жалкий поэт, но счастливый муж. Счастливый муж!
– Знаешь, – сказал Ван, – я, право же. считаю, что тебе следует надевать что-нибудь под платье хотя бы в торжественных случаях.
– У тебя руки холодные. А почему торжественных? Ты же сам сказал, семейный сбор.
– Все равно. Стоило тебе нагнуться или раскорячиться, как ты подвергалась большой опасности.
– Я вообще никогда не корячусь!
– Пусть, но я совершенно уверен, что это нечистоплотно, хотя, быть может. тут что-то вроде ревности с моей стороны. Воспоминания Счастливого Стула. Ах ты, радость моя.
– По крайней мере, – прошептала Ада, – сейчас эта привычка себя оправдывает. Крокетная площадка? Ou comme ca?
– Comme ca[145] и немедленно, – ответил Ван.
39
Ладорские моды 1888 года хоть и грешили эклектичностью, но все же не подразумевали полной вседозволенности, как о том полагали в Ардисе.
Собираясь на большой пикник по случаю дня своего рождения, шестнадцатилетняя Ада облачилась в простенькую полотняную блузку, кукурузно-желтые брючки и обшарпанные мокасины. Ван попросил ее распустить волосы; Ада воспротивилась, сказав, что они слишком длинны, чтобы не стать на приволье помехой, но в конце концов нашла промежуточное решение, подвязав их посередке мятой ленточкой из черного шелка. Единственными Вановыми уступками условностям летнего вкуса были голубая рубашка «поло», серой фланели штаны до колен и спортивные туфли на толстой подошве.
Пока среди солнечных брызг традиционного сосняка шли приготовления к бесхитростному сельскому празднику, неугомонная девчушка улизнула со своим возлюбленным в поросший папоротником овражек, где меж высоких кустов ожины скакал с уступа на уступ ручеек, – тут они отдали несколько минут радостям ненасытной страсти. День стоял жаркий, безветренный. И в самой малой из сосен ютилась своя цикада.
Она сказала:
– Выражаясь на манер девицы из старого романа, мнится мне, будто уже давным-давно, long ago, играла я здесь в слова с Грейс и двумя другими прелестными девочками. «Insect, incest, nicest».
Выражаясь на манер безумной ботанички, она сказала, что замечательнейшее слово в английском языке это «husked», потому что им означаются полностью противоположные вещи – покрытое кожицей и облупленное, шелуха крепка, но легко лущится, я к тому, что они же легко снимаются, зачем было рвать поясок, животное? «Прилежно залущенное животное», – нежно откликнулся Ван. Быстролетящему времени удавалось только усилить его нежность к созданию, которое он стискивал в этот миг, к обожаемому созданию, чьи движения обрели новую гибкость, ляжки – новое сходство с лирой, чью ленточку в волосах он развязал.
Они полуприсели-полупригнулись на одном из кристально чистых порожков ручья, где тот, перед тем как пасть, замирал, чтобы сняться и самому сделать снимок, и при последнем содрогании Ван увидел в воде отражение Адиных насторожившихся глаз. Нечто похожее уже случалось когда-то и где-то: у него не было времени, чтобы отчетливо вычленить воспоминание, и все же оно позволило ему сразу понять, кто шебуршится у него за спиной.
Отыскав среди острых камней бедную маленькую Люсетту, поскользнувшуюся на неприметной в густых кустах гранитной плите, они принялись ее утешать. Зардевшаяся, смущенная девочка потирала бедро с преувеличенно страдальческим видом. Ван и Ада весело ухватили по маленькой ладошке и побежали с Люсеттой назад к поляне, там она, рассмеявшись, вырвалась и бросилась к любимым пирожкам с фруктовой начинкой, поджидавшим ее на одном из раскладных столов. Слущив с себя безрукавку-джерси, она подтянула зеленые штанишки, присела на рыжеватую землю и набросилась на собранные со стола лакомства.