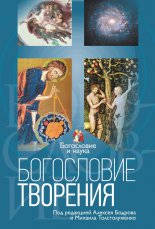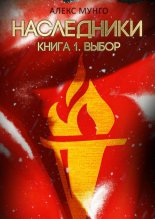Другая судьба Шмитт Эрик-Эмманюэль

– Снобы – это лентяи, которые не умеют ни думать, ни судить самостоятельно. Для снобов придумали моду, последний писк, новизну. Я делаю современные веера.
– Современные?
– Ну да! Современные. Каких не видели раньше! Или успели забыть! Вот и считают веянием нашей эпохи.
– Вот-вот. Как негритянское искусство. Пикассо и иже с ним внушили публике, что это ах как ново, а между тем этому уже века.
– Именно. Вот я и делаю кубистический веер. Дурища, которая хочет отличаться от матери, от бабушки и от соседки, обязательно его купит.
– Не принижай себя. Твои веера очень красивы.
– Я и не говорю, что они безобразны. Просто объясняю, почему их покупают.
Адольф никак не мог сделать себе имя в мире искусства.
Поселившись в Париже, он на деле выяснил, что значит «жить» своей живописью и что такое «выживать». Часто ему приходилось платить за обед полотном или рисунком – если хозяин соглашался, – и поначалу он терпеливо сносил эту несправедливость, надеясь со временем преуспеть, но другие художники завоевывали известность, а он оставался неудачником.
– Ты не неудачник, ты проклятый художник, – говорила ему Одиннадцать-Тридцать.
– А какая разница?
– Возьмем того итальянца-красавчика, Мобиди…
– Модильяни.
– Во-во. Он умер в бедности, а теперь продается за бешеные деньги.
– Не вижу связи.
– Я буду богатой вдовой.
– Ну уж нет, я предпочту прижизненную славу посмертной… и потом, я хочу жить. Жить хорошо. Наконец. Пикассо стал миллионером, Дерен[12] разъезжает на «бугатти», Ман Рей[13] на «вуазене», Пикабиа[14] на «делаже», а Кислинг[15] на американском лимузине.
– Полно, мой бош, многие тут старше тебя. Пикассо, например, ему…
– Восемь лет разницы! Всего восемь лет! Это несерьезно!
– Может, и ты разбогатеешь через восемь лет. Полно, мой милый бош, ты не имеешь права вешать нос.
Адольф страдал от бедности, но за этим страданием – нестыдным, банальным, понятным – крылось другое, глубинное, тайное: он сомневался в своем таланте.
Писать картины, которые могут не нравиться самому, – удел всякого художника. Артист любит делать то, что он делает, но не любит сделанного. Он скорее актер, чем зритель, – не ему наслаждаться результатом. Певцу редко нравится собственный голос, писатель не читает своих книг, хотя первый любит петь, а второй писать. Об этом Адольф не беспокоился, прекрасно зная, что никогда не оценит своих полотен. Но он подозревал себя в самозванстве, что было куда серьезней. Свое первое оригинальное полотно он создал играючи – отчасти от раздражения, отчасти из праздности, отчасти по вдохновению. Он бы сразу его уничтожил, если бы не Нойманн. Нойманн, насколько помнил Адольф, никогда не ошибался в оценках чужой живописи. Почему бы не положиться на него и в этот раз? Доверие к Нойманну перевесило его скептицизм. Он выстроил свою судьбу на суждении ближнего.
Материальные трудности, холодность галерейщиков, равнодушие любителей – все это оттачивало теперь нож сомнения. Неужели он ошибся? Ему было неуютно в своей эпохе. Он чувствовал, что, в сущности, не имеет ничего общего со всеми монпарнасцами: кубизм казался ему тупиком, фовизм тоже, абстракционизм тем более; он ненавидел дикий, густой, жирный мазок, вошедший в моду в начале века; презирал искривление штриха – технику «заметок на полях», – господствующее в современном рисунке. Он продолжал ходить в Лувр, восхищался Энгром, Давидом, даже Винтерхальтером;[16] он любил завершенность, невидимость кисти, растворение жеста художника в живописи; он был привержен традиционным ценностям и в глубине души, почти тайно, испытывал уважение к фактуре художников-академиков, столь ненавидимых и поносимых, которых прозвали «пожарными», потому что они-де никогда не упустят отсвета, отблеска и даже вмятинки на многочисленных шлемах, присутствующих в мифологических и древнеримских сюжетах. Мастерство! Он боготворил мастерство, а современная живопись славила смелость, разрыв, зрелище.
– К нам гости!
Одиннадцать-Тридцать услышала сигнал консьержки, оповещавший о визите. Мадам Соломон постучала по водосточной трубе. Если она стучала дважды – пришел покупатель; три стука означали судебного исполнителя, четыре – полицию.
Трубу сотрясли два удара. Одиннадцать-Тридцать пошла открывать, цокая каблуками по ступенькам.
– Славомир! Какой сюрприз!
Большой, толстый, заплывший жиром галерейщик Славомир утер пот со лба, не удостоив Одиннадцать-Тридцать ответом. У него вошло в привычку игнорировать подружек своих артистов: они или менялись слишком часто – где уж тут запоминать имена, или задерживались, предъявляли ему счет за недопустимую бедность любовника.
– Адольф, ты должен меня спасти. Есть клиент, который интересуется тобой.
– Ну и?.. Продай ему мои работы.
– Он в восторге от тебя!
– Тебя это удивляет? Продай подороже!
– Да, конечно, но он хочет познакомиться лично.
Адольф поморщился; он испытывал двойственные чувства к покупателям: благодарность – за то, что оценили, обиду – за то, что платят так мало, и, главное, забирают произведения, которые ему хотелось сохранить для себя.
– Не начинай, Адольф, не строй из себя тещу.
Так Славомир называл реакцию художников, видевших в каждой картине свою дочь, отнятую зятем.
– Садитесь, мсье Славомир-неспособный-полтора-года-запомнить-мое-имя, – пропела Одиннадцать-Тридцать, пододвигая стул.
Славомир посмотрел на нее так удивленно, словно не ожидал, что она умеет говорить, и плюхнулся на единственный стул в мастерской.
– Что за чудо этот Славо! – хихикнула Одиннадцать-Тридцать. – Неделю рыжий, неделю лысый, неделю усы висят, неделю топорщатся щеточкой. Сколько фантазии! Артист по части волос! Глазам не верю, у вас наверняка жена-парикмахерша…
Славомир, по своему обыкновению, притворился глухим и повернулся к Адольфу:
– Я пересек весь Париж, клиент ждет, поторопись.
Выражение «весь Париж» в устах Славомира означало «восемьсот метров», но при его комплекции они равнялись целому путешествию.
– Нет, я останусь здесь буду работать. Каждому свое.
– Умоляю тебя…
– Нет. Я пишу. Ты продаешь.
– Пожалуйста!
– Нет…
Это был извечный спор: Адольф своим отказом напоминал Славомиру, что он хороший художник, а Славомир – плохой галерейщик.
Вмешалась Одиннадцать-Тридцать:
– Иди, мой бош. Ты же знаешь, что Славо лучше умеет покупать, чем продавать.
Эта фраза остановила перепалку. Одиннадцать-Тридцать была права. Наделенный чутьем и вкусом, страстный, готовый рисковать, Славомир всегда умел отыскивать многообещающих художников, он заключал с ними контракт, когда все другие им отказывали, но из бедности выбраться не помогал, потому что недостаточно красноречиво убеждал потенциальных покупателей, уверенный, что картина говорит сама за себя. Многие художники разбогатели и прославились, когда порвали с ним, тем самым подтвердив и его нюх, и отсутствие коммерческой жилки.
– Ладно, сейчас оденусь, – смилостивился Адольф.
– Не слишком чисто, только не слишком чисто, – усмехнулась Одиннадцать-Тридцать, – не забывай, что ты – проклятый художник.
Она отошла к печке, чтобы сварить Славомиру чашку кофе, а когда вернулась, он уже спал.
– Вот беда-то. В такой час! Стыдоба! Спит, как сытая корова.
Галерейщик был известен своей привычкой мгновенно засыпать где угодно и когда угодно. Ходила легенда о том, что он даже ухитрился отключиться посреди трудного разговора с налоговым инспектором.
– Он еще и пузыри пускает!
Ниточка слюны стекала с нижней губы, вздуваясь от дыхания, словно хотела стать воздушным шариком и улететь.
– Да уж, феномен. Его надо показывать в цирке. Сразу после слонов, чтобы дети не пугались.
– Я готов, – сказал Адольф.
Славомир открыл глаза, слегка покраснел и огляделся, пытаясь понять, где находится.
– С возвращением на землю, толстяк, – приветствовала его Одиннадцать-Тридцать, – ты стал сто четырнадцатой женой султана Али-Бабы. Только он и сможет тебя прокормить.
Она повернулась к Адольфу:
– Правда, сколько он, наверно, жрет, этот пузан!
Славомир проигнорировал ее шпильку, поднялся, потянул Адольфа за руку и вышел.
Одиннадцать-Тридцать последовала за ними на лестничную клетку:
– Заходите в любое время, мсье Славомир. С вами так весело. Сегодня я показала вам грудь, в следующий раз подставлю левую ягодицу.
Спускаясь вниз поступью сенатора, Славомир обернулся к Адольфу:
– Это правда? Она разделась передо мной?
– Да, но что с того? Ты спал.
– Все равно! – возмутился Славо. – Уже и уснуть спокойно нельзя. Знала бы моя бедная матушка…
Разволновавшись, как жертва насилия, он утер лоб насквозь мокрым платком.
Восемьсот метров до галереи они одолели с трудом: Славомир несколько раз останавливался, чтобы перевести дух. В зале их ждал мужчина.
– Знакомьтесь, это Адольф Г., – сказал багроволицый Славомир и, рухнув в кресло, мгновенно заснул.
Зеленоглазый, длинноволосый, с прямым носом, довольно красивый почти скульптурной красотой мужчина смотрел на Адольфа магнетическим взглядом. Художник решил, что перед ним маг.
– Поздравляю, мсье, вы из наших.
– Простите? – переспросил Адольф, боясь, что какая-то тонкость французского языка помешала ему правильно понять.
– Вы из наших. Вы великий художник. Эта логика, свободная от всякого рационализма, эта прихотливая фантазия, прислушивающаяся к самым противоречивым импульсам, эта неупорядоченность сказанного при самых классических живописных средствах, эта дерзкая современность, эта смесь академизма и авангардистского разрыва, – короче, я признаю вас одним из наших.
Ошеломленный, Адольф чувствовал, как гипнотизируют его эти зеленые глаза. От факира – так он его прозвал – исходила какая-то темная сила, повергавшая его в трепет, нечто среднее между мессианской харизмой и чувственным соблазном. Взгляд, казалось, отражал мистические потусторонние миры, а нижняя губа, непомерно развитая, очень четко очерченная, выдавала сильную чувственность. Факир улыбнулся, не дрогнув ни единым мускулом лица, каким-то внутренним озарением, как это сделала бы женщина, заботящаяся о своей красоте.
– Извините, – пролепетал Адольф, – но Славомир очень неразборчиво произнес ваше имя, и я боюсь, что…
– Я Андре Бретон, – сказал Факир, – глава сюрреалистского движения. Я забираю вас с собой.
– Почта для вас, герр Гитлер.
– Цветы для вас, герр Гитлер.
– Корзина фруктов для вас, герр Гитлер.
– Одна дама и один журналист в комнате для свиданий желают с вами встретиться, герр Гитлер.
– Нам доставили книги, которые вы заказывали, герр Гитлер; библиотекарь принесет их вам лично.
Каждый день тюремная охрана почтительно стучала в дверь его камеры, где уже не хватало места для подарков и писем от поклонников, поступавших каждый день мешками. Никогда еще не приходило столько посетителей. Персонал Ландсбергской тюрьмы был тайно польщен столь популярным гостем, центром притяжения светской жизни; последние несколько месяцев некоторые работали с упоительным чувством, будто служат не в исправительном учреждении, а в роскошном отеле.
Предыдущую звезду, Арко,[17] убийцу баварского премьера Эйснера, перевели, чтобы поместить Гитлера в просторную камеру номер 7, лучше всего обставленную, единственную, из которой открывался прекрасный вид. В белом махровом халате или в традиционных кожаных штанах, он мог свободно принимать у себя других заключенных, в частности Рудольфа Гесса, севшего вместе с ним.
Пережив период молчания, когда он жалел, что не покончил с собой, Гитлер воспрялул. Первой хорошей новостью стало сообщение о том, что шестнадцать нацистов погибли во время путча; он заключил, что Провидение, по своему обыкновению, снова защитило его. Второй хорошей новостью стала смерть Ленина, случившаяся в январе; он не только порадовался кончине еврея-большевика, но и усмотрел в этом тайное послание судьбы, которая спасла когда-то Фридриха Великого через смерть царицы Елизаветы,[18] а теперь помогла и ему, устранив препятствие и подтвердив тем самым его первостепенную роль. Третьей хорошей новостью явился сам процесс: Гитлер говорил несколько часов и отделался пятью годами тюрьмы – смешной срок, если вспомнить четырех убитых полицейских, миллиарды украденных марок, разрушение помещений «Мюнхенер пост», взятие в заложники политических деятелей и муниципальных советников, – да и этот срок наверняка сократят благодаря примерному поведению.
В Мюнхене не слышали больше о Гитлере, не видели свастик на улицах и публичных собраниях; кто-то мог даже решить, что Гитлер и национал-социалистическая партия навсегда исчезли с карты мира. Но в Ландсберге, в камере номер 7, происходило совсем другое: Гитлер заканчивал творить Гитлера.
Он постоянно мысленно возвращался к образу паяца в непромокаемом плаще, испугавшегося своего револьвера в старом зеленоватом зеркале. Он знал, что не успокоится, пока не истребит это воспоминание и не создаст Гитлера, которым будет гордиться, Гитлера, который не даст слабину, который пройдет не дрогнув свой победный путь к власти.
Все скоро забудут этот провалившийся путч, так ничего и не поняв. Гитлер же извлечет из него уроки. Только он один.
Первым делом он решил научиться терпению. Есть ли для нетерпеливого человека усилие более тяжкое, чем принудить себя к терпению? Он сумел это сделать, наведя порядок в своих мыслях: если цель – захват власти, только от этого и должен зависеть срок. Он был заранее готов ждать ровно столько, сколько потребуют его амбиции.
Затем он замыслил прийти к власти легальным путем. Он, непревзойденный пропагандист, выдвинет свою кандидатуру на выборах и соберет голоса. Его враги не ожидали такого неприятного сюрприза.
Наконец, он записывал свою жизнь и свои идеи, вернее, диктовал их, ибо яростное вдохновение, снисходившее на него, когда он говорил, иссякало, стоило ему остаться один на один с чистым листом бумаги. Он назвал книгу «Моя борьба» и с наслаждением познавал в ней, как логичен был его путь и как неуклонно он вел его к тому, чтобы стать великим человеком, которого ждала Германия. Он сам себе удивлялся.
«По счастливому предопределению я родился в Браунау-ам-Инн, городке, расположенном точно на границе двух немецких государств, чье слияние видится нам главной задачей нашей жизни, решения которой надо добиваться всеми силами». Он был в восторге оттого, что жизнь его с самого начала приняла форму легенды, возвещая с рождения воссоединение Германии и Австрии, входившее в его программу. Впрочем, жизнь свою он рассказывал не такой, какой она была, но такой, какой была ему необходима. Ничтоже сумняшеся скрывал то, что не годилось для будущего вождя Германии, и добавлял то, чего ему недоставало. Так, учебу он не провалил, а бросил, потому что его призывали более насущные дела. Он обошел молчанием побои отца, упомянув лишь, что тот противился его призванию артиста, чтобы подчеркнуть силу воли вождя даже в детстве. Он превратил в жизнь студенческой богемы долгие годы в ночлежках и приютах для бедных. Свою неудачу в живописи оправдал тем, что был скорее склонен к архитектуре. Подтасовал даты, которые могли бы показать, что он хотел уклониться от воинской повинности. Свой свежий антисемитизм он отнес к ранней юности и заявил об изначальном тонком интеллекте, которым, как полагал, был наделен теперь. Политический гений. Он ваял в граните. Стремился показать, что не изменился. Если бы мог, он пририсовал бы себе усы в колыбели.
В других главах, не столь биографических, он формулировал свои мысли. Верный писарь Рудольф Гесс помогал ему, хоть и докучал порой своими университетскими привычками.
– Черт побери, Гесс, кончайте засорять мне мозги вашими референциями! Какая разница, откуда берутся идеи! Идеи хороши или плохи, вот и все. Не знаю, почерпнул я эту расовую концепцию у Чемберлена или у Го… как вы сказали?
– Гобино.[19]
– У Гобино или у…
– Бёльше.[20]
– …или у Бёльше. Я все равно никогда не запоминаю имен авторов. И вообще, идеи не принадлежат никому. Нет, не так – они принадлежат тем, кто их обдумывает, вдыхает в них жизнь своим словом и передает другим. В данном случае мне, Адольфу Гитлеру.
На этом вынужденном отдыхе, который он иронически называл «университетами за государственный счет», у него появилось наконец время, чтобы связать воедино разрозненные заметки.
– Видите ли, Гесс, я думаю, что все понял о людях, наблюдая за собаками. Нельзя привить мопсам качества борзых или пуделей. Никакой дрессурой. Быстрота борзой, сообразительность пуделя присущи породе. Возродить немецкую нацию можно, лишь действуя как селекционер, борясь за чистоту породы. Таким образом, мы приходим к программе из двух пунктов: блюсти чистоту расы и уничтожать чуждые элементы, не поддаваясь опасной чувствительности. Не надо сохранять ущербных, калек, физически и умственно неполноценных; как с ними поступать – другой вопрос. Тех, что уже живут, – немедленно стерилизовать. Тех, что еще родятся, – уничтожать, прежде чем их увидят родители. Вот это и будет истинный прогресс медицины: грань между жизненной силой и жалкой немощью, а не сомнительное стремление сохранить жизнь особям, которые ослабляют нацию. Вот это и будет гуманная медицина. Второй пункт программы: избавиться от евреев.
– Каким образом?
– Прежде всего их надо изолировать, иначе они не прекратят портить нашу кровь. Точно так же следует помещать в карантин больных смертельными болезнями, чтобы они не заражали здоровых; необходимо срочно изолировать сифилитиков и туберкулезников. Да, я за безжалостную изоляцию неизлечимых.
– Изолировать евреев. А потом?
– Удалить их с немецкой территории.
– А потом?
– Я знаю, это выглядит крайностью, но надо принимать санитарные меры. Если бы мы в начале войны хоть раз подержали двенадцать или пятнадцать тысяч этих предателей-евреев под отравляющими газами, которыми мы сами потом дышали в окопах, то сохранили бы миллионы немцев для славного будущего.
– Вы хотите сказать, что…
– Сейчас мы говорим о территориальном решении. Удаление. Этого будет достаточно.
– Но в то же время вы говорите, что Германия должна расширяться.
– Да, нам необходимо жизненное пространство!
К понятию «жизненное пространство» он пристрастился в тюрьме, видимо устав находиться в четырех стенах, потому что отождествлял Германию со своей особой.
– Мы должны срочно пересмотреть речи евреев и присвоить их. Мы – избранный народ. Мы – арийский народ. Не может быть двух избранных народов. Если их два, значит один был избран Богом, другой Сатаной. Противостояние арийского и еврейского миров – это противостояние Бога и Сатаны. Еврей – насмешка над человеком, он далек от нас, как животные от людей. Это существо, чуждое естественному порядку вещей, существо, противное природе.
– Однако не так-то просто точно определить, что есть ариец. Даже в Германии столько людей родилось от смешанных браков, что вы или я – мы…
– Не важно. Главное – указать на врага. А тут все ясно: еврей. Итак, Германия, единственный избранный народ, должна расширить свою территорию. Это жизненная необходимость. Мы будем воевать, ибо меч, как известно, превыше плуга. Война – неотъемлемое право народа, право кормить своих детей. Две территории представляются мне перспективными для Германии с точки зрения земель, сырья и внутренних рынков: Соединенные Штаты и Советский Союз. Мы начнем с Востока, ибо нам потребуется большой европейский плацдарм, чтобы напасть на Запад.
– Грандиозно. Но что делать с евреями, если Германия будет владеть миром?
– Там будет видно, Гесс, там будет видно.
– Грандиозно!
Гитлер не мог заснуть после этих долгих часов работы. Дерзость собственной мысли изматывала его. Фразы продолжали рождаться в его мозгу, и нередко он вставал и, дав себе волю, произносил речь, когда за окном занималась заря.
– Я одержим, – шептал он, глядя на бледное раннее солнце, медленно будившее петухов. – Я постоянно обуреваем мыслями. Моя миссия не дает мне покоя. Да, я воистину одержим.
Одержим заботой о благе. Ни на миг ему не приходило в голову, что это не благо, а зло.
20 декабря 1924 года директор тюрьмы лично сообщил ему о досрочном освобождении, хотя до конца срока оставалось еще четыре года.
Уже? Как жаль! – подумал Гитлер. Я почти закончил книгу.
– Без шляпки, без трусиков, без стыда! Так, что ли?
Одиннадцать-Тридцать так кричала на официанта кафе, что тот перепугался и ретировался с террасы, укрывшись в задней комнате.
Адольф и Нойманн от души смеялись над гневом, сотрясавшим молодую женщину.
– Это недопустимо! Отказаться меня обслуживать, потому что я не ношу шляпки! Принять меня за распутницу из-за того, что я простоволосая! Да что они себе думают, все эти олухи? Что головной убор лучше распятия удостоверяет нравственность? Что женщина с покрытой головой не раздвигает ноги? Знаю я первостатейных шлюх, у которых всегда перья на голове, могу ему их назвать! Длиннющий список! Нет, если он принесет мне мой клубничный шамбери, я выплесну его ему в лицо! Святоша! Кабатчик! Зарабатывает на хлеб, отравляя бедных людей дрянной выпивкой, и берется читать мораль? Ущипните меня, я, верно, сплю…
Гнев был у Одиннадцать-Тридцать своеобразной формой хорошего настроения. Через крик, возмущение, сочную брань она выражала радость жизни, аппетит к жизни, желание не отдать своего другим – или небытию.
– Вот, мадам. Два пастиса и клубничный шамбери.
Бледный официант поставил стаканы, опасаясь нового скандала. Но у Одиннадцать-Тридцать уже были другие заботы.
– Пойдемте со мной к этому ясновидящему. Говорят, он просто чудо.
– Нет уж, спасибо, – отказался Нойманн, – у меня не так много денег, чтобы бросать их на ветер.
– Ты в это не веришь?
– Я верю только в случай, сталкивающий материю. Я материалист. И не представляю, как человек может якобы видеть будущее.
– А мне его рекомендовали, этого ясновидящего.
– Естественно, добровольные жертвы передают сведения из уст в уста.
– Ох, до чего же вы унылые, большевики! Ты не находишь, Адольф, что коммуняки вроде Нойманна выглядят мрачно, как кюре в красной сутане? Только от них не пахнет потухшей свечкой, а разит ржавым серпом. Прямо скажем, один черт.
– Одиннадцать, ты должна уважать Нойманна, – сказал Адольф ласково.
– А я его уважаю. Уважаю, потому что он красивый, хоть и унылый. Уважаю, потому что он твой друг, хотя должен тебе кучу денег. Уважаю, потому что он и мой друг, хоть мы с ним ни в чем и не согласны. Смирно, товарищ Нойманн, я само уважение, но на свиданку все-таки пойду.
Отсалютовав по-военному, она оставила мужчин на террасе кафе и отправилась во двор, где принимал ясновидящий.
Он сидел в крошечном помещении, зажатом между двумя зданиями и сараем для мусорных баков, рядом с пружинным матрасом, поставленным на четыре кирпича, и сундуком, набитым рукописями, предлагая посетителям два колченогих стула у подержанного столика, под взглядом Христа, нарисованного мелом на стене. Круглая лысая голова медиума блестела, как его хрустальный шар; он принимал клиентов только по понедельникам и называл себя поэтом, хотя никто не относился к нему всерьез.
– Добрый день, мсье Жакоб, – поздоровалась Одиннадцать-Тридцать.
– Зовите меня Максом, – ответил коротышка-ясновидящий.
И они закрылись, чтобы поговорить о будущем.
Разомлев на солнце, повеселев от пастиса, Адольф и Нойманн смотрели на проходивших мимо парижанок.
– Я уезжаю в Москву, – сказал Нойманн.
– Я знаю.
– Меня пригласили поработать в Доме народов. Я пробуду там три месяца.
– А писать будешь?
– Не знаю.
– Нойманн, я тебя понимаю, ты хочешь заниматься политикой, но будет жалко, если из-за этого бросишь живопись.
– Живопись прекрасно обходится без меня.
– Да, но ты, разве ты можешь обойтись без живописи?
Нойманн ответил задумчивым молчанием.
Адольф не успокаивался:
– Ты талантлив. Ты в ответе за свой талант. Ты должен найти ему применение.
Нойманн нарочито зевнул.
– Не вижу интереса в живописи для мира, который мы должны построить. У людей нет работы, людям нечего есть, а ты думаешь о живописи.
– Да. Мне нечего есть, мои работы никому не нужны, а я все равно думаю о живописи. И хочу, чтобы богачи, гнусные капиталисты, как ты говоришь, рвачи, западали на мою живопись. Да.
– Это в прошлом. Теперь я думаю иначе, – сказал Нойманн.
– Война украла наши жизни, разве этого не достаточно? Ты хочешь, чтобы теперь ей на смену пришла политика?
– Нет, Адольф, ты ничего не понял в войне. Ты видел в ней бойню, которая убила талант Бернштейна и тормозила твое развитие. Я же видел в ней политическую гнусность. Этой войной мы обязаны нации, пославшей нас на смерть. А что взамен? Ничего. Что это такое – нация? Что значит быть немцем, французом, бельгийцем или шведом? Ничего. Вот что я понял во время войны: нацию надо заменить государством. И не абы каким государством. Государством, которое гарантирует счастье, благосостояние и равенство всем.
– Хватит потчевать меня твоей коммунистической похлебкой, я все знаю, Нойманн, сто раз слышал.
– Ты меня слышишь, но не слушаешь. Коммунизм – это…
– Коммунизм – это послевоенная болезнь, Нойманн. Вы хотите изменить общество, которое потребовало в жертву тысячи жизней. Но вы от него, от общества, хотите не меньше, а больше. Оно послало вас умирать – теперь вы требуете, чтобы оно дало вам жить, организовало вашу жизнь во всем до последних мелочей. Вот в этом, по-моему, вы ошибаетесь. Лично я не хочу от общества больше, я хочу меньше. После этой войны я ничего больше не хочу давать обществу, пусть оставит меня в покое, я ему ничего не должен.
– Браво! Правый анархизм! Отменный ответ! Так, милый мой, мир не изменить.
– Но я не хочу менять мир, Нойманн, я хочу только состояться.
Подошла Одиннадцать-Тридцать, села рядом и молча поднесла к губам пустой стакан. Адольф заметил, что нос у нее распух, а глаза покраснели.
– Что такое? Ты плачешь?
Она встряхнулась, как будто только что их заметила, и нежно улыбнулась Адольфу.
– Нет. То есть да.
– Этот дурак-ясновидящий что-то тебе сказал?
– Нет. То есть да.
– И ты из-за этого плачешь?
– Да нет же! Ничего подобного! Я расхлюпалась из-за сенной лихорадки. Сейчас самый сезон для насморка.
– Я не знал, что у тебя сенная лихорадка, – с сомнением сказал Адольф.
– Теперь будешь знать, вот!
У Адольфа не было времени расспрашивать Одиннадцать-Тридцать: им пора было отправляться на собрание сюрреалистов в зал Гаво, где собирались провести суд над Анатолем Франсом.
По тротуару у театра расхаживали сэндвичмены с афишами, сообщавшими о процессе.
К ним обращались возмущенные прохожие:
– Но ведь Анатоль Франс умер. Страна устроила ему пышные похороны, как можно его судить?
– В чем он виновен?
– Оскорбление нравов?
– Плагиат?
– Оставьте мертвых в покое, это возмутительно!
Адольф, Нойманн и Одиннадцать-Тридцать потирали руки, констатируя, что атмосфера успела сильно накалиться.
– То-то повеселимся, – сказала Одиннадцать-Тридцать.
Зазывалы сообщали о присутствии на суде Чарли Чаплина, Бастера Китона и князя Монако. Ни одного из них там, конечно, не было, но доверчивые зеваки устремлялись в зал.
– Поторопитесь, – кричал один молодой поэт, – всех опоздавших обреют!
Те, кто нерешительно топтался в дверях, испугались и поспешили внутрь.
Сцена изображала зал суда с расставленными столами и стульями. Факир, Андре Бретон, играл роль судьи. Обвинение представлял Бенжамен Пере. Защиту – Луи Арагон.
– Как хорошо он всегда одет, этот Арагон, – восхищенно пробормотала Одиннадцать-Тридцать. – И не подумаешь, что поэт, скорее парикмахер.
Факир взял слово:
– Дамы и господа, обвиняемый Анатоль Франс не соизволил предстать перед судом, невзирая на приглашение. Он спешно покинул Париж на катафалке, не оставив даже записки, хотя столько всего написал на своем веку.
– Какой стыд! Так говорить об умерших! – возмутилась какая-то дама в зале.
– Мадам, он умер еще при жизни. От него всегда воняло трупом. Надо быть им или вами, чтобы этого не заметить.
Дама воинственно замахала зонтиком, ее спутник тоже оскорбился, а молодые люди вокруг них заулюлюкали. Начиналась потасовка.