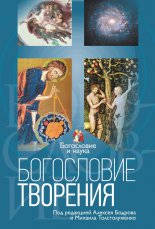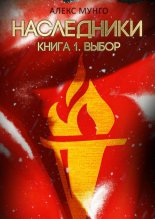Другая судьба Шмитт Эрик-Эмманюэль

Она оперлась на него, переводя дыхание.
– Спасительница душ – это сапожное ремесло, мой глупый бош. Душа – это часть сношенной подметки, которую можно использовать для новой пары.
Она посмотрела на него снизу вверх:
– Конечно, надо быть бедным и французом, чтобы знать это.
– Ну да, – сказал Адольф, – а я немец и тоже бедный.
– Ладно, ладно. Я ведь тоже не из Ротшильдов. Зато я нашла один фокус, который сделает меня богатой.
– Да ну? И что же… что это?
– Не думай, что я так сразу выложу тебе все мои секреты. Узнаешь, если заслужишь.
– А мальчики?
– Что – мальчики?
– Много у тебя их было, с тех пор как ты в Париже?
– С какого количества ты меня принимаешь?
– Я тебя так и так принимаю.
Она подпрыгнула и поцеловала его в щеку.
– Два? Три? Пять? Двадцать? – допытывался он.
– Я не сильна в устном счете.
– А ты часто была влюблена?
– Ну нет, вот еще! Никогда!
Она ответила с возмущением, оскорбленная, что он мог подумать, будто она легка сердцем. Адольф невольно удивился этой непривычной добродетели, определявшейся сердцем, а не сексом.
– Мне не терпится увидеть твои картины, – сказала она. – Я уже год слушаю, как клиенты о них говорят.
– Больше говорят, чем покупают.
– Ничего, все так начинают. Лет через десять цены на них вырастут в двадцать раз.
Адольфу захотелось ответить: «Что ты об этом знаешь?» – но он прикусил язык, потому что она, судя по всему, знала. Ему пришло в голову, что она, возможно, работала с художниками.
– Ты была натурщицей?
– Я? Нет. Почему ты спрашиваешь?
– Ты красивая и работаешь на Монпарнасе. Все художники бывают в «Ротонде».
– Да, но надо еще, чтобы они меня заметили. Ты разве обращал на меня внимание? Просил позировать?
Адольф понурился: он уже злился на себя, что не замечал Одиннадцать-Тридцать раньше.
– И вообще, – весело добавила она, – мне совсем не хочется, чтобы меня рисовали маленькой, я хочу, чтобы меня рисовали большой, как великаншу. А большинство художников нарисуют меня, как видят, так что дело того не стоит.
– Послушать тебя, может показаться, что ты немного знаешь мир искусства.
– Ясное дело! Я брала уроки. Я рисую.
Адольф рассмеялся. Невозможно было представить эту кроху за мольбертом предающейся неблагодарному искусству.
Одиннадцать-Тридцать побелела и сжала кулаки, сдерживаясь, чтобы не ударить его.
– Дурак! Жалкий самодовольный тип! Я тебе говорю, что я художница, а тебе смешно. Разве я смеюсь над твоими перемазанными краской ногтями и волосами, заляпанными маслом?
– Нет, нет, успокойся. Я… я… я хотел сказать… Я удивился… потому что те немногие художницы, которых я знаю, далеко не так красивы, как ты.
– Да, да. Красивая – значит дура. Умная – значит уродина.
– Извини. Я не это хотел сказать. Прости, что засмеялся. Это было глупо с моей стороны.
– Да уж, что глупо, то глупо. Да ведь чтобы быть художником, большого ума не надо, это всем известно.
Адольф лишился дара речи. Ни одна женщина никогда не была с ним так дерзка, но это не только не раздражало, а напротив, возбуждало его… Что-что, а соскучиться с Одиннадцать-Тридцать ему не грозило.
– Почему тебя зовут Одиннадцать-Тридцать?
– Еще один глупый вопрос! Адольф, как ты низко пал, что за умственное убожество! Вдохни поглубже и карабкайся наверх, дурачок. Разве я спрашиваю, почему тебя зовут Адольф? Нет.
– Меня зовут Адольф, потому что моя мать назвала меня Адольф.
– А я сама назвала себя Одиннадцать-Тридцать. Я мать моего имени.
– А раньше?
– Мое первое имя? Если бы я хотела, чтобы его знали, я бы его сохранила.
– Почему Одиннадцать-Тридцать?
– Позже поймешь.
Она вздрогнула.
– Пожалуйста! Мы решили, что даем себе час или два. Два часа, когда Адольф и Одиннадцать-Тридцать любили друг друга, но еще не занимались любовью.
– Идем смотреть мои работы.
Он взял ее за руку и поспешил в направлении своей мастерской. Но вдруг остановился:
– А еще лучше – давай посмотрим твои работы.
– Мои? – пролепетала Одиннадцать-Тридцать.
– Да. Покажи их мне.
Одиннадцать-Тридцать вырвала руку и закричала на Адольфа:
– Это уж слишком! Он не верил, что я художница, а теперь хочет увидеть мои работы! Какой ты переменчивый, дружок. Я не такая. Я еще не успела забыть обиду. – Помолчав, она добавила тонким голоском: – Вообще-то, я только начинаю, у меня есть идеи, но показать почти нечего.
Адольф расцеловал ее в обе щеки. Она пробормотала как бы про себя:
– А что такого, мне всего двадцать лет.
И, подняв голову, спросила пылко:
– Кстати, а тебе сколько? Я так давно хочу это узнать.
– Тридцать один.
Она восхищенно присвистнула:
– Тридцать один год! Потрясающе! Значит, если я хорошенько постараюсь, ты еще будешь в моих объятиях, когда тебе будет сорок?
– Пока я еще не в твоих объятиях.
– Минутку! Значит, ты будешь моим и в сорок лет. Понимаешь, это очень важно, я считаю, что сорок – возраст расцвета.
– Откуда тебе знать?
– Знаю, и все, – сухо отрезала она. – И вообще, не жалуйся на мои причуды, у меня, между прочим, есть подруги-ровесницы, которые сочли бы, что ты для них перезрел.
– Перезрел?
– Даже подгнил! Упал с дерева. Не стоит и нагибаться поднимать.
Она задумалась, подула на прядь, которая тотчас же снова ее ослепила.
– Почему ты не острижешь эту прядь?
– А что такое? Тебе не нравится?
– Нравится. Я… ты мне нравишься такой, какая есть. Но эта прядь, похоже, закрывает тебе обзор справа.
– Кто тебе сказал? А почему ты думаешь, что я хочу смотреть направо?
– Никто. Но ты все время дуешь на нее.
– А если мне нравится дуть, а вовсе не смотреть? Странный ты, бош.
Она внимательно посмотрела на него:
– У тебя красивые ноздри. Идем смотреть твои картины?
Поднимаясь по лестнице, Адольф надеялся, что Нойманн сообразил оставить квартиру пустой.
Так и вышло, на полу в прихожей лежала записка, сообщавшая, что Нойманн сегодня останется ночевать у Брижит, его нынешней любовницы, которая еще несколько дней назад была любовницей Адольфа: его пассии зачастую переходили в объятия Нойманна, который был куда красивее, но совершенно не умел ухаживать.
Одиннадцать-Тридцать сразу узнала среди множества прислоненных к стенам полотен те, что были написаны Адольфом. Она долго смотрела на них, широко раскрыв свои круглые глазки. Он оценил ее молчание. Ничто так не обескураживало его, как поспешные комплименты. Он считал, что создает произведения, которые требуют времени, чтобы уложиться в голове, и полагал, что заслуживает лучшего, чем возгласы «Как мило!», «Как интересно!», «Какая красота!» – все эти поверхностные эпитеты из уст светской дамы, бегом пересекающей кулуары собачьей выставки.
Одиннадцать-Тридцать не только молчала, но и рассматривала картины долго и с удовольствием. Просидев полтора часа на корточках перед полотнами без единого слова, она повернулась к Адольфу и просто сказала:
– Я очень счастлива, что увидела их.
Она подошла к нему и посмотрела с еще большим восхищением, чем на картины:
– Если дашь мне табуретку, я тебя поцелую.
– Я могу и нагнуться!
– Да, если тебе не слишком трудно.
Припав к теплым губам, он чувствовал себя так, будто пил из горного потока.
– Опусти, пожалуйста, шторы.
– Их нет.
– Тогда закрой ставни, Адольф, сделай что-нибудь. У нас сегодня урок скульптуры. Задействуем руки – не глаза.
– Но я хочу тебя видеть.
– Какой нетерпеливый! А завтра? А послезавтра? Ну, скульптура?
– Согласен. Скульптура.
Ночь прошла в неизменном восторге. Была в Одиннадцать-Тридцать смесь робости и смелости, делавшая и Адольфа то смелым, то робким. Одиннадцать-Тридцать, в отличие от других женщин, прошедших через эту постель, не изображала экстаза. Раздевшись, она не вошла в роль любовницы, готовой к удовлетворению. Когда объятия Адольфа раздражали ее или причиняли боль, она не стеснялась говорить ему об этом, и Адольф, ведомый этой несказанной откровенностью, не один раз нашел путь к их обоюдному наслаждению.
Утром Адольф смотрел на нее, спящую, свернувшуюся рядом с ним клубочком; его умиляла эта юность, во сне, сама того не зная, вернувшаяся в детство: круглые щеки, надутые губки, веки без единой морщинки.
Первые лучи солнца упали на них, и он увидел ослепительную белизну кожи, которая в синем сумраке ночи казалась ему живым и теплым перламутром.
Он не хотел будить ее объятием, но ему было необходимо увидеть ее всю. Обладать ею глазами без ее ведома. Нежное и чисто визуальное насилие. Насилие художника. Его рассветная награда.
Адольф приподнял простыню – она не шевельнулась, спала крепко. Увиденное ошеломило его.
Он встал, сдержав крик, к глазам подступили слезы.
Он убежал в крошечную уборную и сел, сперва чтобы унять свое волнение, потом чтобы насладиться им.
Такое ему и в голову не могло прийти.
Простыня была в крови. Одиннадцать-Тридцать подарила ему свою девственность.
* * *
Близился конец недели, а Гитлер давно решил, что путч надо устроить в субботу, когда все конторы будут закрыты. Некоторые предлагали еще подождать. Гитлер не согласился. Ждать дольше значило отказаться.
– Вы из тех, кто переводит часы назад, когда они показывают без пяти двенадцать, это недопустимо! Германия не может больше ждать.
В последние несколько недель он завел привычку выражать свои чувства от лица всей нации: «Германия устала» означало, что Гитлер хочет переменить тему; говоря «Германия голодна», Гитлер давал понять, что хотел бы добавки десерта. Тем, кто был расположен посмеяться над этой новой манией величия, пришлось сдерживаться, ибо вождь теперь был окружен таким безусловным обожанием, что насмешникам бы не поздоровилось.
Гитлер позволил создать культ своей персоны. Его эпоха, видевшая падение монархий, без энтузиазма принявшая тусклый парламентский режим, нуждалась в сильной личности, в Цезаре – выходце из народа. Муссолини, дуче, после того как его чернорубашечники прошли по Риму и захватили власть, стал признанным образцом для Гитлера. В своих речах он теперь желал прихода подобного великого человека, посланца Провидения, который спасет Германию. Упоение толпы этой идеей убедило его, что она хороша. Какая идея была хорошей для Гитлера? Та, что производила впечатление. Та, что вызывала в толпе волны наслаждения. Естественно, впрочем. Масса – даже если она состоит из мужчин – женского рода; обещанием супруга можно было возбудить ее до крайности. И он от всей души призывал этого великого человека, которого не называл по имени, о котором как бы тоже мечтал, играя глашатая, пророка, Иоанна Крестителя, того, что, стоя в святых водах Иордана, возвещает пришествие Мессии и страстно ждет Его.
Как он и предвидел, некоторые молодые партийцы излагали ему в личной беседе свое убеждение: Гитлер и есть Спаситель, приход которого он возвещал. Он протестовал, скрывая восторг. Это не успокоило молодых энтузиастов, которые хотели во что бы то ни стало доказать свою правоту. И тогда Гитлер поставил самых упорных на ключевые посты в партии. Так, он выделил Рудольфа Гесса, сухого и вечно всклокоченного буржуа, выходца из недавно разорившейся семьи, который не мог найти себе места в послевоенном обществе; член общества Туле,[9] он изучал геополитику в университете и красноречиво доказывал, что Гитлер – тот диктатор, которого ждет эпоха, называя его «Человеком» и даже «Фюрером». Он доверил Герману Герингу, капитану авиации, красавцу с изысканными манерами и неотразимыми бледно-голубыми глазами, носившему красные шелковые носки, руководство штурмовиками, бывшей гимнастической секцией, преобразованной в маленькую боеспособную армию.
Он множил свои мессианские речи, зная, что молодые люди в толпе шепчут его имя.
«Немецкого Муссолини зовут Адольф Гитлер».
Он пока притворно возмущался, видя плакаты с этой надписью, на которые так надеялся: они подтверждали, что его тактика сработала.
Теперь он мог рассчитывать на безусловную преданность очень разных людей, с которыми встречался порознь, что позволяло ему, создав крепкую связь с каждым, при случае использовать их друг против друга.
– Не будем больше ждать! К действию! Германия не хочет быть красной!
В то утро Гитлер трепетал от радости. Его жизнь стала оперой, он шел к своей коронации, он будет Зигфридом нового времени, путч наконец-то даст ему власть.
8 ноября 1923 года, около шести часов вечера, Гитлер, Геринг и горстка вооруженных людей ворвались в пивную «Бюргербрау», где правительство Баварии проводило публичное собрание.
Гитлер вскакивает на стул. Буржуазное собрание раздраженно ропщет на этого самозванца, посмевшего прервать Кара.[10]
Гитлер выхватывает из кобуры пистолет и стреляет в потолок.
Наступает тишина. Он шагает со стола на трибуну. Никто не понимает, что происходит. Некоторые принимают его за эксцентричного официанта; другие, видя на черной куртке блестящий Железный крест, решают, что опять явился ветеран с рассказами о войне; кто-то узнает в нем агитатора от крайне правых.
Гитлер стоит перед публикой, мерит ее взглядом, пытается замедлить биение своего сердца и выкрикивает хриплым голосом, едва не лишаясь чувств от волнения:
– Национальная революция свершилась!
Он ждет реакции. Убеждается, что ошеломленная аудитория даже не понимает, о чем он говорит. Это его раздражает.
– Зал окружают шестьсот вооруженных людей, выходить никому не разрешается.
Он видит ужас на лицах. Это взбадривает.
– Смотрите! Пулемет на галерее первого этажа – убедительный довод, чтобы отказаться от бесполезного сопротивления.
Он улыбается Герингу, тот стоит в окружении штурмовиков, нацеливших оружие на публику. Какая-то женщина падает в обморок. Его начинают принимать всерьез.
– Я объявляю свергнутым баварское правительство. Объявляю свергнутым рейх. Мы создадим временное правительство. Имейте в виду, в наших руках казармы и полиция, чей личный состав уже встал под знамена со свастикой.
Он поворачивается к членам правительства:
– Теперь поговорим наедине, чтобы распределить роли. Спасибо.
Он оставляет красавца Геринга перед растерянной толпой.
Закрывшись с правительственной троицей, Гитлер требует санкционировать следующие меры: Кар, которого он прервал, назначается регентом Баварии, двое других, Лоссов и Шайссер, входят в правительство в качестве министра обороны и министра полиции; все это при условии, что они выдвинут Гитлера кандидатом на пост канцлера Германии.
– Надо перейти Рубикон, господа. Я знаю, этот шаг труден для таких, как вы, – политиков, а не людей действия. Но мы вам поможем. Мы даже подтолкнем вас, если вы будете медлить.
– Если я правильно понял, вы хотите, чтобы мы приняли участие в вашем путче? – говорит Кар.
– Верно. Можете стать моими соратниками или моими жертвами. Согласитесь, это достойный выбор?
– А кто встанет во главе баварской армии?
– Людендорф.[11]
– Он… из ваших?
– Станет нашим. За ним уже пошли.
– Если Людендорф согласен, мы тоже согласимся.
И вот приводят старого генерала, героя войны, любимого народом, из правых. Он удивлен не меньше правительственной троицы. Подумав, он соглашается, и они тут же следуют его примеру. Гитлер уточняет:
– Предупреждаю: вы должны быть мне верны. У меня четыре пули в обойме, по одной для каждого из вас, если вы меня предадите, и последняя для меня. Вы должны бороться со мной и победить со мной. Или умереть со мной.
Он проходит в большой зал, чтобы объяснить публике важность момента – Германия победит в этой национальной революции. Угроза ли пулеметов тому виной, присутствие штурмовиков или его дар красноречия? Аудитория вывернулась, как перчатка, и восторженно вопит, подбрасывая носовые платки и шляпы в честь будущего канцлера.
Решительно, хорошее начало революции.
Рудольф Гесс с несколькими штурмовиками тем временем арестовал остальных членов правительства, которые Гитлеру не нужны. Рём подтверждает ему, что полиция целиком на стороне путчистов.
Гитлер дожидается апогея радости. Он орошает конец своей речи настоящими слезами.
– Теперь я совершу то, что поклялся сделать пять лет назад, в тысяча девятьсот восемнадцатом, когда лежал, изувеченный, ослепший, в военном госпитале: покарать преступников перемирия, и пусть из жалких руин нашей родины встанет Германия во всей своей мощи, свободе и величии. Аминь.
– Аминь! – откликается толпа.
Затем Гитлер отправляется в Мюнхен посмотреть, как продвигается путч в казармах.
После полуночи Гитлер в своей маленькой комнатке умиляется сам себе. Он озирается. Обстановка простая: кровать, стол, стул, десяток книг, и он радуется, что остался таким чистым. Наверно, это и позволило ему преуспеть.
В пять часов утра его будят, чтобы сообщить, что триумвират Кар—Лоссов—Шайссер предал его. Троица сама передала ему новость с полковником фон Лойпольдом.
– Генерал фон Кар, генерал фон Лоссов, полковник фон Шайссер осуждают путч Гитлера. Согласие сотрудничать, вырванное под угрозой оружия в пивной «Бюргербрау», силы не имеет.
Минут десять он не может поверить услышанному: он предвидел все, кроме предательства.
Гитлер отправляется к старику Людендорфу и нацистским заговорщикам. Все возмущены. Решено все же провести запланированное шествие. Так они склонят на свою сторону общественное мнение. И нагонят страху на противников.
– Вперед! – кричит Людендорф. – Ничто не потеряно!
Гитлер соглашается, думая, что ни армия, ни полиция не посмеют стрелять в убеленного сединами Людендорфа. Он решает идти с ним рядом и требует, чтобы все манифестанты держались за руки.
За двумя знаменосцами выступают Гитлер, Людендорф, Шойбнер-Рихтер, Геринг, следом колонны штурмовиков. На площади Марии их бурно приветствуют, и Гитлера вновь окрыляет надежда.
Дальше идти труднее. Полицейские кордоны перекрыли центр.
Гремит выстрел.
Откуда? От них? От полицейских?
Залп. Битва началась.
Шойбнер-Рихтер падает, смертельно раненный, увлекая за собой Гитлера.
Телохранитель прикрывает Гитлера собой, чтобы защитить от пуль, которые впиваются в ляжку Геринга. Вопль. Людендорф тоже лежит на земле. Крики. Сумятица. Пули. Залпы. Люди бегут.
Гитлеру удается добраться до машины, где доктор Шульц оказывает ему помощь.
– У вас всего лишь вывих плеча и колена.
Машина трогается. Он бежит. Оставляет битву позади. Укрывается на большой вилле в Уффинге. Запирается в комнате.
Нет, он не струсил. Нет, он не сбежал. Он пришел покончить с собой. Доказательство? У него в руке револьвер.
Он подходит к большому грязному зеркалу и видит свое отражение, в узком плаще, в бархатной шляпе, с торчащими усиками, которые он не знал, как подстричь. Вот и конец его истории.
«Риенци»… Он вспоминает оперу, которая так взволновала его когда-то в Вене, самоубийство Риенци в охваченном пламенем Капитолии. Его бурная и праведная жизнь кончится так же, как жизнь героя. Он умрет стоя. Он убьет себя.
Он рассматривает себя снизу доверху. Сцена не похожа на ту, что он себе представлял. Не слышно скрипок. Он сомневается, что публика разразится овацией. Сказать по правде, ему не хватает Вагнера и он не уверен, на своем ли он месте.
Он вдруг прозревает: нет, это не смерть героя, он умирает, чтобы не стать посмешищем; он всего лишь жалкий паяц, думал играючи взять власть, да плохо подготовился. Над ним посмеются и будут правы.
Слезы туманят ему глаза.
Револьвер падает из рук. Он рефлекторно отскакивает в сторону, но револьвер не стреляет, мягко шлепнувшись на ковер с бахромой. Успев увидеть в зеркале свой испуганный прыжок, Гитлер окончательно падает в собственных глазах. Какой там Вагнер – он разыгрывает пародию на Оффенбаха.
Он поднимает револьвер и подносит его к виску. Надо положить конец этой невыносимой муке: он себя больше не любит. Указательный палец гладит с чувством освобождения стальную гашетку. Он мысленно нажимает ее, уже наслаждаясь вечным покоем. Как все станет просто…
Но одна мысль останавливает его и отстраняет оружие: он убивает себя, чтобы избежать стыда. Ему не хватает мужества. Он покинет эту землю, не успев спасти Германию, опустив руки при первой же неудаче. До Искупителя ему еще далеко.
Он кладет револьвер на тумбочку и решает дождаться полиции: он убьет себя, но позже, когда свершится его жизнь.
* * *
– В одиннадцать тридцать, что бы ни было, день или не день, я встаю.
Она вскочила с постели, и Адольф Г. протянул ей чашку цикория, в которую она уткнулась своей мордочкой, согреваясь.
Теперь он знал, откуда взялось прозвище: Одиннадцать-Тридцать каждый день поднималась в одиннадцать тридцать. Раньше она не могла. Позже – не желала.
Адольф не мог писать ее при искусственном освещении, поэтому на рассвете срывал простыни и работал, пока Одиннадцать-Тридцать спала. Поначалу он ходил крадучись, как вор, чужой у себя дома, стараясь не производить ни малейшего шума; но однажды по неловкости уронил кисти, опрокинул мольберт, выругался – и обнаружил, что оторвать Одиннадцать-Тридцать от сладостных берегов, где она блаженствовала, не может ничто. А потом она рассказала, что сновидения, эти верные стражи ночного покоя, защитили ее от пробуждения, сделав посторонние звуки частью «представления». Теперь Адольф мог ходить свободно, не боясь ее потревожить.
Отдыхая от работы, он часто подходил к кровати и смотрел на нее спящую. Где она была, пока тело лежало, свернувшись под простынями, а щеки утопали в пуху подушек? Какие невероятные приключения переживала? Не мелькнула ли на ее лице улыбка? Не пробежал ли похотливый трепет по губам? Да, она улыбнулась. Кому? Чему? Не раз ему хотелось разбудить ее, сейчас же, немедленно, и узнать, что ей снится. Ты со мной? С кем-то другим? С кем ты ушла от меня в свой сон? Но всякий раз лицо вновь становилось гладким, плотским, лишенным чувства, сияющим сугубо материальной юностью. И сердце Адольфа сжималось. Состарится ли она? Конечно, но как? Как эта кожа, чистый свет, может потускнеть? Не возмутительно ли, что столь явную красоту разрушат годы? По какому праву? Он больше не боялся воображаемых любовников, но его тревожил самый серьезный соперник – время, тот, что отнимет у него любимую Одиннадцать-Тридцать. И это была уже не ревность, а отчаяние – так ему хотелось разбудить ее, сжать в объятиях и сказать: «Я люблю тебя».
Он чаще разговаривал с Одиннадцать-Тридцать спящей, чем с Одиннадцать-Тридцать бодрствующей. Когда живший в ее глазах огонь затихал на ночь, он испытывал простые чувства и делился ими с нею молча. Один, без давления, свободный от насмешек, не боясь убийственного комментария или шутки, которые она не преминула бы отпустить, он выражал свое счастье, свою нежность, свое восхищение, свой страх быть преданным, панику, когда она обращала внимание на другого мужчину, желание удержать ее пленницей своей любви и уверенность, что без нее он утратит вкус к жизни. Так и проходило утро между работой кистью и безмолвными мадригалами, обращенными к спящей красавице.
Около одиннадцати десяти автоматически приоткрывался один глаз. Черный зрачок, растерянный, удивленный, нерешительно плавал в белке, пытаясь сфокусироваться. Увидев Адольфа, он вспыхивал светом, но под тяжестью век сиял недолго. Следовали новые попытки, все обреченные на провал. Правда, с каждым разом глаз блестел все живее, но враждебное веко вновь и вновь опускало железный занавес.
В одиннадцать двадцать губы, напоенные соками снов, слабо шевелились, и Адольф уже мог вести с Одиннадцать-Тридцать почти внятный разговор, состоящий из нескольких слов, – так мать общается со своим полуторагодовалым малышом. Он любил ее на выходе из сна, простой, не таящей нежности (днем она скрывала это чувство); любил заставать ее во всей обнаженности чувств, «неумытую», так сказать, не облаченную в иронию и ёрничество.
– Скоро одиннадцать тридцать, моя птичка.
– Я‘аю.
Эти три звука означали «я знаю», но до одиннадцати тридцати Одиннадцать-Тридцать никогда не произносила согласных.
Наконец наставал час, и тут, по будильнику ли, нет ли, молодая женщина вскакивала, отдохнувшая, жаждущая начать новый день.
Адольф не раз проверял ее точность. Он прятал часы, переводил стрелки туда-сюда – все без толку: Одиннадцать-Тридцать вставала с постели ровно в одиннадцать тридцать по своему внутреннему будильнику.
– Удивительное дело, ты никогда не ошибаешься.
– А с какой стати? Все почему-то думают, что люди, которые встают поздно, лишены чувства времени… вовсе нет.
Адольф затевал игру, обнимал ее в священный час, прижимал к себе, укачивал, пытаясь снова усыпить. Напрасно. Она отбивалась. Вырывалась.
Оставаться в постели после этой минуты она ненавидела.
– Пусти, ты загубишь мой день. Если день начинается в полдень, это день пропащий.
У нее были свои собственные принципы, которые она соблюдала неуклонно.
– Иначе я буду чувствовать себя женщиной легкого поведения, ничтожеством, куском мяса. И потом, мне надо работать.
Она расписывала веера.
Используя только базовые цвета, покрывала шелк геометрическими узорами из лучей, полукружий, кругов, ромбов и квадратов, но располагала их с фантазией. Получалось ярко, пикантно, свежо, и продавались веера лучше, чем полотна Адольфа.
– Ничего удивительного, мой милый бош, веер хоть для чего-то нужен.
Торговля ее шла бойко, и она приносила в дом больше денег, чем Адольф, но делала все, чтобы он забыл об этом и не чувствовал себя униженным.
– Они хорошо идут, потому что я работаю для снобов.
– Для снобов?