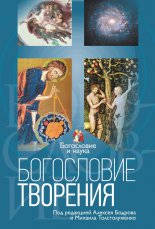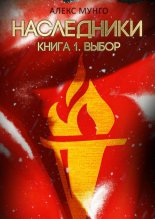Другая судьба Шмитт Эрик-Эмманюэль

Адольф вздрогнул. К счастью, черный грим на лице скрывал его эмоции. Он улыбнулся:
– Нет, я просто подумал кое о чем, что мне было бы приятно… это касается вас…
– Вот как?
– Да. Я хотел бы вас написать.
– Офелией?
– Офелией после купания. Точнее, Венерой.
Сара залилась краской:
– Вы хотите, чтобы я позировала вам обнаженной?
– Да.
– Это невозможно. Я могу показаться в таком виде… только человеку, с которым была близка.
– Этого мне бы тоже хотелось.
Сара вздрогнула. Но Адольф не дал ей времени возмутиться.
– Вы отказываетесь, потому что вы расистка?
– Простите?
– Вы не хотите спать с негром?
Сара рассмеялась. Адольф продолжал, не сводя с нее голубых глаз:
– Или боитесь того, что обнаружите, когда грим будет смыт?
– Я отлично знаю, как вы выглядите, господин Адольф Г.
По дерзкому тону, по заблестевшим глазам Адольф понял: пожалуй, в том, чего он возжелал, нет ничего невозможного.
– Он оставит политику, это точно. Он совсем убит.
Издатель Адольф Мюллер и Йозеф Геббельс с грустью смотрели на согбенный силуэт Гитлера, который, как и каждый день, часами взирал на мрачную водную гладь озера Тегерн.
Облака зависли, отражаясь в воде, неподвижные, тяжелые, грузные. Природа застыла. Даже птицы парили, никуда не двигаясь.
– Моя жена, – сказал Мюллер, – боится, как бы он не возомнил себя Людвигом Вторым[22] и не утопился. Я не спускаю с него глаз. Он ночует у нас в гостевой спальне, я отобрал у него оружие и слышу, как он всю ночь ходит по комнате.
– Это большое несчастье. Он сейчас нужен партии как никогда. Он должен выставить свою кандидатуру на президентских выборах.
– Пусть партия потерпит, – сказал Мюллер. – Кроме него, только вы умеете говорить с толпой.
Мюллер не испытывал никакой симпатии к Геббельсу, но вынужден был признать, что тот наделен даром красноречия; у него не было харизмы Гитлера, но риторикой он владел.
«С такой наружностью без таланта не обойтись», – подумал он, в двадцатый раз рассматривая нелепое телосложение доктора Геббельса.
С анатомической точки зрения Геббельс казался ошибкой природы. То ли голова была слишком большой, то ли тело слишком маленьким, так или иначе, голова с телом не сочеталась. Затылок пытался худо-бедно быть промежуточным звеном, вздымаясь под прямым углом, чтобы удержать этот слишком широкий, слишком тяжелый, слишком круглый череп в связке со спиной и не дать ему упасть вперед. Тело его, всегда напряженное и вертлявое, казалось телом рыбы, пытающейся удержать над поверхностью воды мяч. Вдобавок, когда Геббельс ходил, было ясно, что тело это не в ладу с собой: одна нога короче другой, да еще с искривленной ступней, что исключало какую бы то ни было симметрию. Все части тела Геббельса навевали мысли о животных, но животных разных: воробьиные лапки, низкий зад пони, узкий торс ленивой обезьяны, голова совы, глубоко посаженные глазки куницы и агрессивный нос галапагосского зяблика. Так что, слыша, как эта помесь пассажиров Ноева ковчега вещает о чистоте расы, нападает на крючконосого еврея-осквернителя, расхваливает высокого, сильного, белокурого арийца с мощным торсом и мускулистыми бедрами, требует в микрофон медицинских мер контроля над рождаемостью, чтобы помешать размножению ущербных, Мюллер закрывал глаза, чтобы сосредоточиться на красивом, теплом голосе Геббельса и избавиться от чувства неловкости. В сущности, Геббельс был даже лучшим оратором, чем Гитлер, ибо нужен был незаурядный талант, чтобы защищать чистоту расы господ с такой наружностью.
Как будто угадав его мысли, Геббельс дал ему простой ответ:
– Я всего лишь номер второй. И только. Я люблю нашего фюрера, я хочу служить ему, и, каковы бы ни были мои убеждения, я не останусь в национал-социалистической партии, если он больше не будет ее главой.
– Я все испробовал, – вздохнул Мюллер, – чтобы вернуть его к жизни после самоубийства Гели. В надежде пробудить его боевой дух я показывал ему мерзости, которые писали в газетах: что он-де состоял в извращенных отношениях с Гели, что сам же ее и убил, чтобы заткнуть рот, и тэ дэ. Ничего не помогает. Он утратил всякую агрессивность. Только и сказал мне: «Если бы я хотел ее убить, чтобы избежать скандала, то не застрелил бы у себя дома из своего револьвера».
– Он прав.
– Проблема не в этом. Никто всерьез не обвиняет его, он ведь был в Нюрнберге. Проблема в том, что он хочет отказаться от политики и находится на грани самоубийства.
– Это трагедия. Никогда мы не были так близки к цели. Он будет избран, если быстро вернется в избирательную кампанию.
Пока нацистские руководители тревожились о его будущем, Гитлер созерцал монотонную водную гладь. Озеро стало для него олицетворением надгробной плиты Гели. Он смотрел на серый, как будто и не жидкий, мрамор и обращал к нему все свои мысли. Он говорил ему о любви. Он забыл, что, вне всякого сомнения, сам стал причиной самоубийства девушки. Никакого чувства вины он не испытывал. Не улавливая связи между своим брачным предложением и смертью, он объяснял этот поступок, как объяснял все поступки Гели: никак. Разве можно объяснить птицу? Птичье пение? Птичью грацию? Птичьи перепады настроения? Гели была для него лишь прелестным маленьким существом, полным жизни и излучающим вокруг себя свет и радость. Гитлеру и в голову не приходило, что она могла иметь сложное психологическое устройство, свою внутреннюю жизнь. Он оплакивал не столько Гели, сколько свою утрату.
Когда полицейские спросили его о возможных причинах самоубийства племянницы, Гитлер не нашел ответа, кроме одного давнего воспоминания о некоем ясновидящем, который в ходе спиритического сеанса предсказал Гели, что та умрет не от старости и не естественной смертью. Гитлера раздражали бесконечные разговоры об этом самоубийстве и попытки доискаться до причин: ему казалось, что это заслоняет главное – Гели умерла, вот и все, она не жила больше в его доме, и ему ее не хватало. Остальное же…
Он говорил с озером, делился с ним своей печалью и в то же время испытывал облегчение. Женщины – с ними покончено. После Мими, после Гели он никого больше не полюбит. Не потому, что хочет избежать новых самоубийств – ах, эта мания подводить под все психологическую базу, как будто у женщин есть разум! – нет, он больше не полюбит, потому что сумел прочесть знаки Судьбы. Провидение всякий раз мешало его любви. Оно хотело, чтобы он оставался целомудренным. Бдительно, предусмотрительно оно создавало вокруг него пустоту, возвращало на путь истинный, требовало следовать своей дорогой, указывая ему его единственный горизонт – Германию.
Гитлер вздохнул. Как долго он не мог понять – по лености души. Ему все открылось в восемнадцать лет, на представлении «Риенци». Судьба нашептала ему на ухо всю его жизнь, да только понять он не посмел. Теперь он знал слова наизусть. «О да, я люблю. Страстной любовью люблю мою невесту с первого дня, с первой мысли, с тех пор как великолепие руин сказало мне о нашем былом величии. Я страдаю от этой любви, когда мою невесту бьют, поносят, унижают, калечат, бесчестят, освистывают и осмеивают. Ей единственной я посвящу всю мою жизнь, я отдал ей мою молодость, мои силы. Я хочу видеть ее коронованной царицей мира. Ты знаешь, невеста моя, это Рим!» Достаточно было вместо Рима вставить Германию – и вот он, путь Гитлера.
Он знал, что нацистских функционеров тревожит его молчание. Знал, что может победить на президентских выборах. Знал, что сделает это. А пока он копил силы перед броском и давал всем понять, до какой степени нужен им для битвы. Он подлечит свои нервы, когда они вконец измотают свои.
– А как ты назовешь эту картину? – спросил Нойманн, не сводя завороженного взгляда с полотна.
– «Диктатор-девственник».
Адольф взял тонкую шелковую кисточку и подошел к мольберту.
– Вот, пишу название в рамке: «Диктатор-девственник» – и ставлю подпись: Адольф Г.
Выведя буквы своим круглым, почти детским почерком, он отошел, чтобы взглянуть на готовую картину.
Ему удалась удивительная композиция.
Голый человек с восковой кожей, лишенный половых признаков, без единого волоска на теле, шагал по людям размером с мышей. Жертвы размахивали маленькими черными знаменами, забрызганными собственной кровью. Раздавленный народец состоял из особей, отличавшихся друг от друга цветом, ростом, расой, красотой; двое даже походили на великана, он давил их между пальцами ног. Ангелы в правом углу неба играли музыку, но по огромному, грозящему им кулаку было ясно, что их тоже сотрут в порошок.
– Он похож на младенца, – заметил Нойманн.
– Именно. Что может быть эгоистичнее младенца? Он протягивает руку, хватает, грабастает и тянет все в рот. Человек в первые дни жизни – неразумное чудовище, не ведающее, что есть и другие люди. Все мы начинали тиранами. Жизнь нас укротила, препятствуя нам.
– Это Муссолини?
– Ничего подобного. Муссолини, конечно, диктатор, но он не худший из тех, кого носит земля. Потому что он не утратил связи с действительностью, у него есть жена, любовницы, дети, в общем, это латинский самец.
– Ты хочешь сказать, что может быть кто-то хуже Муссолини?
– Или Сталина? Да, Нойманн, это возможно. Теоретически.
Нойманн не ответил на шпильку в адрес Сталина. Он знал, что его друг был ярым антикоммунистом, и, вернувшись после третьей поездки в Москву, мягко говоря, озадаченным, не хотел омрачать спорами их встречу.
– Ты видел Одиннадцать? – спросил Адольф.
– Да, мы с ней поболтали. Мне показалось, она немного… огорчена.
– Не правда ли? – гордо отозвался Адольф.
Вот уже несколько месяцев он открыто жил с Сарой Рубинштейн и сам не знал, что доставляет ему большее удовлетворение – часы, проведенные с любовницей, или ревность Одиннадцать-Тридцать. Осудить эту связь в открытую она не смела, но Адольф время от времени замечал красные глаза, стиснутые челюсти, сжатые руки, говорившие о том, что она кипит. Часы, которые он проводил с Сарой, высокой и гибкой трехцветной блондинкой, возвращали ему вкус к собственному телу, к телу женщины и к этой увлекательной, непредсказуемой, вечно новой игре – дарить и получать наслаждение.
– Одиннадцать хорошая девушка, ты ведь это знаешь? – грустно сказал Нойманн. – Она не заслужила, чтобы…
– Я чувствую себя живым, Нойманн. Это так просто, я радуюсь, чувствуя себя живым. С тех пор как стал изменять Одиннадцать, вспомнил, что существую.
– Это несправедливо. Ты был еще живее, когда вы встретились.
– Успех пошел мне не впрок, это правда. Я опустошил себя работой. Пострадала от этого Одиннадцать, но не забывай – она первой нанесла удар в нашей истории.
– Почему ты так уверен, что…
– Ты не мог бы оставить нас, Нойманн? – Одиннадцать-Тридцать вошла в мастерскую, громко хлопнув дверью. – Я все слышала, но не надо меня защищать. Я сама справлюсь. И вообще, я не защищаюсь, я нападаю.
Не говоря ни слова, только что не на цыпочках, Нойманн покинул мастерскую.
Одиннадцать-Тридцать встала перед Адольфом и, вздернув подбородок, посмотрела ему прямо в глаза:
– Так продолжаться не может. Ты должен выбрать: она или я.
Теплая волна удовлетворения захлестнула Адольфа.
– Это что еще за ультиматум? Разве я просил тебя выбрать между твоим танцором и мной?
– Нет. Но я бы хотела.
– Вот как? И ты бы выбрала?
– Тебя. Без колебаний.
Несмотря на агрессивность тона, ему захотелось расцеловать ее в красные от гнева щеки.
– Так что довольно, поиграли и будет, выбирай: твоя немецкая еврейка или я!
– Ты, Одиннадцать. Ты, без колебаний.
Глаза маленькой женщины тотчас наполнились слезами; не смея поверить своему счастью, она пролепетала:
– Это правда? Правда-правда?
– Да. Сара хорошая женщина, очень хорошая, но… Короче – ты.
Подпрыгнув, она обхватила ногами талию Адольфа и осыпала его лицо поцелуями.
– Я хочу, чтобы ты сделал мне ребенка, – сказала она.
– Вот так? Прямо сейчас?
– Нет. Когда порвешь с ней.
Адольф поморщился при мысли о предстоящей трудной сцене.
– Ладно, – согласилась Одиннадцать-Тридцать, – я беру это на себя.
– Нет. Я не трус. Я должен…
– Конечно, но я знаю, как это будет: «Я ухожу, потому что моя жена этого требует, мне жаль, я бы не хотел». И – хоп! – ляжете в постель в последний раз, чтобы расстаться друзьями. Нет-нет, спасибо. Я больше не желаю делиться. Считай меня стервой, но я пойду к ней сама.
Она на минутку вышла и вернулась одетая, в шляпке и перчатках, достала из черной бархатной сумочки револьвер и самым непринужденным образом направила его на Адольфа.
– Ляг на кровать.
– Что?
– Адольф, не спорь, у меня нет времени. Ляг на кровать, чтобы я могла тебя привязать.
– Но…
– Адольф, не зли меня. Я пережила ужасные месяцы из-за тебя, нервы мои на пределе, мне предстоит разговор с твоей любовницей, так что, пожалуйста, не морочь мне голову и делай, что я велю, иначе эта игрушечка, к которой я не привыкла, может и выстрелить. Ложись.
Крепко привязав Адольфа за руки и за ноги к спинкам кровати, она поцеловала его в губы и хлопнула дверью.
Адольф остался лежать на спине, привязанный, лишенный возможности шевельнуться, – только и мог, что дышать.
Через два часа Одиннадцать-Тридцать вернулась. Она села у кровати и улыбнулась Адольфу:
– Сара все поняла. Она сказала, что любит тебя, но что, судя по всему, никто не может любить тебя так, как я. Она выходит из игры. Она не дура.
Она сбросила пальто и весело добавила:
– Правда, надо сказать, оружия у нее не было. Ну… только нож.
Она сняла с себя остальную одежду и забралась на кровать.
– Ну что, сделаем ребенка?
– Ты отвяжешь меня?
– Нет. Никогда.
В следующие месяцы Адольф и Одиннадцать-Тридцать переживали новый расцвет своей любви. Он написал Саре искреннее письмо, в котором объяснил, что, раз Одиннадцать требует… что пока в его жизни есть Одиннадцать… и что, как бы то ни было, он никогда не покинет Одиннадцать…
Весной 1929-го у Одиннадцать-Тридцать внезапно случился приступ тошноты. Обезумев от радости, Адольф решил, что она наконец забеременела.
Он повел ее к доктору Тубону, лучшему в Париже диагносту, и ждал в претенциозно и безвкусно обставленной приемной счастливого подтверждения, что станет отцом.
Доктор Тубон высунул голову из-за двери и попросил его зайти к нему в кабинет. Одиннадцать-Тридцать не было – она одевалась в соседней комнате.
– Мсье Г., мужайтесь. Ваша жена больна тяжелой формой туберкулеза. Не могу вас обнадежить. Сказать по правде, дни ее сочтены.
Сначала пусть его возжелают.
Он назначает свидание. Всегда загодя. Всегда не наверняка. Ибо, набивая себе цену, он пустил слух, что многочисленные обязательства вынуждают его порой эти свидания отменять. Ложь, но кто это знает? И вот уже не Гитлер ждет толпу, но толпа ждет Гитлера. Ждет и надеется.
В назначенный день он режиссирует свое появление. Он требует, чтобы место проведения собрания, каково бы оно ни было, изменило свой обычный вид; знамена, стяги, ряды стульев, пирамиды трибун, громкоговорители преобразили его; толпа входит в обновленную, похорошевшую, зачарованную повседневность. Затем он заставляет себя ждать. Он знает, на сколько нужно опоздать. Он точно рассчитал время, необходимое толпе, чтобы стать напряженной, нетерпеливой, но не униженной и злой. Тогда он входит быстрым шагом и вскакивает на трибуну – вот он, долгожданный выход.
Он двигается быстро. Жесты его точны, нервны. Он знает, что должен удивить своей энергией. Толпе он знаком лишь по изображениям, по фотографиям, застывшим и безмолвным, отобранным вместе с его другом Хофманом, на которых он выглядит достойным и задумчивым. Теперь он должен в считаные секунды продемонстрировать противоположные качества. Такой ценой завораживают, такой ценой становятся звездой. Он это знает, он изучал кинозвезд. Только сосуществование крайностей в одном человеке поддерживает аппетиты толпы. Грета Гарбо – царица мира, потому что ее надменной, холодной, исполненной достоинства красоте античной статуи противоречат неловкие движения долговязой женщины, которой стыдно возвышаться над всеми, шаг неуклюжей танцовщицы, которая вот-вот упадет, трогательные взгляды слишком чувствительного существа, затылок раненой птицы. Гитлер работает на тех же контрастах: создав образ спокойного мечтателя с лазурными глазами, томного, погруженного в возвышенные грезы, он явит во плоти энергию, резкую, острую, виртуозную, бьющую через край, рождая впечатление непобедимой силы, превосходящей его самого.
Он здесь. Лицом к лицу с толпой. Это только разминка.
Толпа – женщина; женщину приходится долго ждать; Гитлер – великий любовник, потому что он еще медлительнее. С самого начала он выдает доводы, идеи, но понемногу. Тянет. Придерживает. Он хочет возбудить в толпе желание. Хочет, чтобы она раскрылась. Натиск он приберегает на потом. Вот когда он разогреется, будет сильным, мощным, неиссякаемым.
В любви так ведет себя жеребец; в политике – демагог. Секрет успеха – думать лишь о наслаждении другого.
Гитлер начинает повергать толпу в трепет. Она аплодирует. Она хочет сопричастности. Он распаляет ее, дает волю, сдерживает, губами зажимает ей рот, не давая кричать. Он вставляет ей и вынимает, освобождает рот – она ликует.
И снова натиск. Она удивлена. Как? Уже?
Он овладевает ею. Он неутомим. Она покоряется. Кричит. Он продолжает.
Она стонет. Он меняет ритм. Она урчит и плачет одновременно. Быстрее, еще быстрее. Сердце выпрыгивает из груди. Она кончает.
Он не дает ей роздыху. Нет. Она больше не может. Он ее убедил. Она поняла. Нет никого лучше. Да. А он усиливает напор, и, как ни странно, она идет у него на поводу. Теперь ее воля побеждена, она принадлежит ему, он ее господин, он делает с ней что хочет. Он – ее настоящее, ее будущее, потому что стал ее лучшим воспоминанием.
Она кончает снова, и снова, и снова.
Теперь она уже не различает пиков оргазма, она вся – самозабвение. Она ревет не смолкая.
И пока он трудится над ней, она обещает ему все, что он хочет. Да. С тобой. Без тебя никуда. Никогда.
Он рывком выходит из нее и исчезает.
И она сразу ощущает боль.
Лекарством становится музыка. Чтобы прийти в себя, толпа поет. Она возвращается в нормальный мир.
Да, он обещал. Он вернется.
Гитлер укрылся в машине. Потом он прыгнет в самолет, чтобы лететь в другой город, где его уже ждут.
Толпа кончила под ним, но сам он не кончил.
Он презирает ее за то, что кончила так быстро, не дав кончить ему.
И в своем презрении он чувствует себя выше.
И в презрении этом он держит над ней власть.
И в своем разочаровании он найдет силы начать все заново час спустя.
Белесое утро над авеню дю Буа.
Из своего окна Адольф следил за мрачным и безмолвным мельтешением судебных исполнителей во дворе; они уносили все следы его счастья с Одиннадцать-Тридцать.
«Лишь бы продержаться до…»
В 1929 году экономический кризис подорвал рынок искусства, покупателей не стало, большинство разорилось, уцелевшие искали более надежного помещения капитала, чем современная живопись, а редкие незыблемые миллиардеры, которые по-прежнему могли тратить деньги без страха, выжидали, когда инфляция еще понизит цены.
«Лишь бы продержаться…»
Адольф не хотел, чтобы Одиннадцать знала об их разорении. Она теперь не вставала с постели, и ему удавалось поддерживать иллюзию прежнего образа жизни; она не знала, что за ее дверью в доме больше не было никакой мебели, а в услужении у них осталась только одна горничная, слишком привязанная к Одиннадцать-Тридцать, чтобы уйти, хотя ей не платили уже три месяца. Даже незаконченные картины из мастерской унесли сегодня утром.
– Незаконченные картины? Что вы будете с ними делать? – ахнул Адольф, когда судебный исполнитель их упаковывал.
– Продавать по цене холста; кто-нибудь другой сможет на них писать, – ответил мэтр Плиссю своим протяжным выговором, будто обсасывал каждое слово, как конфету.
У Адольфа не было сил даже возмутиться. Протестовать? К чему? Мир несправедлив, я это знаю. И потом, есть кое-что похуже. Ничему в нем не осталось места, кроме печали. Он думал только об этом маленьком теле, прежде полном жизни, которое медленно угасало в соседней комнате.
– Могу я с вами поговорить?
Адольф вздрогнул.
В углу пустой, холодной комнаты стоял доктор Тубон.
Доктор Тубон, мэтр Плиссю, все эти официальные и взаимозаменяемые лица, большие жирные тюлени в черном, с усами, свидетельствующими об их серьезности, с мягкими маслянистыми голосами, тембр которых так не идет вестникам катастроф. Скромность. Учтивость. Ужас. Все эти недели их мельтешения в доме, безличного и отлаженного, как на похоронах, отнимали у него кусок за куском все, что было ему всего дороже, его жизнь с Одиннадцать, надежду на жизнь с Одиннадцать…
– Я пришел сказать, что вашей жене осталось жить считаные часы.
– Нет!
– Мсье Г., я был восхищен вашим мужеством и глубиной вашей любви в этом испытании. Из уважения к вам я ничего от вас не скрываю. Она уже почти не может дышать; ей не дотянуть до вечера.
Адольф уткнулся лбом в стекло. Ну вот, он услышал фразу, которой страшился все эти месяцы, фразу, против которой боролся, против которой мобилизовал всю свою энергию и всю любовь. Все рухнуло. Ничего не помогло. Кончено. В свой день, в свой час смерть все равно придет.
– Вы должны понять, мсье Г., что для вашей жены это будет поистине избавлением.
Бедная маленькая Одиннадцать, такая мужественная, такая жизнерадостная! Она слабела, не жалуясь, проводя свои последние часы перед картиной, единственной картиной, которую не унесли судебные исполнители, – ее «Портретом великанши».
Адольф почувствовал, что горе душит его, и выбежал вон. На лестнице он столкнулся с Нойманном, который пришел проведать их, как и каждый день.
– Нойманн, ей остались считаные часы. Иди в ее комнату. Мне надо сбегать по срочному делу.
– Да куда ты?
– Мне надо.
– Адольф! Вернись!
– Я по делу. Это для нее.
Адольф бежал по серым тротуарам. Ледяной ветер не осушил его слез. Он чувствовал в себе слишком много жизни, слишком много сил, это было что-то неисчерпаемое и бесполезное, что он хотел бы отдать Одиннадцать-Тридцать.
Добравшись до улицы Деборд-Вальмор, он вошел в подъезд дома номер 12 и взбежал по лестнице. С тревогой позвонил раз, другой, третий, не давая звонку перевести дух.
Наконец дверь открылась, и появился Ларс Экстрём, в халате. Он отпрянул, увидев в дверях Адольфа, но тот удержал его за руку и взмолился:
– Идемте! Одиннадцать умирает. Я хочу, чтобы вы тоже были у ее одра.
– Но…
– Нет, я не держу на вас зла. Она вас любила. Пусть в последний час с ней будут двое мужчин, державших ее в объятиях.
– Но…
Адольф посмотрел на красивые мускулистые ноги танцора. «Как он глуп, – подумал он, – но не важно… Одиннадцать его любит».
Молодой человек, голый, с обмотанным вокруг бедер полотенцем, появился за спиной Ларса Экстрёма и спросил сонным голосом:
– Что случилось?
– Ничего, – ответил танцор, – это муж одной подруги. Иди спать.
Эфеб скрылся.
– Вы ошибаетесь, – сказал Ларс Экстрём, – я никогда не был любовником вашей жены. Она попросила меня убедить вас в этом, чтобы…
– Чтобы?
– Чтобы вы ее ревновали.
Адольф бессильно прислонился к стене. Нет, только не это. Второй раз. Дважды в жизни Одиннадцать солгала ему. Сначала дала понять, что знала много мужчин, чтобы Адольф не испугался ее девственности. Потом убедила, что изменяет ему, чтобы пробить стену его равнодушия. Значит… он был единственным? Единственным мужчиной в ее жизни? Одиннадцать…
– Вам нехорошо? Хотите чего-нибудь выпить? Входите…
Адольф скатился по лестнице и помчался сломя голову. Одиннадцать… нельзя было терять ни минуты. Теперь он боялся ее. Одиннадцать. Столько любви всю жизнь. Столько верности… Столько… Нет, у него не могут все это отнять.
Он ворвался в темную комнату и упал на кровать, самозабвенно целуя крошечные влажные ручки.
– Одиннадцать… любовь моя…
– Где ты был, мой бош? Я беспокоилась.
– Я… я сейчас узнал от Ларса, что…
– Оставь. Согрей меня.
Он прижал Одиннадцать к себе; она ничего не весила и больше не вызывала в нем ощущений, испытанных множество раз. Она же прильнула к нему, как влюбленная женщина, по-прежнему обожая это тело.
– Нам было здорово с тобой, правда?
– О чем ты говоришь? Почему в прошедшем времени?
– Перестань. Я знаю.
Она закашлялась и повторила, проигнорировав вопрос:
– Нам было здорово с тобой, правда?
От волнения Адольф едва смог выговорить:
– Да. Нам было здорово.
Он не смел смотреть на нее, не смел сжимать слишком крепко, боясь сломать.
– Мой бош, надо думать о будущем. Такой, как я, ты больше не найдешь.
– Одиннадцать… замолчи.
– Замолчу, когда захочу! – сказала она с раздражением, на которое у нее больше не было физических сил, и закашлялась на несколько долгих минут.
Адольф сидел в полумраке, обнимая сотрясаемое кашлем тельце, и ежеминутно боялся, что оборвется нить жизни.
– Я больше не перечу тебе, Одиннадцать. Скажи мне, что хотела сказать.
Она с трудом перевела дыхание. Глаза ее едва не выскакивали из орбит.
– Вот. Я не хочу, чтобы ты опустился. Ты должен писать, ты должен жить.
– Но как? Я не смогу без тебя.
– Загляни за кровать.
Адольф не понял. Одиннадцать повторила надтреснутым голосом:
– Отпусти меня и загляни за кровать.
Нойманн прибавил свет ночника. Адольф обошел высокую кровать с тяжелым балдахином и увидел прислонившуюся к синей стене бледную, испуганную, взволнованную Сару Рубинштейн.