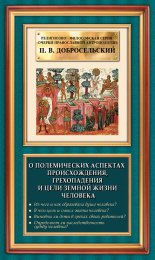Волчий паспорт Евтушенко Евгений

— Что случилось, Симон Иванович? — встревоженно спросил я.
— Когда я узнал, что автобиографию Бориса не хотят печатать по-русски, я напечатал ее у себя в «Мнатоби» по-грузински. Я был уверен, что в Грузии не найдется ни одного человека, который меня предаст и донесет в Москву. И ты представляешь — меня предал кто-то из грузин… Что происходит с грузинским народом, что происходит…
Я невольно улыбнулся возмущению Симона Ивановича, потому что тираж «Мнатоби» был где-то около пятидесяти тысяч, и «недонос» на опубликование — даже по-грузински — автобиографии только что разоблаченного «врага социализма» Бориса Пастернака был практически невозможен. Предательство преподавалось как норма поведения. К счастью, оно прививалось не всем.
Через несколько часов Симон Иванович приехал ко мне прямо из ЦК гораздо более веселым, да еще и выпившим! Он рассказал, что головомойка на секретариате была короткой. Дмитрий Алексеевич Поликарпов, заведующий отделом культуры ЦК, сам докладывал этот вопрос, сам и «прорабатывал» Чиковани, но сам и боролся за то, чтобы выговор был «без занесения». Затем он пригласил Чиковани к себе в кабинет.
— Ну, мы победили… — сказал он со вздохом облегчения, хотя побеждать ему приходилось практически себя самого. — Теперь можно и попраздновать. Ты что думаешь, я забыл твое гостеприимство в Грузии?
Поликарпов открыл свой сейф, достал из него бутылку водки, бутерброды с колбасой. Они выпили.
— Только ты больше меня не подводи! — сказал Поликарпов, наставительно подняв указательный палец, и они выпили по второй, а потом и по третьей. Когда бутылка опустела, Поликарпов, еле заметно покачиваясь, снова пошел к сейфу и вытащил оттуда — что бы вы думали? — старомодную виктролу, заводящуюся ручкой. Чиковани был уверен, что он поставит сейчас русскую народную песню или Клавдию Шульженко, но личный вкус Поликарпова оказался неожиданно «упадочным» — он в своем угрюмом идеологическом сейфе вместе с водкой держал бывшего эмигранта Александра Вертинского, который когда-то оплакал в одной из песен юношей-юнкеров, убитых большевиками.
Чиковани рассказал мне о тайне поликарповского сейфа почти шепотом, хотя мы были с ним вдвоем:
— Знаешь, генацвале, когда он завел Вертинского после того, как прорабатывал меня за недостаточную партийную бдительность, мне стало не по себе. Это было так же, как если бы председатель общества вегетарианцев тайком, как Васисуалий Лоханкин, жрал по ночам мясо, да еще из чужих кастрюль…
Поликарпова я хорошо знал задолго до рассказа Чиковани о тайной любви этого несгибаемого идеолога к Вертинскому. Несмотря на эту поразившую меня сентиментальную «червоточину», Поликарпов был одним из убежденных представителей старой сталинской гвардии. После антисталинского доклада Хрущева на XX съезде Поликарпов написал свое особое мнение в Политбюро и оказался на время в опале. Он был последним коммунистическим фанатиком, которого я видел, — после пошли циники. Поликарпов не был мастером заспинных интриг и говорил писателям то, что думал, в глаза, но то, что он думал, было ужасно. Партия для него была выше всего — выше всех людей, включая его самого. Говорят, во время войны, будучи председателем Комитета по радиовещанию, он работал чуть ли не по двадцать четыре часа в сутки. Охотно верю. Эти люди себя не жалели. Но и других тоже. Затем Поликарпова «бросили» на писателей. Вот реальная история, впоследствии ставшая анекдотом: Поликарпов был на приеме у Сталина и просил перевести его на другую работу, ибо все писатели, как печально доложил он, — это пьяницы, бабники и скрытые или явные антисоветчики. Сталин слушал его, слушал, а потом взял да и сказал, попыхивая трубкой:
— Все верно, товарищ Поликарпов, все верно. Действительно, наши писатели почти поголовно — пьяницы, бабники и скрытые или явные антисоветчики. Но справедливый гнев нашего народа уже уничтожил самых одаренных из наиболее зловредных писателей. Что же делать с оставшимися? Любая уважающая себя страна, товарищ Поликарпов, не может остаться совсем без писателей. У меня нет других писателей для вас, товарищ Поликарпов. Поэтому идите и работайте с этими.
Итак, я принадлежал к тем писателям, с которыми по сталинскому указанию и работал Поликарпов. Впервые я столкнулся с ним во время его опалы, когда его «перебросили» в Литинститут. Разумеется, он не мог меня любить, потому что он был сталинистом, а я — антисталинистом. Может быть, таких, как я, он даже презирал, ибо считал нас конъюнктурщиками. Поликарпов несколько раз хотел исключить меня по разным поводам, но никак не получалось. Однажды он вызвал меня и с хмурым торжеством протянул мне милицейский протокол. В нем черным по белому было написано, что студент Литинститута Евтушенко Евгений Александрович, родившийся 18 июля 1933 года на станции Зима Иркутской области и проживающий по адресу Четвертая Мещанская, д. 7, кв. 2, будучи в состоянии сильного опьянения, приставал к женщине-таксисту, требуя, чтобы она повезла его к ней домой, а затем разбил автомобильное окно и плюнул ей в лицо.
— Ну, теперь тебя ничто не спасет, — сказал Поликарпов, обращаясь ко мне по привычке старой партийной гвардии на «ты».
— Все правильно, — ответил я, — дата, место рождения, адрес. Только подпись не моя.
Поликарпов, думая, что я выкручиваюсь, немедленно поехал со мной в отделение милиции. Там подтвердили, что мои паспортные и адресные данные сообщил как свои совсем другой человек. Впоследствии выяснилось, что это был стихотворец Лев Халиф, несколько раз пользовавшийся моим гостеприимством и отплативший мне вот таким образом. С того раза Поликарпов стал несколько остерегаться делать в отношении меня слишком поспешные выводы.
Судьба распорядилась так, что нам было суждено сталкиваться лицом к лицу множество раз. Цензоров из Главлита я никогда не видел. Их так и называли — «невидимками». С ними общались только ответственные секретари и главные редакторы. За исключением Твардовского. Он говорил, что никогда не унизится до того, чтобы разговаривать с цензором, ибо это будет как бы признанием права цензуры на существование. Лицемерное правило заключалось в том, что редакторы должны были сообщать замечания цензуры писателям как свои собственные. Когда мой роман «Ягодные места» остановил главный официальный цензор — председатель Комитета по охране государственных тайн в печати П. А. Романов и я позвонил ему, он не без барского удовольствия сказал мне бархатистым отеческим баском:
— Дорогой Евгений Александрович, вас кто-то неправильно информировал о наших задачах. Мы ничего не запрещаем. Мы лишь обращаем внимание редакции на те или иные нюансы, которые могут быть во вред нашей стране… Вот, например, сейчас у меня на столе лежит статья одного известного журналиста о его поездке в Японию. Он пишет как бы только о Японии. Он все время восхищается Японией — например, японской вежливостью. Он так ее умильно расписывает, эту японскую вежливость, что ежу, простите, понятно — все это делается лишь для того, чтобы противопоставить ее нашему советскому хамству. Есть у нас хамство? Конечно, есть. Я совершенно не против того, чтобы наши писатели обличали это хамство, и как можно беспощадней. Но на конкретных случаях, дорогой Евгений Александрович, на конкретных, а не на обобщениях, да еще через Японию! Так вот, как и в случае с вашим романом, мы сообщим редакции наше мнение, а уж дело редакции — печатать или не печатать. Мы ничего не запрещаем — только обращаем внимание… Так что не по адресу вы обращаетесь, дорогой Евгений Александрович, не по адресу…
Поликарпов в такие игры не играл. Если он что-то запрещал — запрещал открыто. По его мнению, ничего стыдного в таком запретительстве не было — так оно и полагалось. Это он приезжал в «Литературку» разносить редакцию за мой «Бабий Яр». Как видим, в минуты отдохновения его усталую от ежедневной классовой борьбы душу трогал, например, Вертинский. Но, может быть, рядом с пластинкой Вертинского в сейфе Поликарпова лежала подписанная им же инструкция радиовещанию не слишком популяризировать этого чрезмерно «эстетского», певца? Наследник Поликарпова, В. Шауро, однажды проводил со мной «отеческую» беседу в течение 9 часов! Я вошел в его кабинет в 10 утре, а вышел в 7 вечера. Где-то в середине разговора, смертельно устав, как и я, Шауро спросил меня: «Отдохнем немножко, Евгений Александрович?» Я, честно говоря, надеялся, что вместо «партийных сушечек» он предложит что-то посущественней. Но Шауро исчез в задней комнате и появился с японским кассетником (наша идеология по технической оснащенности далеко опередила Поликарпова с его скромной отечественной виктролой, заводившейся вручную!). Что же услышал я в штабе нашей идеологии после того, как здесь при Поликарпове звучали песни «упадочного» Вертинского? Еще более «упадочные» песни Высоцкого, которые ни разу при его жизни не были выпущены официальной большой пластинкой. От кого же зависел выход этой большой пластинки? Как раз от того человека, который так любовно проигрывал мне неофициальную запись на японском кассетнике. Шауро, правда, все-таки помог выйти пластинке-крохотулечке Высоцкого. Но вот на большую пластинку его большой любви не хватило.
У меня была забавная история с моей невинной лирической песней «В нашем городе дождь» на музыку Колмановского. В 1963 году эту песню в газете «Советская культура» тоже разгромили как «упадочную». Песню затем запретили исполнять. Когда у меня был в Театре эстрады творческий вечер, перед самым началом певица Майя Кристалинская сказала мне, что ее предупредили: если она споет эту песню, ей отменят какие-то важные гастроли. «Спойте вы, — предложил я выступавшему в концерте Марку Бернесу. — Вы настолько знамениты, что вам нечего бояться». Но Бернес уперся — он сказал, что эта песня не для его голоса, к тому же он не может петь песню, слов которой не знает наизусть, «Спой сам, — сказал он. — Ты же знаешь и слова, и мелодию». И я, минут за пятнадцать до начала концерта, начал репетировать вокал! Меня спасло только то, что, послушав, Бернес переменился в лице и с братской жалостью обнял меня: «Увы, мой дорогой, вокал — это не твоя стихия».
29 ноября 1963 года я читал в ВТО отрывки из еще не законченной поэмы «Братская ГЭС». Кажется, особенно вдохновенно я читал главу «Револьвер Маяковского». Она заканчивалась такими строчками:
Пусть до конца тот выстрел не разгадан, в себя ли он стрелять нам дал пример?
Стреляет снова,
рокоча раскатом, подъятый над эпохой револьвер.
Он учит против лжи,
все так же косной, за дело революции стоять.
В нем нам оставил пули Маяковский, чтобы стрелять,
стрелять,
стрелять,
стрелять…
Едва я завершил читать эту главу, как в зал вбежала девушка и закричала: «Убили Джона Кеннеди!» С той поры со словом «стрелять» я обхожусь осторожнее, избегая его даже в символическом смысле. Убийство Джона Кеннеди потрясло не только американцев, но и их искусственных антагонистов — русских. Самое искреннее горе и сочувствие так называемых «простых советских людей» показало, что, к счастью, «образ врага», который мы столько лет строили из американцев, у нас не привился.
Бернес предложил мне написать песню на смерть Кеннеди. Первый вариант ему не понравился, и он был прав. В этом варианте было слишком много обвинений по адресу убийц и мало раз-деленности горя с американским народом. Был элемент политической полемики, неуместный в реквиеме. Родился второй вариант, начинавшийся так:
Колокола в Америке взывают, и птицы замедляют свой полет, а Статуя Свободы, вся седая, печально по Америке бредет.
Она бредет средь сумрака ночного, покинув свой постылый постамент, и спрашивает горько и сурово:
«Американцы, где ваш президент?»
Последняя строка стала трижды повторявшимся рефреном.
Песня, записанная в исполнении Бернеса на музыку Кодма-новского, производила на тех, кто ее слышал, огромное впечатление. Она была принята на радио, и все мы с нетерпением ждали выхода песни в эфир. Оставалось всего несколько дней, и вдруг меня вызвали в ЦК к Поликарпову. По приятным поводам меня туда никогда не вызывали. Поликарпов был мрачнее тучи. Впрочем, это было его обычное состояние. Улыбающимся я его не помню. Когда Поликарпов однажды увидел поэта Луконина в спортивной кепке с игривой искоркой, он показал ему свою серую велюровую шляпу и мрачно сказал:
— Чтобы завтра у тебя была такая же шляпа, как у меня…
Однажды он отчитывал Константина Симонова за то, что тот
не выкупает продукты из спецраспределигеля.
— Ты что этим хочешь сказать. Костя, что ты лучше всех других? Раз партия решила, что тебе положено, значит, положено…
В таком же хмуром поучающем стиле мастодонта-ворчуна он начал разговор со мной о песне, посвященной памяти Джона Кеннеди.
— Ты что, нас с американцами поссорить хочешь своей песней?
— Я вас не понимаю, Дмитрий Алексеич… То раньше вы меня все время упрекали, что я поддаюсь на удочку американской пропаганды, то сейчас вы вдруг заботитесь, как бы американцы не обиделись. Разве в этой песне есть хоть слово оскорбительное для американского народа?
— Она вся оскорбительная.
— Чем?
— А тем, что ты в ней все время спрашиваешь: «Американцы, где ваш президент?» Как это — где?! Американский президент там, где ему и надлежит быть, — в Белом доме. У него есть имя и фамилия: Линдон Джонсон.
— Да, но я же имею в виду Джона Кеннеди…
— Мало ли что ты имеешь в виду… Убили- того, а обидеться может этот…
Песню так и запретили, а ее музыку, «чтобы не пропадала», Колмановский использовал в песне, близкой по теме: «Пока убийцы ходят по земле». (Когда-то Главпур, долгое время запрещавший «Хотят ли русские войны», предлагал Колмановскому найти другого поэта, чтобы тот написал на эту музыку другие слова.)
Анализируя, почему партийный идеолог неожиданно воспылал любовью к Линдону Джонсону, я думаю, что все-таки это была неправда.
Мою песню запретили, ибо они не хотели, чтобы по нашему радио наш знаменитый певец пел написанную нашим поэтом слишком грустную песню о человеке, который все-таки принадлежал не к социалистической, а к капиталистической системе.
Такая же ханжеская неправда была в попытке запретить мой спектакль «Под кожей Статуи Свободы» на Таганке под предлогом того, что может обидеться приезжающий с официальным визитом Никсон. На амом деле, этот спектакль не хотели разрешать, потому что он был не только об Америке, а о шестьдесят восьмом годе. Тогда все кроваво слиплось — и убийство Роберта Кеннеди, и Мартина Лютера Кинга, и танки на улицах Праги. Когда на сцене звучали строки «Сходит мир с ума от перегрева. Все границы люди перешли от перераспада, перегнева, переозлобленья, пере-лжи», сразу вспоминалась попранная граница Чехословакии. Вместо ресторанчика «Это-то» напрашивалось родное «ВТО». Дело было не в эзоповом языке, а в глобальной аморальности происходивших тогда событий. Когда спектакль все-таки удалось пробить.
«Нью-Йорк тайме» опубликовала статью «Успех антиамериканской пьесы в Москве». Шеф бюро Хедрик Смит был тогда в отпуске. Когда он приехал, я ему пожаловался на автора статьи, примитивно понявшего текст. Хедрик пошел сам на спектакль и потом пожал плечами: «Простите этого журналиста — он еще йе очень хорошо знает русский и не умеет читать между строк. Вы хотите, чтобы я написал всю правду об этом спектакле? Но это же будет выглядеть как донос на вас вашей же цензуре. Вспомните, какие неприятности были с любимовским «Гамлетом», когда в Америке появилась статья о том, что призрак Сталина ходит по сиене между шекспировскими героями… Как все-таки трудно работать с вами, с русскими… Вы не любите, когда вас не понимают, и пугаетесь, когда вас слишком хорошо понимают».
Увы, он был прав.
Вот какие биографии бывают в России у песен и у поэтов. А вы еще после этого «хочете песен»? «Их есть у меня», но все меньше и меньше…
14. Конец мастодонта
Поликарпов, видимо, был глубоко несчастливым человеком, ибо преданность партии сочеталась у него с неповоротливостью. Громоздкость, тяжеловесность уже были не столь в иене, сколь умение изгибаться вместе с генеральной линией партии. Генеральная линия партии обладала гибкостью женщины-каучук. В политическом цирке такой человек, как Поликарпов, был подобен бывшему артисту, отыгравшему все свои роли, которого из милости держат возле арены с граблями для выравнивания песка. В своем мрачно-серьезном отношении к своим обязанностям Поликарпов иногда был по-кафкиански абсурден на фоне ловкачей, балансирующих на слабо натянутой политической проволоке. Ольга Ивинская в книге «У времени в плену» приводит пародийную историю, когда Поликарпов, приехав в Переделкино, пригласил Пастернака в ЦК, на встречу «с одним очень важным лицом» Пастернак, предполагая, что это будет Хрущев, поехал. Каково же было его невеселое изумление, когда его завели в кабинет, где сидел оказавшийся единственным важным лицом тот же самый Поликарпов.
В 1964 году скоропалительно сняли Хрущева. В материалах октябрьского пленума, избравшего на его место Брежнева, не было никаких внятных объяснений, почему снят Хрущев. В это же самое время я должен был выезжать в Италию с поэтическими выступлениями. За день до поездки меня вызвал Поликарпов.
— Есть такое мнение, — сказал он, не глядя мне в глаза. — Надо отложить твою поездку. И вообще — чего ты там не видел, в этой Италии? Я вот, например, даже в Крыму ни разу не был.
— Дмитрий Алексеевич, но ведь эту поездку организовывали люди. Они вложили в это и свои силы, и средства.
— Ничего, перебьются. В общем, пиши телеграмму, что ты болен.
— Не буду писать никакой телеграммы. Я уже писал одну такую в Америку — стыдно потом было. Да и разве можно начинать новому первому секретарю партии свою деятельность с запрещения поездок писателей? Ведь именно так это будет интерпретировать реакционная пресса…
Поликарпов задумался. На его лице римского легионера происходило размышление, тяжело шевелящее глубокими гражданственными морщинами.
— Обожди меня здесь, — сказал он и вышел.
Вернулся он через полчаса, еще более мрачный и озабоченный.
— Политическая ситуация с поездкой изменилась, — сказал Поликарпов отрывисто, по-деловому. — Есть такое мнение — тебе надо ехать в Италию.
Он тут же снял трубку, позвонил в Союз писателей по вертушке.
— Отправляйте товарища Евтушенко завтра в Рим. С билетом для него у вас все в порядке?
Видя, что у меня все в порядке, я не удержался и спросил:
— Дмитрий Алексеевич, а как же мне отвечать на пресс-конференциях, если меня спросят, в чем все-таки причина снятия Хрущева? Ведь в материалах Октябрьского пленума нет никакой ясности…
Поликарпов с преувеличенным вниманием начал перебирать груду папок на столе, как будто там и скрывалась та самая ясность, которая была столь необходима человечеству.
— В общем, так — давай увидимся сегодня в семь вечера у Суркова. Я тебя снабжу всеми необходимыми материалами.
Сурков в то время был секретарем Союза писателей, отвечавшим за иностранные связи.
Я рассказал Суркову о разговоре с Поликарповым, и оба мы сгорали от нетерпения увидеть «все необходимые материалы», проливающие наконец-то свет на снятие Хрущева. Ровно в семь за окнами появилось огромное черное тело «Чайки», оттуда вышел Поликарпов в традиционной серой велюровой шляпе, в таком же сером габардиновом плаще и с яркой оранжевой клеенчатой папкой под мышкой, выделявшейся на фоне общей цветовой суровости его мужественно монументального облика. Разговор неожиданно оказался коротким.
— Значит, едешь? — спросил Поликарпов, не глядя мне в глаза.
— Еду… — ответил я с некоторой опаской.
— В Италию?
— В Италию, в Италию, — успокоительно заверил его Сурков, как будто отводя подозрения в том, что я собираюсь вылететь в ЮАР по приглашению расистов. — Билет уже на руках. Вылет завтра утречком.
— Ну, ладно… — вздохнул Поликарпов, неожиданно для меня и Суркова вставая и протягивая мне руку. — В общем, держись.
— А как же материалы, которые вы обещали? — не выдержал я.
Поликарпов положил на стол оранжевую папку.
— Тут все, что надо… — сказал он, опять не глядя в глаза. — Держись в этом направлении. Но откроешь папку лишь в воздухе.
Черная «Чайка» за окном снова приняла в свое чрево Поликарпова, а я и Сурков напряженно глядели на оранжевую папку, лежащую на зеленом сукне стола.
— Откроем, Алексей Александрович? — предложил я.
— Я — член партии со времен гражданской войны, — усмехнулся Сурков. — Партийная инструкция была — открыть только в воздухе.
Однако в его глазах я поймал некоторую надежду на мою беспартийность. Я взял папку в руки — она была липкая на ощупь — и с беспартийной безответственностью открыл ее. Сурков прежде меня нырнул носом в бумаги, которые там лежали. И хотя партийный Сурков и я, беспартийный, были литературными врагами, мы начали — сначала нервно, неверяще, а потом весело, безудержно хохотать. Те загадочные «материалы», которые надлежало открыть только в воздухе, представляли собой всего-навсего ничего не говорящие о причинах снятия Хрущева вырезки из «Правды», тассовские информации, брошюру Политиздата об Октябрьском пленуме. И вдруг Суркова прорвало. Продолжая содрогаться от инерционного хохота, он в ярости затряс этими пустыми бумажками и, задыхаясь, с глазами, полными злости и слез, выкрикнул: «И вот так — всю жизнь! Всю жизнь!»
Кто знает, может быть, и у Поликарпова были подобные моменты, но я не был их свидетелем. Впрочем, однажды я был свидетелем его унизительного поражения. Это было осенью 1967 года. Я должен был ехать на месяц по приглашению университета Сантьяго де Чили, но перед этим по пути остановиться на три дня в Копенгагене для поэтического вечера по приглашению компартии Дании. И тут произошла классическая ситуация — меня вызвал Поликарпов.
— Что это за поездка? — раздраженно спросил он. — Какое отношение Дания имеет к Чили?
— Это по пути, — насколько можно терпеливей объяснил я.
— Мало ли что по пути. Вот побываешь в Чили, возвратишься домой, а потом уже и в Данию… Разъездились…
В психологии Поликарпова, человека, воспитанного и воспитывавшего других во времена железного занавеса, такая, нормальная для нормального человека, поездка была непредставимой.
— В общем, есть такое мнение — и не только мое — в Данию тебе сейчас ехать не резон, — твердо заключил Поликарпов. — Обойдешься.
— Дмитрий Алексеевич, но ведь у меня там послезавтра выступление. Объявлено во всех газетах, на улицах афиши. Это же компартия Дании…
— Мы с ними разберемся, — сказал Поликарпов, вставая и давая мне понять: вопрос с Данией закрыт.
Однако я не сдался. Выйдя от Поликарпова, я направился на следующий этаж, в приемную Суслова. Там стоял молодой солдат-охранник. Он узнал меня в лицо, улыбнулся и пропустил. А то ведь могли не пропустить — к членам Политбюро нужен особый пропуск. В приемной Суслова светилась, как лампада, лысина его многоопытного помощника — Воронцова. Воронцов считал себя литератором — он что-то писал о Маяковском и выпустил книгу афоризмов разных великих людей. Я как раз и застал его за этим занятием — он наклеивал на белые листы бумаги распечатанные афоризмы. Я рассказал Воронцову о моем разговоре с Поликарповым, упирая в основном на тот факт, что мой отказ остановиться на какие-то три дня в Дании может выглядеть как оскорбление датских коммунистов советской стороной и мной лично. Кроме того, добавил я, Поликарпов преподносит это как не только его мнение, а мнение руководства ЦК. Воронцов снял одну из множества телефонных трубок на столе.
— Как у нас на сегодня взаимоотношения с компартией Дании? Неплохо? Есть ли какие-нибудь противопоказания против поездок советских писателей, в частности товарища Евтушенко, по приглашению датских коммунистов? Нет? Спасибо за информацию.
Воронцов положил трубку и укоризненно покачал головой:
— Дурит Дмитрий Алексеич, дурит. Капризным стал. Все ему не так. Ну да ладно. У Михал Андреича сейчас Янош Кадар, ну, да это ненадолго. Напиши-ка ему маленькую записочку, я ему со срочными документами на подпись подложу. — Я написал записку. Воронцов внизу добавил: «Согласно информации международного отдела, никаких противопоказаний для поездки тов. Евтушенко в Данию нет».
Воронцов положил мою записку на серебряный поднос поверх других документов на подпись и вплыл в кабинет Суслова, стараясь не скрипнуть дверью. Через минуту лампада его лысины вплыла обратно, сияя от сделанного доброго дела. На моей записке стояло: «За поездку в Данию. М. Суслов».
— Идите к Поликарпову, — сказал Воронцов, который был весьма доволен тем, что поставил своего слишком самостоятельного коллегу на место. Когда я добрался этажом ниже к Поликарпову, тот еще держал трубку телефона и торопливо положил ее на место. Лицо у Поликарпова было скорбным и мрачнее обычного.
Он опустил глаза и так и не поднял их до конца разговора:
— Ты где это был?
— Да так, зашел к знакомым.
— Хорошо, что вернулся. Значит так, политическая ситуация с Данией переменилась. Есть такое мнение, и не только мое. — в Данию надо ехать.
Я хотел было сыграть с Поликарповым шутку, свалять ваньку, начать отказываться от Дании, но пожалел его. Мастодонт уже чувствовал свой приближающийся конец. Я не стал мстить ему, хотя счетов к нему у меня накопилось много. Особенно большой счет был за «Братскую ГЭС». Это моя самая мучительная при рождении поэма, и самая измученная цензурой, если не сказать замученная. Она была написана во многом от отчаянья после официальных издевательств над моей искренне романтической, полной политических иллюзий скороспелой автобиографией, которую по снизошедшему на меня в последний момент наитию я все-таки назвал «преждевременной». В «Братской ГЭС» я попытался склеить осколки своих разбитых реальностью иллюзий, спасти неспаса-емое. Я наивно поставил Братскую ГЭС как символ социализма выше вековой мудрости египетской пирамиды, а противопоставленного мной Сталину Ленина, о многих жестокостях которого я тогда не догадывался, — в один ряд с гигантами нашей литературы Пушкиным и Толстым, что, конечно, несочетаемо. Я дал своим иллюзиям последний шанс, но тогдашняя система цензуровала даже иллюзии.
«Братская ГЭС» сорвалась как политический замысел, но осуществилась как замысел социальный. Я самонадеянно пытался в ней дать ответ на те вопросы, на которые ответа, видимо, не существует. Поэма оказалась глыбой, которую я не сумел «выжать» руками. Но от земли эту глыбу я все-таки оторвал, хотя она вырвалась из моих рук, чуть не покалечив мне ноги.
«Братская ГЭС» не стала серьезным философским обобщением исторических фактов, но зато осталась историческим фактом сама — памятником несбывшихся надежд шестидесятников.
А ее главы «Казнь Степана Разина», «Ярмарка в Симбирске», «Диспетчер света», «Нюшка» остаются моими личными, не превзойденными мною самим вершинами.
Но никто так высоко не оценил эту мою поэму, как цензура.
Цензура — лучшая читательница.
Ни одна моя поэма ни до этого, ни после не проходила сквозь такие чертовы зубы и медные трубы.
Вернемся к истории публикации поэмы. Эта история уникальна.
В 1963 году я был в глубокой опале и находился у своих родственников на станции Зима. Мне позвонил руководитель клуба «Глобус» диспетчер Братской ГЭС Фред Юсфин и пригласил меня от имени строителей. Я приплыл в Братск на пароходе «Фридрих Энгельс», на борту которого я и написал «Граждане, послушайте меня». Меня встречали строители — любители поэзии, подплывая к пароходу на лодках и стреляя в воздух из охотничьих ружей. Со многими братчанами я подружился на всю жизнь. Арон Гиндин, Феликс Каган, Алеша и Наташа Марчук и многие другие «первоэшелонцы» были соавторами моей поэмы.
Я писал эту поэму в доме творчества художников в Сенеже, в доме архитекторов в Суханове, лишь изредка выбираясь в Москву, которая была для меня опасна, как заминированное поле. Помогавший мне чем только мог, добрейший замредактора «Юности»
C. H. Преображенский предупредил: «Если хочешь, чтобы поэму напечатали — не высовывайся, пока ее пишешь!» Но как было не высовываться, когда у меня был такой любопытный до всего, длинненький, буратинненький нос.
23 февраля 1964 года меня пригласили что-нибудь прочесть в ВТО на вечере, посвященном Дню Советской Армии. И вдруг в первом ряду я увидел маршала Буденного, маршала бронетанковых войск Ротмистрова и одного из крупнейших начальников ПУРа генерала Востокова, известного своими солдафонско-просталинскими взглядами. Буденный, при своих знаменитых усах, обвешанный медалями и орденами, как бык-производитель на сельскохозяйственной выставке, положил обе волосатых ручищи на рукоятку шашки, которая стояла наготове между его кавалерийских ног. Мне уже представилось, как эта шашка выпрыгивает из ножен, чтобы дорубать всех недорубанных врагов революции — в том числе и меня. И вдруг случилось нечто невероятное. Маршал снял ручищи с рукоятки шашки и зааплодировал, да так оглушительно, как будто я объявил о капитуляции Нью-Йорка перед Первой Конной армией. Генералу Востокову ничего не оставалось, как присоединиться и жиденько подхлопать. На банкете, хватив три-четыре полных до краев фужера коньяку, Буденный сказал:
— Вот вам всем задачка. Какой род войск будет самым главным в атомной войне?
— Ракетные войска, — раздалось сразу несколько голосов.
— А вот и нет… — гордо распушил усы маршал. Он торжествующе обвел весь стол глазами. — Красная кавалерия!
Все недоуменно стали переглядываться — не спятил ли маршал.
— Когда атомные бомбы разрушат все на земле, кто — я спрашиваю вас — пройдет по трупам, руинам и пеплу? Красная кавалерия! А кто ее воспоет? Поеты!!
Так меня спасло уважение маршала к нашей профессии, не меньшее, чем к его родной красной кавалерии.
Но не все так гладко обошлось «по ракетной части».
Поэму в четыре с половиной тысячи строк я написал поразительно быстро — начал в сентябре 1963-го, закончил в апреле 1964-го.
И вдруг мне позвонил Гагарин. Год назад он прочитал на Совещании Молодых Писателей написанную кем-то речь, где было сказано, что негоже Евтушенко хвастаться в своей автобиографии непониманием происхождения электричества.
Мне рассказывали, что один из наших старейших физиков, Капица, встретив Гагарина на научной конференции, сказал ему, лукаво заглянув в глаза:
— Юрий Алексеевич, батенька, вы бы поделились с человечеством вашим открытием происхождения электричества. А то я уже столько лет бьюсь над этой проблемой, и ни тпру ни ну… Кстати, вы Евтушенко не слишком вовремя ругнули…
Гагарин попросил меня не обижаться и пригласил в Звездный городок выступить 12 апреля, в День космонавтики. Гагарин хотел мне помочь — ведь концерт транслировался на всю страну.
Я очень волновался и взад-вперед ходил за кулисами, повторяя строчки главы «Азбука революции», которую собирался читать. Это мое мелькание за кулисами было замечено генералом Мироновым. занимавшим крупный пост и в армии, и в ЦК.
— Кто пригласил Евтушенко? — спросил он у Гагарина.
— Я.
— По какому праву? — прорычал генерал.
— Как командир отряда космонавтов.
— Ты хозяин в космосе, а не на земле, — поставил его на место генерал.
Генерал пошел к ведущему, знаменитому диктору Юрию Левитану, чей громовой голос объявлял о взятии городов в Великую Отечественную, показал ему красную книжечку и потребовал исключить меня из программы концерта. Левитан сдался и невнятно пролепетал мне, что мое выступление отменяется. Я, чувствуя себя глубочайше оскорбленным, опрометью выбежал из клуба Звездного городка, сел за руль и повел свой потрепанный «Москвич» сквозь проливной дождь, почти ничего не видя из-за дождя и собственных слез. Чудо, что не разбился. Гагарин кинулся за мной вдогонку, но не успел. «Найдите его, где угодно найдите…» — сказал он двум молодым космонавтам. Они нашли меня в «предбаннике» ЦДЛ, где я пил водку стаканами, судорожно сжимая непрочитанные машинописные листочки… Самолет с советской правительственной делегацией, в которой был генерал Миронов, через месяц разбился о югославскую гору Авала, а с Гагариным я больше никогда не виделся и глубоко переживал его трагическую гибель.
Оскорбление в Звездном городке было полностью перекрыто восторженным приемом поэмы в Братске. Я читал поэму четыре с половиной часа без перерыва. В ДК строителей вместе с другими рабочими пришли многие матери-одиночки с детьми, которых им негде было оставить. Когда я закончил читать главу «Нюшка» о таких же матерях-одиночках, как они сами, то словно по какому-то магическому сигналу женщины одновременно встали с мест и показали мне детей — как свое женское материнское спасибо. Какая Нобелевская премия может сравниться с этим…
Я вернулся в Москву как на крыльях, но их мне быстро подрезали. Поэма была, правда, принята в журнале «Юность», но мне неожиданно предложили специально приглашенного редактора поэмы. Я ничего не имел против, ибо это был замечательно талантливый поэт — Ярослав Смеляков, с которым я дружил. Биография у Смелякова была невеселая: он стал знаменитым в ранних тридцатых, когда ему еще не стукнуло двадцати. Он тогда работал в типографии и сам набирал свою первую книжку. Его стихотворением «Любка Фейгельман» зачитывалась московская молодежь. После ранней славы жизнь не обделила Смелякова ни сталинскими лагерями, ни финским пленом, ни опять лагерями. Когда я с ним познакомился после его последней отсидки, он был похож на мешок с переломанными собственными костями. Талант не погиб, но тоже был искорежен. В своих политических суждениях Смеляков мог иногда быть агрессивным догматиком правее Поликарпова и в то же время мог иногда разразиться такой антисоветчиной, которая не снилась всем «Континентам» и «Граням», вместе взятым. Я инстинктом, конечно, чувствовал, что Смелякова берут в редакторы моей поэмы неспроста, но не подозревал, какие высокие инстанции в этом замешаны. Когда Смеляков начал делать мне совершенно не поэтические, а политические замечания, я подумал, что он рехнулся, и мы ругались с ним целыми днями. Особенную мою ярость вызывало то, что у него то и дело появлялись новые замечания к главам, казалось бы уже полностью им отредактированным. Редактура происходила в атмосфере сплошного смеляковского мата. Предлагая мне новые поправки, сокращения, вырезания, Смеляков бесился, злился не только на меня, но и на самого себя, и на весь свет Божий. Если бы не моя любовь к Смелякову, если бы не годы, проведенные им в лагерях, я бы. наверное, поссорился с ним. Кроме того, я не сразу, но постепенно начал догадываться, что Смеляков просто служит мне передатчиком чьих-то других замечаний. Однажды он вдруг потребовал, чтобы я полностью снял главу «Нюшка».
— Нет, — на этот раз твердо сказал я. — Без этой главы поэмы нет.
Тогда он закричал на меня, затопал ногами:
— Но с этой главой они твою поэму не напечатают! Никогда не напечатают! Ты сам не понимаешь, что ты в ней написал. Это же образ России! Обманутой, всю жизнь унижаемой России, да еще с чужим дитем! Это же страшно читать, какую картину нашей жизни ты разворачиваешь в своей «Нюшке»: «Телефоны везде, телефоны, и гробы, и гробы, и гробы». Слушай, у меня вся юность прошла в лагерях. Если ты будешь продолжать писать так, ты тоже можешь в конце концов оказаться за решеткой. Пусть хоть у тебя будет то, что недополучил я в юности. Я хочу, чтобы хоть ты был счастлив, чтобы ты ездил по своим дурацким заграницам и пил свое любимое шампанское…
Он судорожно схватил бутылку и выпил прямо из горла. В его бешеных глазах были слезы.
— Нет, Ярослав Васильевич… — сказал я. — «Нюшку» я не сниму.
Впоследствии его жена тайком от него рассказала мне, как он стал редактором моей поэмы. Смеляков, столько раз униженный государством, втайне всегда мечтал быть первым поэтом государства Российского. Но государство или не обращало на него внимания, или обращало такое внимание, от которого никакими молитвами не спастись. И вдруг Смелякову, бывшему лагернику, первый раз в жизни позвонили из ЦК и очень вежливо пригласили на беседу к секретарю ЦК по идеологии — самому Ильичеву. Смеляков надел свой лучший костюм и торжественно направился в ЦК, наивно надеясь, что признание его государственным поэтом наконец-то состоится. Кроме Ильичева в кабинете был еще Поликарпов. И вдруг выяснилось, что пригласили этого действительно выдающегося русского поэта совсем не для того, чтобы говорить ему комплименты о его собственных стихах. Они пригласили его, чтобы попросить стать редактором — сиречь цензором новой поэмы Евтушенко «Братская ГЭС». Они цинично объяснили Смелякову, что я его уважаю, люблю и, следовательно, на меня могут подействовать их замечания только в том случае, если Смеляков будет передавать мне их как его собственные. Разумеется, они все это обставили как самое искреннее желание помочь мне выйти с моей новой поэмой из опалы и как самое высокое гражданское доверие Смелякову. Боже мой, они хотели уготовить полицейскую роль поэту, которого столько раз эта самая полицейщина бросала за колючую проволоку! Моего учителя они превращали в моего цензора!
После нашего разговора о «Нюшке» Смеляков поехал в ЦК, потом позвонил мне — уже с дачи.
— Приезжай, но только с поллитрой. С тебя причитается. Отстоял я твою Нюшку. Поэма идет в набор.
Я приехал, и мы зверски напились.
Поэма стояла в 1-м номере 1964 года. И вдруг в декабре Ильичев позвонил редактору «Юности» Полевому:
— Снимайте «Братскую ГЭС».
Полевой своим ушам не поверил:
— Но ведь мы учли почти все ваши замечания.
— Вы не слышали, что я вам сказал? — повысил голос Ильичев.
— Это что — совет или приказание?
— Если вам советует секретарь Центрального Комитета, то это приказание. — И Ильичев повесил трубку.
Полевой вызвал ответственного секретаря и велел снять поэму из номера. И вдруг произошло нечто, по тем временам невероятное. Бывший личный помощник Фадеева заместитель редактора «Юности» С. Н. Преображенский был в то время секретарем первичной партийной организации журнала. Он немедленно собрал общее собрание членов партии редакции — человек двадцать. Партячейка приняла резолюцию — обязать коммуниста Полевого не снимать поэму Евтушенко «Братская ГЭС» из первого номера и обратиться в Политбюро ЦК КПСС с жалобой на действия секретаря ЦК Ильичева. Письмо было немедленно передано в ЦК. Через неделю позвонил Поликарпов, попросил, чтобы типография сделала 15 оттисков поэмы для членов и кандидатов в члены Политбюро. Это было сделано. Недели две типография «Правда», где печатается «Юность», простаивала. Наконец мне позвонил Преображенский, триумфально разламывая трубку голосом:
— Победа! Политбюро одобрило поэму! Я только что видел на всех пятнадцати оттисках «за». А Косыгин сделал приписку: «Замечательная поэма». Сегодня в три часа всех нас — тебя. Полевого, Смелякова, меня — ждет Поликарпов. У него какие-то мелкие замечания. Главное — победа! Правда, поэму придется перенести теперь в четвертый номер, потому что мы не успеем внести дополнения, но это все пустяки. Главное — победа! Ильичеву теперь не уцелеть.
Поликарпов, подсчитав глазами всех присутствующих, водрузил на нос очки, вынул из папки с грифом «Совершенно секретно» один-единственный листок на пишущей машинке и начал читать. К сожалению, я никогда не держал в руках этого в своем роле замечательного документа, поэтому восстановлю его по памяти, сохраняя его неподражаемый стиль и основной смысл:
«Политбюро ЦК КПСС, ознакомившись с поэмой тов. Е. Евтушенко «Братская ГЭС», считает эту поэму произведением важным как для творчества самого автора, так и для всей советской литературы. В поэме говорится о важнейших этапах истории нашей страны — о борьбе русского народа против самодержавия, о победе Октябрьской социалистической революции, о сегодняшнем коммунистическом строительстве. В поэме правдиво подвергнуты критике культ личности, в свое время осужденный партией, и связанные с этим периодом нарушения ленинских норм демократии. Политбюро ЦК КПСС рекомендует поэму «Братская ГЭС» для печати».
Все приглашенные с глубоким облегчением вздохнули.
Однако торжество было преждевременным. Поликарпов с неожиданным для него проворством партийного Кио извлек откуда-то другую бумажку и начал читать по ней уже другим, не столь религиозным голосом, из чего я заключил, что эта бумажка — уже другого уровня, пониже Политбюро. Кто ее написал — то ли Ильичев, то ли сам Поликарпов, так и осталось для меня и для редакции тайной за семью печатями. Преображенский, правда, гипотетически утверждал, что все эти предложения были творчеством самого Поликарпова. Текст дополнительной бумажки был примерно таков:
«Учитывая художественную и политическую важность поэмы «Братская ГЭС», которая как бы является учебником истории Советского государства в поэтической форме, настоятельная просьба к товарищу Евтушенко внести следующие дополнения:
1. Отразить индустриализацию нашей страны и энтузиазм первых пятилеток.
2. Воспеть подвиг советского народа во время Великой Отечественной и его многомиллионные жертвы ради мира в мире.
3. В главе «Нюшка» подчеркнуть, что тяжкая жизнь в послевоенной деревне была не только следствием бюрократического пренебрежения, но прежде всего последствием самой войны.
4. Написать гимн Партии, как вдохновляющей и организующей силе нашего народа».
Поликарпов закончил чтение этого выдающегося литературнокритического документа и победоносно оглядел собравшихся из-под очков. Все подавленно молчали.
Смеляков не выдержал:
— Вы что от него хотите, чтобы он вам новый Краткий курс ВКП (б) написал?! Это же никому не под силу…
— Нельзя же в одной поэме сказать обо всем сразу, — пожал плечами Полевой.
— Мы и так уже сняли поэму из первого номера и перенесли в четвертый, — покачал головой Преображенский. — Тут же, как минимум, месяца на три работы. Значит, придется поэму переносить на осень?
И я уловил в глазах Поликарпова насмешливое торжество. Я вспомнил слова моей жены Гали, пригрозившей мне, что она со мной разведется, если я и дальше буду уродовать поэму. Но я не забывал и о другом, все лихорадочно взвешивая в этот миг в поликарповском кабинете. Все труднее и труднее становилось напечатать что-нибудь о преступлениях сталинизма. Страна вступала в период помпезной брежневской стагнации. В цековских и военных кабинетах уже началась работа над документом о реабилитации Сталина. Такая реабилитация, пусть даже частичная, могла отшвырнуть страну назад. «Братская ГЭС», печатающаяся лишь на исторической инерции, на долгое время могла остаться одним из последних библиотечных источников для молодежи, чтобы узнать хотя бы часть правды о времени террора и пыток. «Ничего, — подумал я. — Когда-нибудь я выброшу все, что они меня заставляют вписывать. Был же я когда-то прав, напечатав «Наследники Сталина» с навязанными мне дополнениями. Ладно, беру грех на душу, сам и ответ буду нести. Но только перед Богом, а не перед теми, кто не сделал и десятой части сделанного мной. Главное в Галилее было то, что он сказал: «А все-таки она вертится…», а не то, что он говорил, когда ему приставляли нож к горлу…»
— Для того чтобы все это сделать, мне нужно не три месяца, а три дня, — сказал я, и насмешливая победительность в глазах Поликарпова потускнела.
Через три дня все собравшиеся снова встретились в том же самом кабинете.
Я прижал Поликарпова, и ему пришлось читать все в нашем присутствии. Было представлено все по пунктам:
1. Глава «Бетон социализма» — о первых пятилетках.
2. Глава «Я убит» — о многомиллионных жертвах во время войны.
3. Дополнение к главе «Нюшка» — о последствиях войны в деревне.
4. Глава «Партбилеты!» (всего 16 строчек — максимум, что я из себя смог выжать).
Поликарпов буквально въедался в дополнительные главы, но со смешанным чувством — боязни пропустить что-нибудь идеологически ошибочное и тайной гордостью частичного соавторства.
— Кажется, неплохо, — сказал он осторожно, обводя нас глазами и ища в нас союзников. — Но вот о партии как-то уж очень мало. Может быть, ты еще бы поработал — гроханул бы этак строк семьсот, а то и тысячу?
Смеляков взорвался:
— Да вы что! Маяковский и то за всю жизнь только десять строк о партии написал. А я вот, например, ни одной…
— Да?! — переспросил его Поликарпов, тяжелея глазами, которые сразу налились каким-то прокурорским свинцом. Он как будто первый раз увидел Смелякова и кое-что, безусловно, засек в своей крутой памяти.
Потом Поликарпов обратился к Полевому:
— Слушай, Борис, может быть, эти шестнадцать строчек напечатать заглавными буквами, да хорошо бы красного цвета? Чтобы они выделялись в поэме, чтобы сразу бросались в глаза.
— Нет, это невозможно… — затряс головой Полевой. — Не по политическим причинам, конечно, а по типографским. Вы же прекрасно знаете, какие у нас неандертальские машины. Я уже три раза обращался с записками в ЦК.
Поликарпов прервал его:
— Потом, потом. — И вдруг неожиданно обратился ко мне по имени-отчеству: — Ну как, Евгений Александрович, может, все-таки поработаешь еще, напишешь еще хоть сотню-другую строк для родной партии?
— Да не может он больше! Не может! — вскочил со стула Смеляков, наливаясь яростью.
Поликарпов холодно смерил его взглядом.
На «государственного поэта» Ярослав Васильевич Смеляков явно не годился.
«Братская ГЭС» вышла в 4-м номере 1964 года. Из нее была выброшена глава «Прохиндей», вписаны три главы, вписано огромное количество балансирующих прокладок, которые я потом выбросил. Строчечных поправок всего было 593.
Когда в 1964 году в мастерской художника Олега Целкова я показал Артуру Миллеру верстку поэмы, испещренную красными карандашами, он был потрясен:
— Как вы можете писать в таких условиях? Что за люди вас так мучают?
Я показал ему на картину Целкова, где самодовольные уроды кромсали ножами живое тело разрезанного арбуза.
Однажды я позвонил Поликарпову по какому-то делу. Секретарша расплакалась:
— А вы еще ничего не знаете, Евгений Александрович? Дмитрий Алексеевич вчера как раз отошли. Какой все-таки человек это был! Когда я последний раз его навестила, он так мне и сказал: «Видно, отхожу. Передай жене, чтобы за эту неделю паек в распределителе не брала — не отработал». Вот какие люди были в нашей стране, Евгений Александрович! Нам с вами повезло, что мы их застали.
Я был одним из немногих писателей, которые пришли хоронить Поликарпова. Мне говорили, что лицо его было страшно искажено нечеловеческой предсмертной гримасой и пришлось прибегнуть к помощи хирурга. В гробу он был слишком нагримирован, чтобы можно было увидеть его настоящее лицо, которое он, возможно, прятал при жизни и которое ухитрился под гримом спрятать после смерти.
А может быть, его трагедия заключалась именно в том, что у него не было своего лица, а лишь своеобразная лицевая униформа? Поликарпов был тоже жертвой того, во что он верил или старался верить. Но верил ли он на самом деле или нет — это все-таки он унес с собой в могилу.
Смерть Поликарпова, этого мастодонта сталинской эры, трагически попавшего каким-то чудом в эпоху первоначального разложения всего того, чему он ревностно служил, была переломным моментом навязанной народу идеологии примата партии и государства над человеком. От момента его смерти было еще далеко до отмены цензуры, шестой статьи Конституции. Тогда нам, писателям, казалось, что стоит лишь добиться отмены цензуры, и жизнь станет прекрасной. Все оказалось сложней. Если мы не окажемся достойными свободы — тогда снова запросим цензуры, и снова попадем в нее на долгие годы, как в звериную клетку.
Слух о моем самоубийстве