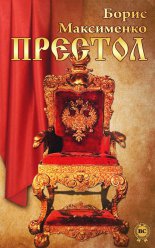Фанни Каплан. Страстная интриганка серебряного века Седов Геннадий

Написала от ее имени прошение в адрес врача Нерчинской каторги Рогачева, тот, в свою очередь, ходатайство начальнику Акачинской тюрьмы, последний выдал «добро». В углу документа, правда, начертал резолюцию, которую Александра Адольфовна зачитала ей со смехом:«Молоко и белый хлеб выдавать каждый день, а яйца не каждый. Все приобретать в счет себя, денег прося».
Сюрприз! — пришло в один из дней письмо из Одессы от брата Фимы. Он не поехал с семьей в Америку, остался с русской женой и детьми в России. Несколько лет, по его словам, направлял запросы в различные инстанции, чтобы узнать о ее судьбе, недавно только получил ответ из канцелярии Забайкальского генерал-губернатора. Фима, оказывается, переписывался с родителями, получал от них временами небольшие денежные переводы и продуктовые посылки. Писал, что мать с отцом, а также сестры и брат устроены, живут в разных городах, что в каждом письме от них одна и та же просьба: навести справки, узнать, жива ли она, что с ней.
Она продиктовала Александре Адольфовне два письма — одно Фиме, другое для пересылки в Америку. Получила через месяц цветную открытку со словами: «Милая моя, как я счастлив: ты жива! Мамэле и отцу послал телеграмму, получил ответ. Они молились в синагоге за твое здоровье и возвращение на волю. Целую, целую, целую! Любящий брат».
С открыткой на коленях она сидела на кровати, улыбалась. Где-то на воле живут родные люди. Помнят о ней, беспокоятся, ждут. Вспомнила давний случай с Фимой — было это в суккот, в деревянном шалаше, сколоченным во дворе отцом и старшим братом. Шел последний день праздника — Шмини Ацерей, отец произносил за накрытым столом кидуш над бокалом вина, они уже попробовали по ломтику яблока с медом, тянули руки к горке круто сваренных яиц в миске, окунали в посоленную воду в стакане, аппетитно жевали, сидевший напротив Фима с набитым ртом толкал ее под столом ногами, делал страшные глаза, поперхнулся, закашлялся, плюнул что есть силы на сидящих, забрызгал черный лапсердак отца и кисейное платье мамэле, вылетел, схваченный за шкирку отцом, наружу истерически хохоча…
Никто в семье не верил, что из Фимы получится толк. А он, подросши, пошел работать — сначала в пекарню в Житомире, потом в ремонтную мастерскую, выучился механическому делу, уехал в Одессу, поступил на работу в пароходство, плавал по свету на торговом судне в должности помощника старшего механика. Оказавшись в Одессе, она думала с ним повидаться, купила торт в кондитерской, приехала на Разумовскую, где он жил. Дома его не оказалось, беременная третьим ребенком жена Люся сказала, что муж сейчас где-то не то в Турции, не то в Египте, вернется не раньше чем через месяц.
— Неделю побудет, — улыбнулась невесело, — и опять уплывет. Так и живем…
Гуляя под руку с Александрой Адольфовной по тюремному двору, она пробовала угадать по рисунку силуэта, кто из товарищей бежит ей навстречу.
— Маруся? — произносила вопрошающе.
— Господи! — восклицала обнимавшая ее Маруся Беневская. — Товарищи, она видит!
Она ощупывала лица, волосы окружавших женщин, говорила:
— Дина…
— Я, я! — слышалось в ответ. — Здравствуйте, Фанечка!
— Вера…
— Здравия желаем, ваше высокоблагородие! — голос Веры Штольтерфот. — Совершаем согласно инструкции утреннюю прогулку. Жалоб и нарушений нет…
Веселый смех вокруг, ее подхватывают под руку, ведут по булыжнику двора. Разговоры, споры — как всегда. Уклоны в сторону марксизма и субъективистской школы. Опасности, таящиеся в свободе мнений, которыми всегда славилась партия эсеров. Во что это великое разнообразие вылилось после революции пятого года и последовавшей за ней реакции. Царящие на воле упаднические настроения, скептицизм, разочарования, проповедуемые повсюду «переоценки», поиск смысла жизни — в чем угодно: в боге, искусстве, половых отношениях. Успевай разобраться…
К привычным темам добавилась новая — мировая война. Из приходивших в тюрьму разрешенных газет и журналов складывалась картина неслыханного подъема, сплочения всех слоев общества во имя защиты дорогого Отечества. Уличные манифестации под верноподданническими лозунгами, крестные ходы, моления в церквах о даровании победы русскому оружию. Добровольцы, рвущиеся на передовую, пожертвования в пользу лазаретов и госпиталей. На газетных полосах — доблестные воины с суровыми лицами у брустверов окопов, бравые артиллеристы у расчехленных орудий, примадонна императорского балета Матильда Кшесинская на ступеньке своего салон-вагона перед отправкой в гастрольную поездку по маршруту Санкт-Петербург — Тифлис с целью сбора средств в пользу увечных воинов. «Скотский энтузиазм», — как выразилась по этому поводу Маруся Спиридонова.
Вечерами Александра Адольфовна зачитывала ей статьи и заметки из только что пришедших «Всемирных новостей».
— Вот это интересно! — начинала. — Письма воинов, пересланные в редакцию родственниками.
«Благодаря любезности наших читателей, пересылающих нам наиболее интересные письма с войны от родственников-воинов, — принималась читать, — мы имеем полную возможность ясно представить себе, каково общее настроение нашей армии и как чувствуют себя самые разнообразные ее части. Нет никакого сомнения, что подобное настроение может быть только при глубоком понимании причин и задач войны, при большой вере в правоту своего дела и твердом решении бороться за него до последних сил. Посмотрите, каким спокойным героизмом веет, например, от этого солдатского письма. «Наш батальон отозван от передовой позиции для охраны железнодорожной станции. Несем, значит, одну только караульную службу. Провианта — пропасть. Станция веселая, много народу. Охраняем ее уже дней восемь. Немного неприятно только, что остальным батальонам нашего полка приходится быть в деле. Кто знает, где теперь кто из тринадцатой роты. Придется просить ротного командира, чтобы нас опять на позиции отправили, а вместо нас другой батальон охранял станцию».
А вот письмо молоденькой сестры милосердия о том же настроении солдат.«Самое характерное для настроения раненых солдат, — пишет она, — это чувство стыда. Какого-то странного стыда и смущения за свои раны, за то, что они вынуждены были покинуть строй и товарищей. «Поправлюсь, и в строй» — вот самая частая фраза во всех госпиталях и полевых лазаретах. Меня особенно умиляет, что раненые часто стесняются пользоваться нашим уходом. «Спасибо, сестрица, уж я как-нибудь сам, а вы лучше вон тому помогите, он слабее». К пленным наши солдаты относятся с редким спокойствием и какой-то трогательной, благодушной жалостью. Их часто смешат перекошенные от ужаса лица германцев, попадающих к нам в плен. «Впервые я увидел пленного германца на станции «И», — пишет один вольноопределяющийся. — Это было весьма жалкое существо. Из-под нахлобученной на лоб каски смотрела пара испуганных, как у кролика, глаз. Рот был открыт, а красное, молодое, безусое лицо передергивалось. Никак нельзя было себе представить, как этот юнец режет своим пилообразным штыком женщин, убивает детей и всячески издевается над беззащитным населением».
— Как вам, а?
— Бред какой-то, — отзывалась она, — уши вянут.
«Тот же вольноопределяющийся, — продолжала читать Измайлович, — в другом письме описывает, как ему удалось застрелить немецкого мародера. «Вы не можете себе представить, как омерзительно на поле брани мародерство. А между тем у немцев это сплошь и рядом обычное занятие. Когда меня прикомандировали к разведочному отряду для зарисовки местности, мне удалось увидеть воочию эту мерзость и застрелить даже одного мародера. Это было ночью. Наш отряд зашел слишком далеко вперед, неприятеля не было видно, а так как работа наша продвигалась отлично, то решено было не возвращаться и заночевать. Я с четырьмя товарищами устроился в ложбинке, а отряд в лесу, в нескольких саженях от нас. Ночь была лунная, и я даже успел закончить при ее свете один из чертежей. Удручающе действовали на нас только трупы наших и германских солдат — жертв последней стычки, которых некому было убрать. Вдруг нам показалось, что один из трупов поднимается и ползком перебирается от одного к другому. Мы инстинктивно схватились за винтовки и стали напряженно вглядываться. «Труп» продолжал передвигаться и обшаривать убитых. На нем была шинель внакидку, из-под которой мелькал свет электрического фонарика. Сомневаться в том, кто это, было излишним. Мы приложились, и через минуту мародер был убит, а фонарик, не поврежденный пулями, выпал из-под шинели и осветил довольно большой круг. Замечательно, что после убийства этого мародера два других «трупа» поднялись и пустились бежать без оглядки».
— Ну и ну! — вырывалось у нее.
— Слушайте дальше!
«Очень интересное письмо начальника тюрьмы одного из пограничных городков, в котором несколько дней хозяйничали немцы и где, между прочим, освободили двести человек арестантов. Арестанты, оказывается, совсем не прониклись чувством благодарности к своим освободителям. «На другой день после освобождения, — говорится в письме, — арестанты куда-то исчезли. Разрешение грабить и убивать, выданное им немцами, совсем не прельстило арестантов. Несколько человек из них были расстреляны «освободителями», и вот по какому поводу. Дня через два после освобождения человек пять арестантов, среди которых было два немца, обратились к германскому коменданту с просьбой принять их в солдаты. Комендант рассмеялся и воскликнул: «Как же я могу принять убийц в ряды германских войск?» Один из арестантов, очень обиженный, ответил: «А разве ваши войска не хуже убийц. Разве убийцы поступают так с мирными людьми, как ваши солдаты?» Все пятеро тут же были расстреляны за дерзость. Большинство же остальных, как потом выяснилось, отправилось в ближайшие города и добровольно явилось властям».
— Развесистая клюква! — хохотала над ухом Александра Адольфовна. — В редакции сочинили! Дураку понятно! Хотите еще?
«Интересно в заключение, — продолжила, — привести еще и письмо 14-летнего гимназиста С., бежавшего «на войну» недели три назад и доставившего немало горя своим родителям. Теперь родители получили от юного беглеца письмо, посланное из Лодзи. «Дорогие родители, — пишет юный «доброволец», — очень извиняюсь, что причинил вам столько неприятностей. Я очень недоволен русскими войсками. Сколько я ни умолял офицеров принять меня в солдаты, все только смеялись, а для самостоятельной отправки на войну у меня нет денег. Милые родители, простите меня и вышлите мне денег. Даю вам слово, что я не поеду на войну, а вернусь домой»…
— Околпачили людей! — задумчиво произносит она. — Эта война — подарок для Николая. Пока мы томимся по тюрьмам и ссылкам, уводят возмущенные массы подальше от баррикад. Суют им привычную кость — защита дорогого Отечества. Чтобы перемолоть в мясорубке будущих борцов. Всех вообще мыслящих граждан…
— Ясно мыслите, Фаня. В самую точку. Как настоящая эсерка.
— Я давно уже эсерка, Александра Адольфовна.
— Сколько вместе соли съели, — отзывается та, — а вы меня по-прежнему Александра Адольфовна.
— Не буду больше, Саша.
— Спасибо, товарищ, — обняла ее за плечи.
1915–1916 гг.: газетная хроника
«Русские ведомости»:
17 АПРЕЛЯ, ПЕТРОГРАД (ОТ НАШЕГО КОРРЕСПОНДЕНТА НА КАВКАЗСКОМ ТЕАТРЕ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ АЛЕКСЕЯ ТОЛСТОГО):
«Здесь храбрость и ловкость одного человека — солдата или офицера — имеют существенное значение. На том фронте за боевую единицу считают группу людей — взвод, роту, эскадрон; здесь один человек может решить участь битвы.
Около лагеря, где я был вчера, стоит гора пять с чем-то тысяч футов; ее занимали одно время турки; их позиции были сильны, и наши войска повсюду попадали под жестокий обстрел.
Один из казачьих (пластунских) сотников — отчаянная голова — провинился в то время, не помню чем; генерал призвал его и сказал, что свой поступок он может совершенно загладить каким-нибудь не менее отчаянным делом, то есть вместо суда получить «Георгия». Сотник тряхнул бритой головой, попросил день срока, в ту же ночь выбрал двадцать восемь пластунов, сказал им речь такого рода, что они рассвирепели, и полез с ними на знаменитую гору. Пластун, выведенный из раздумья, стоит троих; что произошло на горе, никто хорошо не знает: слышали недолгую стрельбу, крики; турки в составе двух рот поспешно очистили гору, оставив множество оружия, убитых и раненых. Сотник получил крест».
Daily Telegraph:
22 АПРЕЛЯ, ЛОНДОН (ПО ТЕЛЕФОНУ): «Сегодня днем немецкое командование применило на Ипрском участке британской обороны отравляющий горчичный газ, вызвавший многочисленные потери в войсках его величества».
7 МАЯ, ЛОНДОН (ПО ТЕЛЕФОНУ): «Неопознанная германская подводная лодка атаковала сегодня в Северном море британский пассажирский корабль «Лузитания». Потопленное судно унесло жизнь 1198 пассажиров».
«Новости дня»:
22 АВГУСТА, ПЕТРОГРАД: «Воздадим должное замечательному героизму солдат и офицеров Юго-Западного фронта, осуществивших под водительством генерала Брусилова прорыв глубоко эшелонированной обороны австро-венгерских войск в районе Луцка. Наступлению предшествовали тщательная разведка, обучение войск, оборудование инженерных плацдармов, приблизивших наши позиции к австрийским. Начатой 3 июня операции предшествовала артиллерийская подготовка, приведшая к сильному разрушению первой полосы обороны и частичной нейтрализации артиллерии противника. Перешедшие затем в наступление 8-я, 11-я, 7-я и 9-я армии прорвали одновременно на тринадцати участках хорошо укрепленные позиции австрийцев, которыми командовал эрцгерцог Фридрих.
Чтобы сдержать наступление наших войск, австро-германское командование вводило в бой все новые и новые соединения, перебрасывало в Галицию все, что можно — даже две турецкие дивизии с Салоникского фронта: тщетно! Россияне били их по очереди! Не выдержав натиска, германцы начали отступать. 11-я армия взяла Броды и, преследуя противника, вышла на подступы к Львову, 7-я армия овладела городами Галич и Монастырска. На левом фланге фронта значительных успехов достигла 9-я армия генерала Лечицкого, занявшая Буковину и следом Станислав.
По предварительным данным, в результате трехмесячных боев нашими войсками пленено более 400 тысяч австрийцев».
«Правительственный вестник»:
23 АВГУСТА, ПЕТРОГРАД. Высочайшие телеграммы на имя командующего Юго-Западным фронтом генерала А.А. Брусилова.
«Передайте Моим горячо любимым войскам вверенного Вам фронта, что я слежу за их молодецкими действиями с чувством гордости и удовлетворения, ценю их порыв и выражаю им самую сердечную благодарность.
Верховный главнокомандующий Император Николай Второй».
«Приветствую Вас, Алексей Алексеевич, с поражением врага и благодарю Вас, командующих армиями и всех начальствующих лиц до младших офицеров включительно за умелое руководство нашими доблестными войсками и за достижение весьма крупного успеха.
Николай».
Война и отношение к ней революционных, либеральных и буржуазно-демократических партий России внесли разброд в жизнь некогда сплоченной коммуны мальцевских политкаторжанок. Вести с воли, свидетельствовавшие о резкой поляризация политических и классовых сил, выступавших под непримиримыми лозунгами, вовлеченность в этот процесс, принятие или непринятие той или иной платформы, желание встать на чью-либо сторону накаляли атмосферу, отдаляли друг от друга, разъедали как ржавчина былое единство соратниц по борьбе. Встречаясь на прогулках, активно переписываясь, делясь полученными письмами родных, обсуждая газетные сообщения, пробовали переубедить одна другую, переходили нередко грань, ссорились, ожесточались.
«Как же вы не можете уразуметь, дорогая моя, что резолюция Штутгарского конгресса Второго Интернационала»…
«Допустим. А манифест о войне социалистического конгресса в Базеле?»
«…Первая Циммервальдская конференция не принесла»…
«…Вторая Циммервальдская»…
«…вот вам ваши интернационалисты!»
«…центристы… социал-шовинисты»…
«…показали истинное лицо!»
«…А кадеты, октябристы? Читайте их программы!»
«…большевики… меньшевики».
«Неприкрытая идеализация освободительной войны!»
«Робер Гримм… Ленин… Плеханов… Троцкий»…
«Не говорите мне о Троцком!»
«Мартов, Аксельрод»…
«Послушайте лучше, что говорит по этому поводу Чернов!»
Сыпали цитатами, приводили неопровержимые доводы в пользу того или иного посыла, партийной резолюции, параграфа программы. Признавать войну империалистической или нет? Достаточно ли оснований, чтобы осудить социалистов, участвующих в правительствах воюющих стран и голосующих за военные бюджеты? Разворачивать агитацию за мир без аннексий и контрибуций? Насколько действенным может оказаться призыв к трудящимся сражающихся держав: «Сложите оружие, обратите его против общего врага — капиталистических правительств, превратите империалистическую войну в войну гражданскую?» Или, напротив, признать справедливым лозунг: «Отложить внутренние споры, победить сначала на полях сражений, а потом уже на баррикадах мировой революции?»
Голова пухла от дум.
Через нелегальную связь пришел номер газеты «Социал-демократ» со статьей большевистского вождя Ульянова-Ленина «Война и российская социал-демократия». Вооружившись лупой, она читала по буквам манифест ближайшего соратника по борьбе, подчеркивала карандашом наиболее понравившиеся места. А ведь прав во многом этот вездесущий пропагандист! Вот это, к примеру: «Обе группы воюющих стран нисколько не уступают одна другой в грабежах, зверствах и бесконечных жестокостях войны, но чтобы одурачить пролетариат и отвлечь его внимание от единственной действительно освободительной войны, именно гражданской войны против буржуазии как «своей» страны, так и «чужих» стран, для этой высокой цели буржуазия каждой страны ложными фразами о патриотизме старается возвеличить значение «своей» национальной войны и уверить, что она стремится победить противника не ради грабежа и захвата земель, а ради «освобождения» всех других народов, кроме своего собственного. На социал-демократию прежде всего ложится долг раскрыть это истинное значение войны и беспощадно разоблачать ложь, софизмы и «патриотические» фразы, распространяемые господствующими классами, помещиками и буржуазией, в защиту войны».
«Настоящий лидер, — думала. — Не прячется за обтекаемыми формулировками, мыслит ясно, четко. Шовинистам дает уничтожающую характеристику, вождям заграничных социалистических партий. Кадетов расчихвостил по всем статьям, народников, правых эсеров. Своих не пощадил — молодец! Плеханова, Маслова, Смирнова. «Измена делу социализма». Правильно! Как можно это по-другому назвать? Трусость, измена, предательство! А вот с идеей Соединенных Штатов Европы, кажется, переборщил. Ну как это возможно? Турок-рабочий и русский пролетарий управляют единой страной. Немцы тут же, англичане, французы. Туманно, по-книжному. Зато главный тезис верный: чем больше будет жертв войны, тем яснее станет для рабочих масс измена оппортунистов, тем скорее обернутся солдатские штыки против собственных угнетателей, и империалистическая война превратится в народную, приведет к победе революции. Молодец!»
Архив Нерчинской каторги, 1907–1917 гг.:
«Село Алгачи Забайкальской области, врач Нерчинской каторги, 7 октября 1915 года.
Начальнику Акатуевской тюрьмы.
Ссыльнокаторжным Каплан Фейге и Измайлович Александре вследствие малокровия прошу разрешить приобретать за свой счет по 1 фунту белого хлеба, 1 бутылке молока и по 2 яйца ежедневно в течение одного месяца.
Врач Вокслин».
«Село Алгачи Забайкальской области, врач Нерчинской каторги, 3 августа 1916 года.
Начальнику Акатуевской тюрьмы.
Ссыльнокаторжным Каплан Фейге и Измайлович Александре вследствие упадка питания прошу разрешить за свой счет ежедневно в течение одного месяца по 1 фунту белого хлеба, 1 бутылки молока и по 2 яйца. То же — и Карвовской.
Врач Вокслин».
Резолюция, 4 августа: «Объявить старшему надзирателю А.А. Сухаревой».
«Село Алгачи Забайкальской области, врач Нерчинской каторги, 9 сентября 1916 года.
Начальнику Акатуевской тюрьмы.
Ссыльнокаторжным Каплан Фейге и Измайлович Александре вследствие хронического катара желудка прошу разрешить приобретать за свой счет ежедневно в течение одного месяца по одному фунту белого хлеба, 1 бутылке молока и по два яйца.
Врач Вокслин».
Резолюция: «Выдавать за счет Каплан и Измайлович».
«Акатуй Забайкальской области, фельдшер Акатуевской тюрьмы, 30 сентября 1916 года.
Господину начальнику Акатуевской тюрьмы.
РАПОРТ.
Ссыльнокаторжной Каплан Фейге вследствие хронического катара желудка прошу разрешить приобретение за свой счет по две курицы в неделю в течение одного месяца. Курица нужна для диетического лечения.
Мед. фельдшер Деревянко».
Резолюция: «Разрешается покупать».
«Село Алгачи Забайкальской области, врач Нерчинской каторги, 3 октября 1916 года.
Его Высокоблагородию господину начальнику Акатуевской тюрьмы, 3 октября 1916 года.
Ввиду обострения желудочного катара ссыльнокаторжная Фейга Каплан нуждается в улучшенном питании — 1 фунт белого хлеба, 1 бутылка молока, 2 яйца в день и 10 фунтов рису и картофельной муки на месяц октябрь.
Врач Вокслин».
Резолюция: «Исполнить желание врача. Рис и картофельную муку не давать. Быть в камерах и усилить надзор. Готовить в лазарет».
«25 января 1916 года. Сибирь Забайкальской области, Александровский завод, начальнику Акатуевской тюрьмы, Superintend ant Akatuew prison
Aleksandrowsk zawod Zabaykalsk Oblast
Sibiria Russia
Его Высочеству начальнику Акатуевской тюрьмы.
Уважаемый сударь!
Надеюсь, что Вы простите нас за нашу дерзость писать к Вам. Но это была наша последняя надежда узнать что-нибудь о нашей дорогой дочери. Между заключенными в Вашей тюрьме находится наша дочь Фейга Каплан. Но вот уже прошло больше года, как мы ни слова не слышали от нее. День за днем мы провели этот год в томительном ожидании хоть одного слова от нее. Но понапрасну. Уже целый год прошел, а мы все еще ждем у моря погоды.
Мы поэтому обращаемся к Вам: сделайте это благотворительное одолжение, поддержите наши старые годы, и уведомите нас хоть одним словом, жива ли она, здорова ли. Если Вы сами не хотите писать, то будьте любезны уведомить ее, и заставьте ее нам писать немедленно. Пусть она уведомит нас о ее здоровье. Просим Вас опять, не откажите нам в нашей маленькой просьбе и удостойте нас немедленным ответом. Бог вознаградит Вас за Ваше благотворное деяние.
С искренним почтением Файвел и Сима Каплан.
Наш адрес:
m-r Rothblat, 1250, So. Saweer avenu, Chicago, US America.
Г-н Ройтблат, Чикаго, Америка, Сойер улица (авеню)».
Резолюция: «Пускай Каплан напишет письмо. Которое официально отправит из конторы при бумаге. 25 февраля 1916 г.».
«Г-ну Ройтблат
Чикаго, Америка
Сойер улица (авеню)
Для передачи Файвелу Каплан
Вследствие Вашего письма мною предложено Вашей дочери ссыльнокаторжной ввереной мне тюрьмы Фейге Каплан написать Вам письмо, которое при сем прилагаю и сообщаю, что она в настоящее время жива и здорова.
За начальника тюрьмы капитан Рубайло».
Она сочинила на скорую руку письмо в Америку. Объяснила причину молчания: хворала, лечилась, ездила по лечебницам, теперь, слава богу, дело вроде идет на поправку. Попросила, если можно, прислать для чтения лупу — та, что сейчас у нее, недостаточно сильная, приходится напрягаться, глаза быстро устают.
Через два месяца, в мае, на ее имя поступил денежный перевод на шестьдесят два рубля пятьдесят копеек и бандероль с сургучными печатями владивостокской таможни, из которой она извлекла великолепную лупу с удобной витой ручкой и мягкие бархоточки для протирания стекла. Ура, живем!
В феврале товарищи поздравили ее с днем рождения — двадцать семь лет. Собрались после ужина в больничной палате, устроили ночное чаепитие с сушками. Шутили, смеялись.
— Девушка на выданье, — обнимала ее за плечи Дина Пигит. — Женихи на воле ждут не дождутся.
— Скажете, — усмехалась она. — Перестарка. Зубы крошатся.
— Зубы подлатаем.
В разгар вечеринки в дверь осторожно постучали, вошел санитар с подносом в руках. Легкий переполох, посетительницы привстали с мест.
— Спокойно, гражданки ссыльнокаторжные! — санитар поставил на стол пышный каравай с изюмом. — От их высокоблагородия господина начальника тюрьмы. Презент имениннице… Желаю здравствовать, — попятился к выходу. — Потише только, если можно.
«От начальника тюрьмы? Ей? Поздравление? Чудеса в решете!»
Что-то не очень понятное происходило в последнее время в Акатуе. Тюремщики — надзиратели, санитары, конвойные — обрели странным образом одинаковое выражение лиц: крайней озабоченности. Перестали словно бы по рассеянности замечать мелкие нарушения, делали поблажки в вопросах, ранее не подлежавших обсуждению, некоторые стали даже первыми здороваться.
— Зашевелилось что-то на воле, — обмолвилась при встрече Вера Штольтерфот. — Жди перемен.
И впрямь — зашевелилось. В Акатуй, минуя цензуру, поступали невероятные сообщения. В Петрограде уличные манифестации под антивоенными лозунгами, стачки, забастовки, брожение среди военных. От прежней ура-патриотической настроенности — ни следа. Государственная власть дискредитирована громкими скандалами, трещит по швам, разваливается. Дума практически парализована, в правительстве чехарда: сменяются беспрестанно министры, один другого хуже и некомпетентней. Изолированный в своем поезде в Ставке Николай Второй, принявший на себя роль верховного главнокомандующего, не принимает по существу участия в управлении страной. Во дворце командует пьяница-растрига Распутин, ползут слухи об измене в пользу германцев императрицы Александры Федоровны. Обстановка накалена до предела, вот-вот взорвется…
Зима тысяча девятьсот семнадцатого года в Забайкалье выдалась бесснежной, лютой. Раскачивались по ту сторону тюремного забора, скрипели на пронизывающем ветру лиственницы, носились в мглистом полусвете дня растрепанные вороны. Стены камер промерзали насквозь, внутри — топи, не топи — зябко, стынут руки. Набивались вечерами в их с Сашей больничную палату (начальство делало вид, что не замечает), сидели у огня, подбрасывали поленца в печурку, терли глаза от едкого дыма. Говорили до полуночи, до рассвета. Теперь уже никаких сомнений: страна на пороге революции. Только бы не сплоховали, как в девятьсот пятом, не дали властям времени опомниться. Забыли о разногласиях, партийных платформах. Главное сейчас — навалиться всем миром, победить.
— Господи, неужели доживем, будем нужны? А?
— Доживем, товарищи! Пригодимся. С нашим-то опытом борьбы. Давайте тихонько, а?..
…«Славное море — священный Байкал, славный корабль — омулевая бочка. Эй, баргузин, пошевеливай вал, молодцу плыть недалечко»…
«…Вв-ыи-ииии! — подпевала из-за стен людским голосам забайкальская метелица. — Вввыыыииии!»
События нарастали, катились снежным комом. Что ни неделя — очередная сногсшибательная новость. Убили Распутина, в оппозиции к царю даже великие князья. В столице всеобщая забастовка, не работают заводы и фабрики, число бастующих превышает двести тысяч человек. Солдаты отказываются стрелять в манифестантов, поворачивают оружие против полиции и карателей-казаков. Восстал Балтийский флот и практически весь петроградский военный гарнизон. Большая часть города в руках восставших, на улицах и площадях баррикады, с обеих сторон есть убитые и раненые. Создан Петроградский городской Совет рабочих и солдатских депутатов, следом — Временный комитет Государственной Думы во главе с князем Львовым.
Царь отрекся от престола в пользу младшего брата Михаила. Объявлена всеобщая амнистия политзаключенным — ура!
«Мамэле, папэле, я на свободе», — полетела за океан каблограмма.
1917 год.
Из дневника великого князя Андрея Владимировича:
ФЕВРАЛЬ:«В общем, картина рисуется следующим образом. 26 февраля, когда в Думе был получен указ о роспуске, Дума решила не расходиться и обсудить создавшееся положение. Одновременно с этим на улице шла стрельба. По частным сведениям, казаки и семеновцы не пожелали стрелять в толпу, преображенцы же остались верны. Дума немедленно перетянула к себе те части, которые не желали стрелять в толпу, и получилось часть войск за Думу. Затем Родзянко отправил две телеграммы — одну Государю, другую главнокомандующим. Не получая никакого ответа из ставки, Дума решила образовать Временное правительство из разных лиц и приступила к аресту всех настоящих и части бывших министров».
Телеграмма председателя Государственной Думы М.В. Родзянко царю:
26 ФЕВРАЛЯ, ПЕТРОГРАД: «Положение серьезное. В столице анархия. Правительство парализовано. Транспорт, продовольствие и топливо пришли в полное расстройство. Растет общее недовольство. На улицах происходит беспорядочная стрельба. Части войск стреляют друг в друга. Необходимо немедленно поручить лицу, пользующемуся доверием страны, составить новое правительство. Медлить нельзя. Всякое промедление смерти подобно. Молю Бога, чтобы в этот час ответственность не пала на венценосца».
Из дневника великого князя Андрея Владимировича:
ФЕВРАЛЬ:«С арестом всего правительства и захватом центральных учреждений, почты и телеграфа получилось сразу впечатление по всей России. Посылаются телеграммы, угодные Временному правительству, и ничего больше. Однако жандармы знают, что Родзянко, не получая ответа из ставки, обратился к великому князю Николаю Николаевичу и завязалась переписка, из которой можно понять, что Государь предлагал подавить бунт в Петрограде военной силой, но будто бы Николай Николаевич нашел, что эта мера опоздала. Что произошло в самом Петрограде, неизвестно, по газетам видно, что улица взяла власть в свои руки и вопрос из Думы перевалил на улицу. Список лиц, ставших во главе правительства, вряд ли вызовет удовольствие во всей России. Они достаточно опротивели всем, и можно ожидать, что это новое правительство встретит всеобщий отпор при условии, что государство крикнет клич по всей России. Народу надо за кем-нибудь идти. Кто сильнее, тот и прав в данную минуту. Лишь слабость может погубить дело. Нужна твердая власть, решительная и безбоязненная. Паралич центральной власти, вызванный поголовным арестом, остановит временно государственный механизм, и новым случайным лицам не так легко удастся восстановить нормальный порядок в короткое время. Здесь, например, власти, получая телеграммы за подписью Родзянко, исполнять их не желают. «Что это за самозванцы, — говорят они, — мы им не слуги». Повторяю одно: мы не знаем, что делается в данное время. Возможно, что приняты меры, но какие, бог весть. Да ужасное, позорное время переживаем. Нет слов описать что пережили мы за этот день. Но еще ужаснее, что мы предвидели наступление катастрофы, предупреждали — нас не слушались и докатились. Если вдуматься хотя бы в тот факт, что императрица должна была вступить в переговоры с Временным правительством, это достаточно ярко. Судьба. Прямо не верится, что такие вещи могут быть и во время войны. Стыдно за всех».
«Манифест об отречении от престола Николая Второго»:
ПЕТРОГРАД, 3 МАРТА: «Божьей милостью Мы, Николай, Император Всероссийский, Царь Польский, Великий Князь Финляндский и проч. и проч. Объявляет всем нашим верным подданным. Во дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти три года поработить нашу Родину, Господу Богу угодно было ниспослать России новое тяжкое испытание. Начавшиеся внутренние народные волнения грозят бедственно отразиться на дальнейшем ведении упорной войны Судьба России, честь геройской нашей армии, блага народа и все будущее дорогого нашего Отечества требует доведения войны, во что бы то ни стало, до победного конца. Жестокий враг напрягает последние силы и уже близок час, когда доблестная армия наша, совместно со славными союзниками нашими, сможет окончательно сломить врага. В эти решительные дни в жизни России почли Мы долгом совести облегчить народу Нашему тесное единение и сплочение всех сил народных для скорейшего достижения победы и в согласии с Государственной Думой, признали Мы за благо отречься от Престола Государства Российского и сложить с себя верховную власть. Не желая расстаться с любимым сыном Нашим, Мы передаем наследие брату Нашему, Великому князю Михаилу Александровичу. Благословляю Его на вступление на Престол Государства Российского. Заповедаем Брату Нашему править делами Государства в полном и ненарушимом единении с представителями народа в законодательных учреждениях на тех началах, кои будут ими установлены, принося в том ненарушимую присягу во имя горячо любимой Родины, призываем всех верных сынов Отечества к исполнению своего святого долга перед Ним, повиновением Царю в тяжелую минуту всенародных испытаний и помочь ему вместе с представителями народа вывести Государство Российское на путь победы, благоденствия и славы, да поможет Господь Бог России.
На подлинном собственною Его Императорского Величества рукой подписано
НИКОЛАЙ
2 марта в 15 час. 1917 года.
Город Псков.
Скрепил: министр Императорского двора генерал-адъютант граф Фредерикс».
Из дневника великого князя Андрея Владимировича:
4 МАРТА. КИСЛОВОДСК: «Сегодня как гром нас обдало известие об отречении Государя за себя и Алексея от престола в пользу Михаила Александровича. Второе отречение великого князя Михаила Александровича от престола еще того ужаснее. Писать эти строки, при переживании таких тяжелых моментов, слишком тяжело и трудно. В один день все прошлое величие России рухнуло. И рухнуло бесповоротно, но куда мы пойдем. Призыв Михаила Александровича к всеобщим выборам ужаснее всего. Что может быть создано, да еще в такое время. О, Боже, за что так наказал нашу Родину. Враг на нашей территории, а у нас что творится. Нет, нельзя выразить все, что переживаешь, слишком все это давит, до боли давит».
«Речь»:
ПЕТРОГРАД, 4 АПРЕЛЯ: «Германия в нашем тылу».
«Русские эмигранты-большевики с Лениным во главе приехали в Стокгольм, перерезав с юга на север всю Германию. На швейцарской границе им предоставлен был особый вагон, в котором они и проследовали благополучно по назначению. По пути они пользовались, во владениях императора Вильгельма более чем дипломатическими преимуществами, ибо у них не осматривали ни багажа, ни паспортов. Настроений г. Ленина нам все равно никогда не понять. К счастью, в этом отношении мы оказываемся солидарными даже с такими крайними русскими эмигрантами, как редакция «Призыва». Как известно, сотрудники этого органа еще в субботу, на Страстной, опубликовали в русских газетах энергичный протест «против политического бесчестия», заключающегося, по их мнению, в том, что русский гражданин, едущий в Россию, счел возможным входить в какие-то соглашения с правительством, проливающим кровь бесконечного количества наших сыновей и братьев. Повторяем, психологии г. Ленина нам все равно никогда не понять. Поэтому мы не будем останавливаться на тех аргументах, которые им опубликованы в шведской газете «Политика» и которые имеют, по-видимому, целью оправдать жест русских большевиков, возмутивший даже редакцию «Призыва». Нас интересует только одна сторона дела. Через какого-то Фрица Платтена, швейцарского антимилитариста, г. Ленин и товарищи вступили в переговоры с императорским германским правительством. Не с Либкнехтом, который сидит в тюрьме, и даже не с Шейдеманом поддерживающим императора Вильгельма социал-демократической фракцией рейхстага. Нет. Они вступили в соглашение с кайзером, с Гинденбургом, с Тирпицем и со всей той шайкой аграриев-юнкеров, которые в настоящее время представляют собой правительство Германии. Психологию кайзера мы понимаем, надо полагать, достаточно хорошо для того, чтобы формулировать один тезис. Если бы приезд Ленина с товарищами был невыгодным для Вильгельма и Гинденбурга, то ему не предоставили бы посольского вагона. Поэтому двух мнений быть не может. Когда немецкие военные власти предоставляли салон в распоряжение Ленина, то они руководились не антимилитаристическими и не социал-демократическими соображениями, а исключительно только пользами и нуждами Германии, как они, Гинденбурги, эти пользы и нужды понимают. Мы имеем, значит, официальное удостоверение того, что приезд Ленина выгоден для германских аграриев-юнкеров и берлинской милитаристической клики. Немцы в восторге от того, что большевистский вождь наконец в России и «агитирует». К этому тезису мы ничего не прибавим».
Свобода!
Вдребезги разбитая дорога, хлещет, пробирается под задубелую рогожу ледяной ветер. «Нно-о! — монотонный возглас возницы с облучка. — Нно-о, милы-яя!»
Сидя спина к спине с Марусей Спиридоновой, она трясется в скрипучей телеге. Рядом, тесно прижавшись, еще восемь вчерашних политкаторжанок. Все свои, мальцевитянки. Сестры Пигит, Верочка Штольтерфот, Маруся Беневская, Фаня Радзиловская, Нина Терентьева, Ира Каховская, Ольга Полляк. «Отчаянные» как отозвался о них, подписывая подорожные бумаги, начальник тюрьмы. Сразу же по получении указа об амнистии приняли решение не дожидаться тепла, добираться до Читы на лошадях, по зимнику — где наша не пропадала!
Стеганые арестантские халаты поверх шерстяных платьев не греют, мороз пронизывает до костей. Спасает взятый в дорогу «файертоп», сооруженный по ее указке перед самым выездом. Вспомнила, как согревались в морозные дни штетловские базарные торговки: закладывали в ведра с дырами на боку сухие щепки, подбрасывали уголька, поджигали, ведро медленно накалялось — благодать! — на дворе стужа, а ты сидишь себе как у бога за пазушкой.
Она высовывается время от времени из душной рогожи — курнуть раз-другой, озирается по сторонам: день ли, вечер — не поймешь. Оголенные сопки в туманной пелене, тусклый диск солнца на небе. Вторая неделя как они в пути. Все простужены, кашляют по-собачьи, устали донельзя. У Маруси жар, стонет уронив ей на плечи голову, пылает как печка. Отдала перед выездом, как она не сопротивлялась, свой пуховый платок. «У меня какая-то непонятная реакция на шерсть, — объяснила, — чешусь»…
Скрип колес, подъем, спуск, переправа по льду замерзшей речки, короткие дневки, чтобы накормить и перепрячь лошадей, ночевки — в упрятавшихся по склонам поселках рудокопов, на заимках, в дымных избах поселенцев. На лавках, теплой печке гуртом, на холодной соломе в подклети рядом с блеющими овцами. Не успеешь чуточку согреться, провалиться в сон, раскачивают за плечи: подъем! Жидкий чай из самовара, заплесневелые сухари. «С богом, барышни!» Вновь ухабистая дорога, скрип тележных колес, свист ветра за рогожей.
В Читу добрались полуживыми. Сходили на базар, купили съестного. Загодя приобрели билеты, неделю жили на вокзале в ожидании поезда. Спали в переполненном зале ожидания: кто на лавке, кто на полу.
Она озиралась с удивлением по сторонам: везут в тележках, несут на плечах поклажу богато одетых господ в мехах и горностаях носильщики; ходят поблизости жандармы, проверяют паспорта; кучка студентов в форменных шинелях курит у входных дверей; мочится озираясь у пристанционного забора мужик в стеганом армяке. Впечатление, будто ничего в мире не изменилось, осталось как прежде.
«Может, — думалось, — революция просто не успела еще сюда добраться? Или — как?»
До Иркутска и дальше в Москву они ехали вторым классом. Соседи — мещане, служащие, банковский служащий с женой и малолетним сынишкой, три молчаливых монашки в темных платках говорили о чем угодно, только не о главном событии, которое, как ей казалось, должно было в первую очередь занимать умы людей: историческом повороте в жизни страны, переходе власти в руки народа, начале новой жизни. Ничего подобного! Толковали об ужасной дороговизне, дорожных мошенниках, очищающих кошельки пассажиров, болезнях детей, приближающейся Пасхе.
«Байкал, господа!» — прокричали однажды по соседству.
Десять лет назад, по пути на каторгу, они проехали славное море-озеро ночью. Теперь оно снова было рядом — руку протяни.
Поезд стоял на небольшой пустынной станции: меняли паровоз. Они столпились в коридоре возле окна, соскребали ногтями со стекла радужную наледь, вглядывались в пространство. Впереди белело ледяное поле с живописными торосами, вмерзшее в лед полуопрокинутое суденышко, лесной массив по берегам, избы на косогоре со слабо курящимися трубами.
Все это она скорее воображала, чем видела слушая пояснения добровольного своего поводыря Саши Измайлович: перед глазами маячило полуразмытое пятно под смутно-белесым небом.
— Бог мой! — говорила взволнованно в купе. — Я ведь мечтала одолеть Байкал в лодке, когда совершу побег. Представляла все до мельчайших подробностей. Сижу на веслах, гребу изо всех сил. Ветер в лицо, лодку подбрасывает на волнах…
— А на другом берегу — жандармы, — Верочка со смехом. — «Здравствуйте, госпожа Каплан! С прибытием. Как самочувствие? Чаю не желаете?»
— Ну почему жандармы, Вера? — притворно хмурилась она. — Скольким ведь товарищам удавался побег.
— А скольким нет… Эх, не нужны теперь никакие лодки-селедки, никакие баргузины! На колесах катим, в купе второго класса. Свободные как птицы!
— Не верится, ей-богу!
— А мне верится?
На больших станциях бежали к киоскам, накупали газет, журналов. Зачитывали друг дружке сногсшибательные сообщения. Временный комитет Государственной Думы принял новую программу. Свобода слова, печати, союзов, собраний и стачек с распространением политических свобод на военнослужащих. Отмена всех сословных, вероисповедных и национальных ограничений, черты оседлости.
— Как вам, Фанюша? Нет больше этой проклятой черты, а!
— Дождались, не верится!
— Послушайте дальше, товарищи! «Подготовка к созыву на началах всеобщего, равного, тайного и прямого голосования Учредительного собрания, которое установит форму правления и конституцию страны»… «Замена полиции народной милицией с выборным начальством, подчиненным органам местного самоуправления»…
— Смелее, чем в демократических странах Европы!
— Все равно недостаточно! — голос Маруси Спиридоновой — Лозунг — «власть народу» должен стать абсолютным, главенствующим. Все остальные законы вытекать из него, быть его подтверждением.
— Согласна, Маруся!
В Москву добрались лишь в середине апреля: поезд сутками простаивал на небольших станциях и разъездах — то сменный паровоз не подали, то угля на топливном складе не оказалось, то вообще непонятно что происходит.
На Казанском вокзале, выбираясь на площадь, они стали объектом стихийной манифестации. Трое патрульных солдат с красными ленточками на папахах попросили у них документы на выходе. Старший, вчитавшись в бумаги, воскликнул:
— Политические? С каторги? Товарищи! — закричал проходившим мимо людям с мешками и баулами. — Товарищи женщины — освобожденные революционерки! Из Сибири!
Вокруг собралась небольшая толпа. Приветствия, пожатия рук.
— Ура героическим узницам! — прокричал, вылезая из подъехавшего фаэтона, тучный мужчина в крылатке. — Елена, дети! — позвал спустившихся вниз женщину и двух подростков в гимназистских шинелях. — Идите сюда! Гляньте! Это наши великомученицы! Наши жрицы свободы! — сорвался на крик. — Кому мы обязаны зарей новой жизни!
К ним подъезжали вереницы экипажей.
— Ко мне, барышни! — окликали, проезжая, бородатые извозчики. — Кони звери! Домчим с ветерком!
Отъезжали одна за другой товарищи.
— До встречи, Фанюша! Я в «Славянском базаре»! — Сашин голос из заворачивавшей за угол коляски.
На стоянку подъезжал, чихая душным дымом, автомобиль.
— Дина! Аня! — окрик из отворившейся дверцы.
Сестер Пигит встречал в собственном «Бьюике» отец. Представительный, усы колечком, в отлично сшитом костюме.
— Папочка, — показала на нее освободившись из объятий отца Дина, — знакомься. Наша подруга Фаня Каплан. Погостит у нас какое-то время, пока не подыщет жилье.
— Милости просим…
Крепкое рукопожатие, насмешливый взгляд.
— Устроим, не извольте беспокоиться. Где-нибудь в закуточке, — коротко хохотнул. — На подстилочке.
— Папуля в своем репертуаре! — рассмеялись сестры.
Шутка богатейшего московского промышленника, владельца табачной фабрики «Дукат» Ильи Давыдовича Пигита насчет закуточка и подстилочки стала понятна, когда машина, проехав центральными улицами города, завернула к Патриаршим прудам, встала у парадного входа пятиэтажного дома-модерн, навстречу им скатился с крыльца усатый привратник в униформе, приложился к кокарде, потащил торопясь вместе с шофером в просторный холл их немудреный каторжный багаж.
Доходный дом с двором-колодцем на питерский манер по Большой Садовой, угловую квартиру в котором на третьем этаже занимал сам хозяин, был известен всей Москве. Один из самых дорогих в столице, жильцы — знаменитые адвокаты, врачи, артисты, художники, высокооплачиваемые чиновники.
Ее поместили в уютной комнате с высоким окном по соседству с Аней. Высокая деревянная кровать с балдахином, палевые занавески, трюмо до потолка. Горничная-латышка перестлала в ее присутствии постель, справилась, удобно ли, не нужно ли еще подушек?