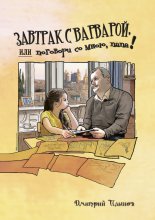Воспоминания о блокаде Глинка Владислав
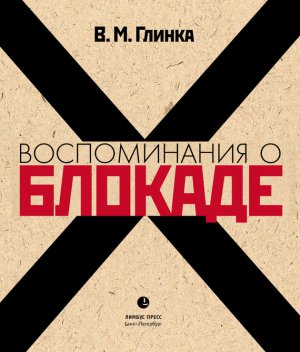
11
Кажется, еще в начале сентября до нас дошло письмо, отправленное моей мамой из Крестец. В нем говорилось обо всем, что мы уже знали от брата Сережи. Что когда мама и семья брата уже погружали какое-то имущество в эшелон, эвакуировавшийся из Старой Руссы, железнодорожные пути на окраинах Руссы разбомбили, и из горевшего города пришлось уходить пешком, катя перед собой детскую коляску с каким-то наскоро схваченным имуществом. Маме 64 года, брату и его жене – по 42, детям – 15, 6 и 4 года (на самом деле 15, 7 и 5. – М. Г.). Близ реки Пола брата мобилизовали и как командира запаса (до того он три года провел в заключении по делу о военно-конных заводах) с командой отправили в Ленинград, куда он поспел приехать, пока еще не перекрыли дороги. А остальные шли до Крестец, откуда уже поездом выехали на Горький. На этом сведения обрывались. И только в ноябре, уже по воздуху, пришла открытка, извещавшая, что все добрались до г. Кологрива Костромской области, что с жильем и продовольствием сносно, что жена брата работает агрономом, дети в школе и детском саду, но очень плохо с теплыми вещами. Нет одеял, подушек, нет никакой утвари… То есть живут полураздетые в Костромской области, где зимы так суровы. Нам стало ясно, что если удастся эвакуироваться, то надо ехать в Кологрив и везти туда все, что можно из тряпок, а значит, нельзя ехать налегке.
В конце ноября – начале декабря из Ленинграда шла эвакуация по воздуху работников искусства, писателей, композиторов. Улетели мои друзья Шварцы, с которыми простился накануне отлета, уже не зная, увидимся ли… Готовился к отлету Театр комедии, и Николай Павлович Акимов привез в Эрмитаж на саночках папку со своими рисунками, которые считал удачными, и нес сумку с фарфоровыми фигурками персонажей «Теней» и «Двенадцатой ночи», работы Н. Я. Данько. Он не застал меня и передал свой груз на сохранение Марианне Евгеньевне и сказал: «До встречи, если такая произойдет». За неделю или десять дней до этого Николай Павлович прислал мне записку, в которой предложил включить меня, жену и дочку в состав труппы и вывезти самолетом на большую землю. Но мы не могли бросить Ольгу Филипповну. К тому же лететь можно было лишь с минимальным багажом. Прибыть к семье брата в Кологрив налегке мы не могли.
Я был еще так подвижен, что на другой день (это было в первой декаде декабря) пошел проститься с Николаем Павловичем. Театр комедии квартировал тогда в помещении Большого драматического театра. Все, кого я видел в этот вечер за кулисами, а я многих знал по своей работе консультанта, были едва узнаваемы, это были тени и призраки. Они упрекали меня, что не захотел лететь с ними, и прощались со мной, как с обреченным. В этот вечер шла пьеса «Давным-давно», и когда я во время антракта проходил через фойе, меня за рукав удержал некто в костюме генерала 1812 года. Вернее, это был призрак генерала, хотя у него все было, как у генерала, даже ляжки были обтянуты «лосинами» и шея охвачена шитым золотом воротником мундира. Я с трудом узнал в этом призраке своего друга драматурга и переводчика Владимира Дмитриевича Метальникова7. Н. П. Акимову удалось включить его в состав труппы, чтобы увезти на большую землю и тем спасти от верной смерти, к которой Владимир Дмитриевич был уже так близок. Кстати, много лет спустя весть о внезапной кончине Николая Павловича буквально увлекла на тот свет и Метальникова, который не смог эту смерть пережить. Но это история уже другого времени. А в тот вечер в театре я прощался со всеми, кого встречал. В ту же ночь они улетели.
Смерти в бомбоубежище следовали одна за другой. Умерла старушка Султан-Шах, еще накануне бодро угощавшая меня особым способом приготовленным клеевым соусом. До сих пор помню ее прочувствованный голос, произнесший это слово «соус», как молитву. Умерла и ее дочка Белочка. И ту, и другую мы вынесли в гараж, служивший Эрмитажу моргом, правда, я не помню уже, с кем вместе это делал. Но помню, что явно стал сдавать, уже не мог не только бегать, но ходить по лестницам без остановок. И «по тревоге» шел едва-едва. Мои близкие заметили это. Ольга Филипповна под предлогом получения пайка, что будто бы там оставила, через силу сходила в Мечниковскую больницу и упросила Александра Ивановича Ракова положить меня в стационар, где в те дни еще регулярно кормили и где бы я не должен был бегать на бесконечные «тревоги».
Накануне моего ухода в больницу 17 декабря мы с Марианной Евгеньевной пошли с саночками нашей Ляли на Басков переулок за какими-то зимними вещами. За те десять-двенадцать дней, что я не выходил в город, после вечернего похода в Большой драматический театр, город сильно изменился. Снегу стало еще больше, его никто не убирал и не разгребал, так что на тротуарах и мостовых он лежал сугробами, утоптанные дорожки были лишь вдоль домов. Но главное отличие было в поведении прохожих – видимо, именно за эти десять дней множество людей дошло до последней черты. Попадавшиеся нам навстречу еле брели, многие опирались на палки. Те, кто падал, больше уже не вставали. Бредет мужчина таким нетвердым шагом, приостанавливается и опять шагает. И вдруг садится на снег, ложится и вытягивается во весь рост. Иной еще намеревается встать, пытается что-то сказать, когда к нему наклоняются, а другой сразу замирает, закрыв глаза и сомкнув губы в седой щетине. Я упоминаю мужчин, потому что в эти дни первыми были мужчины. И нескольких таких, едва живых, закутанных в зимнюю одежду, везли на салазках или детских саночках такие же бледные и серые, едва передвигающиеся люди – то, что так верно изобразил на одной из своих литографий А. Ф. Пахомов. В начале нашего похода мы с Марианной Евгеньевной пытались поднимать упавших. Двоих как-то посадили на ступеньки попавшихся подъездов, но только отошли немного и оглянулись – один уже упал, скользнул по косяку и лежал на тротуаре. Потом перестали поднимать и шли, стараясь не смотреть по сторонам. На обратном пути, везя тяжелые саночки по проезжей части, старались не смотреть на тротуары, но тем яснее видели лица тех, кто вез нам навстречу своих близких на саночках, и они нас видели. Попалось нам навстречу и несколько санок с мертвецами, обряженными как мумии в одеяла, и перетянутые шнурами от штор. Едва живые близкие везли их на кладбища. На улице Радищева нас застал артобстрел этого района. Страх и стремление уйти от него прибавили нам сил, и мы спешили, уже не глядя по сторонам. Когда добрались до Эрмитажа, спустились в убежище, и Ольга Филипповна с Лялей пошли к плите греть нам чай, Марианна Евгеньевна легла лицом в подушку и безудержно заплакала, кажется, в первый раз у меня на глазах. А потом сказала, чтобы завтра я шел в Мечниковскую, а она будет молиться, чтобы я дошел благополучно.
18 СЕНТЯБРЯ 1941. Посадка на трамваи, эвакуирующие жителей из Кировского района, подвергавшегося наиболее сильным обстрелам. Автор не установлен
28 СЕНТЯБРЯ 1941. Части Красной Армии проходят по улицам города, направляясь на фронт. Фото В. Федосеева
25 СЕНТЯБРЯ 1941. Витрины магазинов на пр. Володарского (Литейном пр.), заложенные мешками с песком, предохраняющими от попадания осколков. Фото ЛенТАСС
ОСЕНЬ 1941. Жители города сдают лыжи в Октябрьский райвоенкомат. Автор не установлен
17 СЕНТЯБРЯ 1941. Прогон скота через город из прифронтовых районов. Фото В. Федосеева
1 МАЯ 1942. Проспект 25-го Октября (Невский пр.). Фото В. Федосеева
12
На другой день после того, как получил дневную дозу хлеба, я тронулся в путь, унося свои продовольственные карточки, по которым, кроме 300 граммов хлеба в день, ничего не выдавали, но без сдачи которых меня бы в больнице не приняли. Хлеб в те дни был больше похож на оконную замазку или глину. Уж бог его знает, из чего его выпекали на хлебозаводах. Хвоя? Древесина? Жмыхи? Что еще?
Те же картины, что накануне, я увидел, когда отправился в больницу. Путь был длинным. Трамваи уже не ходили, несколько вагонов с раскрытыми дверьми стояли на занесенных снегом рельсах. Один был без стекол, видимо, вылетели от разрыва близко упавшего снаряда. Когда я шел по Арсенальной набережной, то увидел, что шедший метрах в пятидесяти впереди меня мужчина упал и остался неподвижен. А другой встречный остановился около упавшего, опустился на колени, стал расстегивать у лежавшего пуговицы на пальто и полез рукой за борт. Умиравший слабыми толчками отталкивал руки грабителя. Я ускорил шаги, но меня обогнал шедший вслед красноармеец. Он добежал первым и ударом сапога повалил на снег не успевшего еще встать грабителя. Когда я проходил мимо, то оба лежали, слабо шевелясь. Мы с красноармейцем пошли дальше, и я слышал, как он негромко матерно ругается. Впрочем, по своему виду он не сильно отличался от тех, над кем только что стоял. Помню лицо, смотревшее из-под зимней шапки с опущенными ушами, которое походило на серую вату, и фиолетовые губы, плохо закрывавшие оскал зубов. И все же он шел быстрее и обогнал меня. Когда шагов через двадцать я оглянулся, то увидел, что побитый солдатом опять навалился на умиравшего и роется в его карманах. Ну и что же, думал я. Все равно ведь кто-то вынет эти продуктовые карточки – этот ли, другой, какая разница… И я подумал, что и я бы мог ими воспользоваться – тогда я мог бы отправить свои обратно в Эрмитаж, а сдать в больницу эти… Но разве я дойду до Эрмитажа опять? А мне надо сегодня если не поесть, то хотя бы зачислиться на довольствие в больницу…
Пусть не лгут те, кто прожил в Ленинграде блокадную зиму, что не думали о карточках людей, умиравших на их глазах.
Передвигаясь, как автомат, и опираясь на трость, я дошел-таки до Мечниковской больницы, разыскал Александра Ивановича Ракова и был водворен им в палату-бокс на двоих, где поставили для меня третью койку. Оба соседа лежали тут уже давно. Они относились к числу немногих онкологических больных, оставленных здесь с осени. И оба оказались интересными и приятными в общении людьми.
С одной стороны моим соседом был ученый-лесовод, преподаватель Лесотехнической академии, некий Иван Иванович, фамилия которого, к сожалению, не сохранилась в моей памяти. Второй, имя которого я много раз слышал и встречал в газетах, был профессор теории связи Николай Алексеевич Рынин. Рынин лежал в толстом пижамном костюме и шлеме, охватывавшем голову до низа лица.
НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ РЫНИН (1877–1942), выдающийся ученый и практик в весьма различных областях. В круг научных интересов Н. А. Рынина входили: начертательная геометрия (многократные издания и переиздания с 1904 по 1939 год), строительная механика, аэродинамика, воздухоплавание, авиация, ракетостроение, космонавтика, организация воздушных сообщений, история науки.
Практическая деятельность Н. А. Рынина так же чрезвычайно разнопланова: он участвовал в работах по переустройству Николаевского (Московского) вокзала, в создании Всероссийского аэроклуба, в выпуске первого номера журнала «Аэромобиль». Рыниным осуществлено множество полетов на воздушных шарах (в том числе рекордный подъем на высоту 6400 м над Финляндией), дирижаблях и первых аэропланах. Н. А. Рынину были выданы удостоверения: на право управления воздушным шаром – № 3, на право управления аэропланом – № 24, на право управления дирижаблем – № 1. В 1920 году Н. А. Рынин организовал в Институте инженеров путей сообщения факультет воздушных сообщений.
Еще до революции Н. А. Рынин в течение полутора десятков лет объездил с целью изучения зарубежного опыта, кажется, чуть не все страны, известные своими техническими достижениями, – во Франции и Германии изучал воздухоплавание, в США – проектирование мостов, в Англии знакомился с аэродинамическими лабораториями, в Голландии и Бельгии читал доклады по теме «Давление ветра на здания»…
У лесовода голова была обмотана полотенцем. В палате было холодно – батареи чуть теплые, так что я все время пребывания тут не снимал меховой шапки. Александр Иванович как лечащий их врач представил меня им, как тяжелого дистрофика и как своего друга, что сразу сделало наши отношения дружескими и доверительными. Оба стали меня расспрашивать, что делается в городе, какие вести с фронта, правда ли, что через Ладогу везут много продовольствия и что вот-вот начнут прибавлять карточные пайки? Потом лесовод сказал мне, что сильный голод – одно из средств борьбы со злокачественными опухолями и даже вылечивает рак желудка. Я запомнил эти слова – в них звучала надежда на спасение при помощи средства, которое остальным несет всеобщее бедствие. Такой ход мысли показался мне чудовищным, но обстановка слишком не подходила для морализации, и я сказал, что слышал от своего отца-врача, что рак желудка иногда вылечивался в тюрьмах, где сидели на скудном пайке. Я солгал. Отец говорил мне, что рак только замедляет в таких условиях свое разрушительное действие… Потом Рынин, когда мы остались одни, сказал, что оценил мои попытки успокоить соседа. Что было нам делать?
Эти декабрьские дни были самые короткие, а свет давали такой слабый, что читать было совсем невозможно. Лежи и жди – сколько осталось до еды. Или, может быть, до смерти. В первые же дни я заметил, что Рынин что-то шепчет, отбивая такт рукой под одеялом. На мои вопросы он сказал, что это вроде гимнастики мозга, и он учит наизусть «Конька-Горбунка» Ершова, который ему всегда очень нравился. Каждый день он выучивает тридцать строк и декламирует себе все, что выучил до сих пор. А выучил уже около трехсот строк и может мне их прочесть, а то другому соседу – его звали Иваном Ивановичем – уже надоело его слушать. Я с детства люблю «Конька-Горбунка» и с удовольствием прослушал чтение Рынина, хотя образ чтеца не очень связывался с подобной книжкой.
Старая Русса, 1910-е годы
Н. А. Рынин, 1910-е годы
Н. А. Рынин, конец 1930-х годов
Н. А. Рынин был не только знаком, но находился в многолетних – научных и дружеских – контактах с такими людьми, как С. А. Чаплыгин, С. К. Джевецкий, В. П. Ветчинкин, И. И. Сикорский, Р. Амундсен, У. Нобиле… Можно сказать, что по роду своей деятельности и уровню своих научных работ Н. А. Рынин был, несомненно, одним из главных связующих звеньев между той генерацией ученых, которая может быть представлена именами Н. Е. Жуковского и К. Э. Циолковского (с которым контактировал более двадцати лет), и теми, кто уже непосредственно участвовал в практическом запуске первых спутников.
Перу Николая Алексеевича Рынина принадлежат более двухсот пятидесяти печатных работ совершенно, повторяем, необъятного научного диапазона.
Владислав Михайлович пишет, что Рынин лежал в морозной палате Мечниковки в шлеме, охватывающем всю его голову… Деталь почти символическая: возможно, если не сказать – наверняка, это был тот самый шлем, в котором его владелец осуществлял свои полеты, каждый из которых мог стать последним… А «Конек-Горбунок» – это ведь такое произведение, которое можно воспринимать и как сказку, и как протокол о намерении создать совершеннейший из летательных аппаратов…
Потом, уже перед сном, мы уговорились, что будем по вечерам по очереди что-нибудь рассказывать по своей специальности, если Иван Иванович вытерпит наш «общеобразовательный семинар». Оба мои соседа располагали большим опытом лекционной работы, говорили гладко, понятно и толково отвечали на вопросы слушателей после лекций. А мне не свойственна такая манера рассказа, когда заранее очень и очень обдумывают, что будут говорить, приготовляются по конспекту с часами, весь материал расставляют в должной последовательности. Конечно, я теперь не помню их лекции на чуждые для меня темы, но из их рассказов я впервые услышал о ракетах межпланетного сообщения, созданных воображением Циолковского, а точнее, пополнил свои скудные представления об устройстве различных типов летательных аппаратов, их скорости и предельной высоте полета. Словом, для профессора, который привык читать лекционный курс, исходя из нулевого знания среднего слушателя в аудитории, я вполне как слушатель подходил.
Иван же Иванович с каким-то, я бы сказал, возбужденным увлечением рассказывал о лесе, о защите его от вредителей, о болезнях разных типов деревьев, о вреде деревьям от внедрения человека в их жизнь, начиная от хищнического сбора березового сока до того, как влияет на растения автотранспортный выхлоп, промышленные дымы, газы, прокладка трубопроводов. И в качестве дополнения рассказал, как погибает лес от артобстрелов и рытья окопов. Иван Иванович воевал пехотинцем в 1914–17 годах, долго сидел где-то в Мазурских болотах и утверждал, что и такой, казалось бы, насмерть израненный лес, где избиты стволы, кроны и корни, все же оживает, если только дать ему покой на несколько лет.
А я рассказывал о крепостных артистах XVIII–XIX веков, о шереметевском оперном театре, о романе графа Шереметева с его крепостной Жемчуговой, о ее смирении и доброй бестолковости, об Аракчеевском имении Грузино… Ах, как пришлась к месту идея Николая Алексеевича Рынина об этих ежедневных рассказах! Ведь с каждым днем нам было все труднее жить – температура падала, свет мигал и часто вовсе гас, еда становилась все скуднее. Иногда после вечернего обхода военных палат и прослушивания вечерних новостей, к нам заходил Александр Иванович Раков, подсаживался на одну из коек и с полчаса слушал наши рассказы. Однажды он принес с собой и поставил в угол палаты двуручную пилу. Оказалось, что с ходячими ранеными был в парке, где пилил сосны, а потом надо было тащить дрова к госпиталю. Он рассказал, что в дополнение к почти негреющим батареям и установке буржуек с трубами, выходящими в окна, в некоторых палатах раненые настроили себе кирпичные печки. Но для своих самых тяжелых больных ему приходится промышлять дрова самому.
13
А в нашей палате, где печки не было, становилось все холоднее. Как объяснил Александр Иванович, в кочегарке больницы один за другим слабели и умирали у топок кочегары. Из шести или восьми «штатных единиц» к концу декабря едва работали двое, которых, очевидно, ждала та же участь… Кажется, в это время в соседнюю с нашей палату привезли обессилевших студентов 4–5 курсов Санитарно-гигиенического института, учившихся на базе Мечниковской больницы. Первые два курса были отправлены сразу же, как началась война, санинструкторами в войска, а старшекурсников оставили, чтобы доучить, и, теперь, недоученные и неэвакуированные, дошедшие до дистрофии, они умирали один за другим. Их товарищи, которые их привозили, чтобы через неделю или через два дня за ними последовать – сначала на койку в эту страшную палату, а затем в мертвецкую, – эти самые товарищи говорили, что покойники лежат в мертвецкой уже в несколько слоев.
Иногда после привоза новой партии обреченных мы слышали возню в полумраке холодной соседней палаты. Эти шорохи сопровождали почти каждый новый привоз. Причину этих звуков я узнал позже. Привезя полуживого товарища и уложив его, заботливый на первый взгляд сопровождающий, уходя, чистил карманы своей ноши – и уносил с собой бумажник, перочинный нож, авторучку или еще какую-нибудь мелкую собственность уже безропотного смертника…
Через несколько дней моего пребывания в палате отопление начисто прекратилось. Пар от нашего дыхания поднимался над койками, как на улице. В палату беспощадно входил мороз. Мы лежали в шапках и пальто, укрываясь несколькими одеялами и только, благодаря настойчивости Рынина, неустанно твердившего своего «конька», кое-как продолжали по вечерам свои беседы. Спасибо Николаю Алексеевичу. Он не позволил себе поддаться апатии и заставил не поддаваться ей и нас. А так тянуло отключиться от всего вокруг. Эта тяга к покою была роковой и по своему разрушающему действию еще сильнее разрушавшего нас голода. Мы не говорили об этом, но смерть все ближе подбиралась к нам.
В соседних палатах становилось все меньше занятых коек. Одни умирали, другим, меньшему числу, все-таки удавалось вставать и уходить в город к родным в надежде там как-то вытянуть или хоть умереть возле своих. А здесь, в больнице, уже не было ни тепла, ни горячей пищи, ради которой стоило оставаться на этой заваленной снегом окраине Ленинграда. В эти дни Николай Алексеевич Рынин послал через пришедшую к нему женщину (по говору старую домработницу) три письма в Институт путей сообщения с просьбой эвакуировать его в тыл. Писал он долго, поминутно отогревая руки под мышками, чтобы слова были разборчивыми, и потом просил меня прочесть для страховки, чтобы все было понятно. Из заявления я узнал, что Рынину было присвоено воинское звание не то дивизионного, не то даже трехзвездного генерала. Он предлагал свои услуги военно-авиационному учебному заведению, если институт не может его использовать по специальности. Судьба этих обращений мне неизвестна. Но Александр Иванович Раков впоследствии говорил мне, что научное имя Рынина было столь значительно, что по специальному приказу он был вывезен весной в Казань, где, однако, умер уже летом.
Собирался уходить из больницы и лесовод Иван Иванович, но его квартира находилась где-то в конце проспекта Сталина (Московский пр.), близ прифронтовой полосы, дом был частично занят какой-то военной частью, и он не был уверен, не попадет ли «из огня да в полымя» настильных артиллерийских обстрелов.
Думал и я, не возвратиться ли в бомбоубежище Эрмитажа. Все-таки там еще было тепло, и горел свет, что подтверждала как-то добравшаяся до Мечниковской больницы Ольга Филипповна, которая все не могла получить какие-то бумаги о своей службе в Онкологическом институте. Она зашла ко мне и перечислила целый список умерших научных сотрудников Эрмитажа и Русского музея: А. Н. Кубе, А. А. Ильин, А. Н. Зограф, С. А. Розанов и так далее… Ольга Филипповна горько сетовала, что в августе не ушла из Онкологического института и не эвакуировалась куда угодно в тыл вместе с Марианной Евгеньевной и маленькой Лялей. Она сказала мне, что я за эти дни постарел, а я глядел на нее – выглядела она сморщенной старушкой и плакала, дав себе волю, с содроганием смотря на меня и моих соседей. А я думал – зачем я сейчас вернусь в эрмитажное убежище? Только буду объедать своих, которые, конечно, будут подсовывать мне свои крохи еды, отрывая их от себя… С этим вопросом я обратился к зашедшему за Ольгой Филипповной Александру Ивановичу Ракову.
– Подождите несколько дней, – сказал он. – Может, мне удастся несколько улучшить ваше существование. А нет, так и отпустим к своим…
Но что он мог сделать? Перевести в другую больницу, где все же топят и чуть лучше кормят?
Так безнадежно, более того, с чувством неотвратимо приближающейся смерти пришел новый 1942 год. Мне в этот вечер, проведенный, как и все предыдущие, запомнилась реплика Н. А. Рынина, сказанная по поводу того, что нас ждет:
– А видите, немцам не удалось с ходу взять Ленинград и Москву. Блицкриг, на который они рассчитывали, не получился. Время и пространство работают на нас, как работали в 1812 и в 1709 годах.
Я помню, что это было сказано то ли в ночь на 1 января, то ли вечером 1-го, так как Рынин пытался подводить итоги прошедшего года. Подсознательно в то время все размышления о войне тяготели к мыслям о судьбе России. Но все объективные стороны отступали на задний план перед мучительным ощущением голода и не менее губительным чувством бездействия. Голодные годы в жизни моего поколения случались нередко, но голод никогда не достигал такой катастрофической степени, и люди могли работать, искать выхода и на что-то надеяться. А тут все сходилось на том, что жизнь оканчивается, и в этом мире голода гибнут все мечты, все планы, и все чувства потухнут, как свечки от дуновения сквозняка. Почему-то этот образ меня преследовал. Как-то видел я в старом соборе, как две стоявшие передо мной женщины поставили перед блеклой иконой две тонкие горящие свечки. Но случилось это в конце обедни, и через какие-то пять минут подошел псаломщик, он, кажется, был нетрезвый – и задавил огоньки обеих свечек, сломал их и сунул в какую-то лоханку, где уже лежали другие, такие же недогоревшие. Мама тоже это заметила и сказала, что все эти свечи снова пойдут на «переплавку» и опять из них наделают свечей. Но мне было жалко именно тех свечек, которые с такой грустью поставили две женские руки. Я думал о том, что теперь неминуемо погибнем все мы – Марианна Евгеньевна с Лялей, и Ольга Филипповна, и я, а там где-то в Кологриве, может, уже умерли от голода, болезней и бед мама, Кэт и ее дети. А если мама еще жива, то как она тревожится за нас, узнав о кольце окружения Ленинграда, и как она переживет нашу гибель? Но жива ли она? И тут мои мысли от Кологрива невольно улетали в Старую Руссу. Я знал, что там шли долгие бои, а город горел еще тогда, когда из него уходили наши… Что же от города осталось сейчас?
И мысли снова возвращались сюда, в Ленинград. Почему, почему я месяц назад отказался эвакуироваться с Театром комедии?! Как я мог оставить здесь Марианну Евгеньевну и Лялю, вместо того чтобы увезти их на юг, к теплу и хлебу? Надо, надо было упросить Николая Павловича Акимова взять и Ольгу Филипповну… Билетершей, костюмером, да кем угодно, но надо было ее пристроить, потому что оставить ее все равно было невозможно… А я бы мог превратиться в актера на выходах или что-нибудь написал бы… Нет, видно, нам суждено на роду умереть здесь…
Вот такие или примерно такие мысли мучили меня в новогоднюю ночь 1942 года на койке в промерзшей палате Мечниковской больницы.
14
И вдруг именно в эти дни мерзлой январской мглы пришла помощь друга. Утром 5 января заглянувший к нам в палату Александр Иванович попросил меня встать с койки, выйти в коридор и спросил, возьмусь ли я ежедневно или хотя бы через день читать лекции раненым бойцам и командирам, если за это меня переведут в эвакогоспиталь и поставят на военный паек? Военный паек отличался от того, который получал я, тем, что на военном не умирали. Но только я никогда не читал лекций.
– Вот и попробуете, – сказал Александр Иванович. – Вот так, как нам вы здесь рассказывали… О крепостном праве, о войне 1812 года, о Бородине. О Денисе Давыдове, про его подвиги…
Я усомнился в том, что мое изложение подойдет для красноармейцев.
– Так упростите, – сказал он. – Жить хотите?
Он не добавил, что раз речь идет о моей жизни, так, следовательно, и о жизни моей семьи.
– Не понимаю ваших сомнений, – сказал Александр Иванович. – Я неделю обрабатывал комиссара госпиталя, чтобы добиться для вас такой возможности. Он меня понял, постарайтесь понять и вы. Речь не только о том, чтобы дать вам выжить, а о том, как вы можете нам помочь. Люди там лежат в темноте, свет только от печки. Разговоры друг с другом только про свои беды или похабщина… Надо отвлечь их чем-то, но никакого кино нам сейчас не организовать. Ну, что? Беретесь? Долго мне вас уговаривать?
Так, благодаря заботам и хлопотам Александра Ивановича, я на другое утро простился с двумя добрыми своими соседями и, пройдя дворами между наваленными повсюду кучами дров, вошел в тот больничный корпус, где разместился один из военных госпиталей.
Палата, в которой мне предстояло провести следующие полтора месяца, была очень большой, и посредине ее стояла также большая, видимо, только что сложенная кирпичная печка с чугунной плитой без конфорок. На середине плиты стояло несколько чайников, а по самому краю кружки. Александр Иванович привел меня в палату сам, водворил на койку, представил как своего друга и будто бы известного литератора политруку тов. Орлову и ушел. Рука политрука висела на повязке. Палаты в то время были еще общие для командиров и красноармейцев.
На переход из корпуса в корпус я, видимо, истратил все силы и прислушался к говору раненых, уже лежа. А говорили почти все о новом устройстве своей палаты, и можно было понять, что несколько дней только этим все и заняты, и главный человек тут, вплоть до доставки кирпича для печки, доктор Раков. Ах, и любили же за то его все его пациенты! И мне во время пребывания в этой палате досталась часть этой любви и уважения. А я там оттаял. Уже то, что мог снять пальто и шапку и умыть лицо и руки теплой водой с мылом, – уже это было блаженством. А потом засел за конспект первой лекции – о Северной войне. Выбрал эту тему потому, что в свое время много читал о ней и хорошо помнил не только главные этапы, но и описания многих эпизодов этой войны. А некоторые аналогии с нынешней войной были очевидны – неудачи под Нарвой и победы при Полтаве и Гангуте. Читал я около двух часов, сидя сбочку непрерывно топящейся печки, окруженный обсевшими ее со всех сторон бойцами и командирами. Дым от самокруток и папирос тянулся в печку, и только подкидывание дров иногда прерывало мой рассказ. Несколько лежачих раненых повернулись ко мне лицами, и я, рассказывая, старался сесть так, чтобы эти лица все время видеть. Слушали образцово и после окончания дружно хлопали. Потом товарищ Орлов сказал несколько слов обычных для его должности в подобных случаях. Во-первых, что с Гитлером будет, как с королем Карлом, во-вторых, что товарищи, присутствующие на лекции, благодарят за нее, а в-третьих, что товарищи интересуются, когда будет следующая лекция и о чем. Затем попросил слово некий боец на костыле и сказал, что все было понятно и, главное, он теперь знает, насколько иными были тогда пушки и ружья, как их заряжали и сколько они весили. До нынешнего дня он хоть и слышал о Полтаве, хотя бы у Пушкина, но по части тогдашней высадки десанта узнал только сегодня. Так чтобы и впредь лектор про такое не забывал рассказывать.
Засыпая в этот вечер, я был почти счастлив. Состояние пассивного ожидания конца сменилось ощущениями совершенно иными. Я снова был кому-то нужен, больше того – на полтора часа мне удалось отвлечь их от своих страданий и треволнений за близких. Я не мог дать им больше, и каждому из них еще предстояло сделать многое для счастливого исхода войны, и, конечно, не всем предстояло до него дожить, да и сам я лишь приостановился у рокового порога… Надолго ли? Снова заскребло на сердце – но я верил, что в Эрмитажном убежище тепло и светло – хоть это было там еще по сравнению с той ледяной палатой, откуда я чудом вырвался…
А сейчас, раздетый почти до белья, я засыпал и сквозь сон слышал, как кто-то подкидывает в печку очередную порцию дров.
На другой день Александр Иванович отвел меня в сторону и сказал, что слушатели очень довольны и его благодарили. А к следующей лекции я был подготовлен еще лучше – недаром написал повесть про 1812 год. Говорил я с увлечением, и после этой лекции и по собственному ощущению и по вопросам слушателей понял, что продолжение просто необходимо – надо было довести рассказ до взятия русскими войсками Парижа. К началу третьей лекции палата была полна, на койках сидело по нескольку человек. Рассказ о военных действиях я постарался дополнить картинами победных торжеств – сценой капитуляции, торжественного въезда в центр Парижа и так далее. После лекции ко мне подошел командир в ватной телогрейке, представился Збронским и сказал, что прослушал все три лекции, а теперь рад со мной познакомиться и считает, что доктор Раков склонил его на хорошее дело – и он не жалеет, что дал согласие на эти лекции. Заметил ли я, что на последней было более семидесяти человек – ходят послушать даже из других палат. Кто был этот Збронский, я так и не узнал, может быть, комиссар всех трех госпиталей, размещенных в Мечниковке, или главврач.
15
Соседом, с которым нас разделяла общая тумбочка, был молодой кадровый военфельдшер Алексей Иванович (у этого соседа была какая-то сербская фамилия), тяжело раненный в обе ноги под Лугой. Он явно поправлялся, тем более что получал добавочный подкорм от своей жены. Она выменивала продукты, как говорила, где-то на углу Обводного канала и Лиговки и хоть раз в неделю приносила ему то сухари, то пряники, то сушки. Сосед был очень любознателен и интересовался вопросами истории России, а я, как мог, отвечал, за что, видимо, Алексей Иванович и угощал меня дарами супруги. Вопросы были хоть и по истории, но на тему дня, например, была ли еще где-то блокада, подобная той, как наша?
Но из многих повестей о жизни, услышанных за полтора месяца в этой палате от раненых, мне особенно врезался в память рассказ моего второго соседа, койка которого была впритык к моей. Фамилия его была Малышев – имени и отчества его не помню. Сравнительно легко раненный в ногу в конце ноября под Пулковом, он плохо поправлялся, потому что был очень истощен – тогда и на передке в окопах паек был скуден донельзя. А в госпитале Малышеву, как он говорил, «прокинулся» еще и голодный понос. Посадить его на диету Раков не мог – какая тогда могла быть диета? И Малышев выдерживал характер – голодать надо было по три-четыре дня на одном каком-то белом порошке, который пациент называл «мукой». У Малышева долго хватало воли это выдерживать – во всяком случае, все то время, как я лежал в этой палате. Днем он часто дремал, а ночью маялся от голода или от поноса и охотно шепотком рассказывал мне под храп соседей о своей жизни, которая не во всем была обыкновенной.
Родился и вырос Малышев в деревне Пулково, обыватели которой лет двести не имели запашек, а только сады и огороды и поставляли для Петербурга овощи, яйца, плоды и цветы. Этим с детства был занят и Малышев. Причем занят не только по необходимости, но и по призванию. О садоводстве и огородничестве он говорил, как поэт. В его рассуждениях оживали и яблоки разных сроков созревания, сладких или кислых, различных сроков хранения; и клубника, разложенная в корзиночках на листьях на продажу; и испанские вишни, самые лучшие ягоды которых любят склевывать воробьи… Истово, с увлечением искусствоведа он повествовал мне об обмазке стволов яблонь известью, говорил, что даже до сего дня они удобренные, а именно от этого плоды, выращенные им, приобретают основные свои качества. В его рассказе придорожное пыльное Пулково сверкало блестками гордости и любви, и слышалась тоска по утраченному раю. Ведь он видел, как оно горело, и как от домов оставались одни трубы, а потом рушились и они, и как артиллерия косила плодовые деревья. Но главное в рассказах Малышева заключалось в его повествовании о скитаниях по свету в течение восьми лет. В 1915 году его из запасной артбригады, квартировавшей в Луге, назначили к отправке во Францию, в корпус особого назначения8. Он проделал путь по суше, который шел через наш Дальний Восток, а потом по морям и океанам под конвоем французских кораблей. Он рассказывал о морозах в Сибири, жаре, которую несет ветер из Сахары, о высадке в Марселе, об отправке вместо Вердена в Македонию… Там встретила русская дивизия весть о перевороте 1917 года. После октября отказались воевать. Радио у них не было, а все-таки всё узнавали, хотя французы и скрывали от них, что могли. После тщетных попыток уговорить сражаться и угроз всех расстрелять французы распустили дивизию, выдав всем какие-то документы и скудные деньги на дорогу. Дальше каждый существовал, как мог. Малышев с приятелем, тоже родом из Пулкова, перебрался в какой-то городок в северной Африке, где нанялся работать на ферме у некоего господина Жуля смотрителем сада и огорода. Здесь он увидел такие плоды и растения, «которых и в Божьем саду нету». В 1920 году, когда приятель, заработав наконец на дорогу из Африки, решил податься на родину, Малышев не поехал с ним, а застрял работником на ферме, потому что влюбился насмерть в дочку этого самого Жуля. Два года они крутили любовь, пока Мадлен не сказала: «Либо женись, либо проваливай в свою Россию». А тут Малышев получил письмо от отца, звавшего на родину, в Петроград. Писал о хороших ценах на все, что можно вырастить на огороде. Был 1924-й год, нэп. Читал, перечитывал отцовы строки, затосковал по родным и по Пулкову. А тут случилась размолвка с Мадлен, которая стала торопить с женитьбой. Грозилась связаться с каким-то прежним своим ухажером, раз Малышев так тянет. Поссорились очень крепко, и он сгоряча взял расчет и уехал. Добирался до России чуть не полгода. Ехал и тосковал по Мадлен – хоть назад возвращайся. Тосковал и по винограднику, который уже считал было своим, и по доброму старику Жулю, и по соседям, которые к нему привыкли и которых он полюбил. А как вернуться? Может, она уже с тем со зла загуляла? Нет уж! Приехал в Пулково, погряз в хозяйстве, женился через два года на соседской дочке, которую помнил девочкой. Спустя время, родились две дочки. А Мадлен долго не мог забыть, нет-нет да и засосет под ложечкой, как от болезни, и встанет она в глазах в красном платочке, как на фотографии. В кино однажды увидел похожую барышню, так каждый день потом ходил, пока показывали этот фильм, а потом ночи не спал, а если засыпал – снилась. И думал – зачем, зачем уехал от своего счастья, дурак? И особенно винил себя, когда в 1930 году все обширные участки у огородников отобрали, превратив старожилов-огородников в дачников. Им оставили при домах лишь небольшие участки, чтобы только на себя выращивали. А что это за дело для настоящего огородника? Отец с матерью скоро померли от огорчения. Поступил на «Треугольник» кузнецом. И стал мотаться между городом и своим Пулковом.
Лекция для раненых в госпитале
А когда началась война, то Малышева, ушедшего добровольцем, послали с частью на Карельский перешеек. Потом перебросили под Ленинград, и он побывал в Пулкове, но никого из своих там уже не нашел. И где теперь его жена, где девочки – неизвестно… Солдатское дело – не своя воля… Писал куда-то, пытался узнать, куда эвакуировали, но ответа не получил – блокада.
– А теперь забыли Мадлен? – спросил я.
– Куда там, Михалыч… Как новую войну начали, я все думаю о том, что мы с Францией опять вместе и, может, мы им опять будем помогать… Вы не знаете (он назвал округ в северной Африке) – его заняли немцы?
Этого я не знал. Признаюсь, не знаю и теперь…
Сколько раз через десятки лет вспоминали мы с Александром Ивановичем Раковым тогдашних раненых: Николая Алексеевича Рынина, лесовода, серьезного огородника Малышева, политрука Орлова, выпускавшего стенгазеты на плохой оберточной бумаге. У Александра Ивановича была удивительная память на пациентов, и, будучи врачом по призванию, он помнил все, касавшееся медицинских аспектов каждого из этих людей.
Полтора месяца этой палаты были для меня памятны еще и тем, что за это время в ней никто не умер. Тяжело приходилось двум раненым в легкие, когда ветер задувал в палату дым. Они кашляли и проклинали тех, кто неумело сложил печку. Но на мой вопрос, насколько им вреден этот дым, Александр Иванович ответил, что мороз и даже просто холод для них был бы несравненно вредней. Не говоря уже о том, что их было двое, а остальных – тех, что поправлялись в большой мере благодаря теплу, тридцать восемь.
Полтора месяца – 40 дней – 20 бесед вечерами у печки… О чем же я говорил, кроме военной истории? Очень пригодились мне, если говорить об умении построить лекцию, недавние уроки профессора Рынина и лесовода Ивана Ивановича, да и их рассказы также. Вечерами я мысленно строил сюжет, располагая среди общего повествования казавшиеся мне особенно яркими и убедительными детали. Снова пошли в ход уже «прокатанные» мной в «профессорской» холодной палате рассказы о грозном царствовании Ивана IV, о дворцовых переворотах XVIII века, о несчастном Иоанне Антоновиче и поручике Мировиче, об аракчеевщине и о Грузине с его страшной судьбой, связанной с убийством Настасьи Минкиной…
Не смогу умолчать, что через несколько дней – меня уже не было в палате – умер так долго державшийся Малышев. При мне, помню, он сразу отдавал обслуживающей няньке весь свой паек «чтобы не соблазняться», а тут, видимо, не сумев выдержать диету на своей «муке», – съел полный обед в День Красной армии – и, кажется, в ту же ночь кончился.
16
14 февраля я получил от Марианны Евгеньевны записку о том, что в бомбоубежище Эрмитажа отключили тепло и свет и надо оттуда перебираться на Басков переулок. Перетаскивать пожитки и оборудовать нашу маленькую комнату под жилье женщинам было не под силу. Мне надо было возвращаться. Очень сердечно простился я с новыми друзьями, и они подарили мне на память номер стенгазеты с заметкой о моих беседах. Номер этот я храню вот уже 36 лет как дорогой памятный предмет, напоминающий о людях, большинство из которых снова ушло на фронт. До победы дожили, вероятно, лишь немногие.
Еще раз скажу, что, если бы не покойный мой друг Александр Иванович Раков, не будь этой печки и военного пайка, я наверняка бы не пережил эту зиму. С кусками и кусочками хлеба, которые подарили мне новые друзья и которые я не стеснялся брать, так как шел к тем, кто жил на карточки иждивенцев, я бодро прошел дорогу до Эрмитажа. Падавших на улицах ни разу не увидел, но несколько трупов в одеялах и простынях провезли мимо меня на санях и детских саночках, как узнал позже, в направлении открытого городскими властями морга. Шел и гадал, кого еще недосчитаюсь из близких. Едва поспев поцеловать, казалось, предельно похудевших и плохо видимых мне в полутьме освещенных коптилкой Марианну Евгеньевну и дочку, как я задал этот вопрос. И услышал имя самого близкого друга, моего товарища по университету – Михаила Александровича Шпакова. И буквально не поспел еще духу перевести от этой вести, как подошла опухшая от слез жена Крутикова Лидия Сергеевна Пискунова. Мы обнялись, и она сказала, глотая рыдания:
– Некого об этом просить… Если еще можете, то помогите вынести в гараж тело Миши. Он умер сегодня…
Так через минуту после прихода я уже нес носилки, на которых передо мной лежало тело Михаила Захаровича. Этот хоть умер неожиданно. В это утро встал, побрился, оделся, как всегда очень тщательно – чистый воротничок, галстук, брюки со складкой, даже коричневые гетры в цвет костюма на чищеных ботинках. И вдруг прилег на топчан и без стона, без слова кончился. Смерть приходила тогда во всех видах – и в долгих муках голода, и вот так – разом, от остановки сердца. Накануне Михаил Захарович увязывал бечевкой сделанную в Эрмитажной мастерской железную печку-буржуйку, укладывал чемоданы и портпледы – собирался в тот же день, что и мы, перебираться на свою квартиру. Может быть, от этого труда и надорвался. Когда мы несли его тело, то из одного полутемного угла убежища услышали рыдания. Потом узнали, что только что скончалась мать нашей сотрудницы – Тани Эристовой…
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА ЭРИСТОВА (1905 – после 1980-го), сотрудник Эрмитажа, близкий друг Владислава Михайловича и Марианны Евгеньевны Глинок. В служебной анкете Т. Н. Эристовой, хранящейся в архиве Эрмитажа, мать Татьяны Николаевны – Анна Доримедонтовна Чижова обозначена, как домохозяйка. В точном значении этого слова запись верна, Анна Доримедонтовна действительно была хозяйкой, владелицей дома, при этом одного из лучших домов на самой аристократической улице Петербурга – Сергиевской (теперь ул. Чайковского, 40).
Отцом Т. Н. был НИКОЛАЙ КЛАВДИЕВИЧ ЧИЖОВ (1865–1935), архитектор, профессор Института гражданских инженеров, автор первого проекта канализации Петербурга (1916) и председатель Комиссии по канализации и водоснабжению Петербурга. Архитектором был и дед (отец матери) Татьяны Николаевны – Доримедонт Доримедонтович Соколов (1837–1896), профессор архитектуры, директор Института гражданских инженеров, который построил множество зданий в Петербурге, Москве и в провинции.
В гимназию на Греческий проспект Таню возили на пони. Когда Танина мать в бомбоубежище Эрмитажа стала пухнуть от голода, она вспоминала, на каких приемах бывала в молодости. Перед смертью (февраль 1942 года) Анна Доримедонтовна потеряла рассудок и, забыв русский язык, говорила по-итальянски. Понимал ее лишь кто-то из Отдела западной живописи, случайно оказавшийся рядом.
Мужем Татьяны Николаевны был ВИССАРИОН САРДИОНОВИЧ ЭРИСТОВ (1905–1976), профессор Московского инженерно-строительного института, заслуженный строитель РСФСР, один из ведущихстроителей Туркменского канала и других «строек коммунизма», дважды лауреат Сталинской премии, депутат Верховного Совета и пр. и пр. Овдовев (Москва, 1976 год), Татьяна Николаевна в письме к Владиславу Михайловичу писала, что институт, профессором которого был ее муж, пытается добиться, чтобы пенсию ее увеличили с 51 рубля до 60.
В конце жизни Татьяна Николаевна передвигалась по квартире, переставляя перед собой стул, на спинку которого опиралась – коленный сустав ноги был неподвижен. Последние письма Татьяны Николаевны в Ленинград полны беспокойства за престарелую родственницу, оставшуюся жить в коммуналке в бывшем чижовском доме на Чайковской, 40. Та, судя по всему – болезни, старость, коммуналка, безденежье, хищные, подстерегающие оказию на захват ее комнаты соседи, – была в положении не лучшем.
С тех пор прошло тридцать лет. Судя по меняющимся вывескам, неутихающая борьба теперь идет за первый этаж этого замечательного дома.
Т. Н. Эристова
Ул. Чайковского, дом 40
Поставили тело Миши, простились с ним и вышли из гаража, где в ряд стояли два десятка таких же носилок. Лидия Сергеевна, плача, перечислила мне умерших товарищей из сотрудников ИБО: Пигореву, Юдину, Труханову, Понтошкину, Ростовцева. С одними я был более дружен, с другими – менее, но все мы дружно пережили те волнения за судьбу отдела, которые я описал в начале этих воспоминаний, все так радовались каждой удаче – и вновь треволнения и страдания за бессовестные оттяжки и волокиту. И вот наконец отдел приняли в Эрмитаж, это казалось началом нормального осмысленного существования… Но так только казалось.
– А Валентин Борисович жив? – спросил я о Хольцове.
– На той неделе был жив, но Нина Алексеевна с Алешей плохи… – ответила Лидия Сергеевна. – А моя мама и сестра Веры умерли на той неделе, их уже из морга увезли, теперь отвозят сразу…
Наши вещи были наконец уложены, железная печурка, сделанная едва живым эрмитажным кровельщиком за мои ботинки, – связана. В середине февраля мы тронулись на двух санках, одни из которых надо было привезти обратно.
Если я думаю об этом периоде жизни, то прежде всего вспоминаю так или иначе доходившие до нас известия о смертях друзей и близких. Несколько лет назад я рассказывал дочери и племяннику о моих соображениях, касающихся смертности в блокадном Ленинграде. А потом взял лист бумаги и стал дополнять имена тех, кого не мог сразу вспомнить. За полчаса без напряжения памяти я набрал 130 человек. А на другой день еще 80. Конечно, тут были не только интеллигенты. Моими приятелями были музейные сотрудники, но в мой список попали и реставраторы, столяры, маляры, экспозиционщики, переплетчики, швейцары, муляжисты, вахтеры, охранники – они тоже вошли сюда. И я уверен, что если бы попросил Марианну Евгеньевну называть тех, кого она помнит, то список бы еще удвоился, если не утроился. Но довольно и того, что снова и снова вспоминаю лица, слова этих дорогих и, как правило, очень разных людей.
Выйдя из госпиталя, я узнал, что в городе открыты так называемые «стационары» – род оздоровительных санаториев для больных дистрофией – тогда, едва ли не впервые, я услышал название этой всеобщей тогда болезни. Там щедро давали масло, мясо, икру, шоколад. И большой процент тех, кто туда поступал, умирали через два-три дня. Скоро, но отнюдь не сразу, как рассказал мне в 1943 году знакомый доктор-терапевт, устроители этих стационаров узнали, что людей, перенесших такой голод, надо держать на строгой диете, очень постепенно увеличивая дозу питательных веществ. В следующие годы ряд ученых теоретиков писали научные работы о дистрофии, приводя цифры умерших в стационарах. Я читал одну такую работу. В ней, между прочим, говорилось, что в стационарах было холодно, больных приносили туда завернутыми в одеялах и даже в пальто. А также, что там не было теплой воды для умывания, не говоря уже о душе. Облегчение же тела от одежды и от грязи помогло бы лечению. В гостинице «Астория» был устроен стационар для художников, архитекторов, композиторов. И сколько же их там умерло от грубого невежества тех, кто был поставлен во главу этого, казалось бы, нужного начинания! Список этих погибших тоже можно было бы приложить к уже упомянутому сборнику «Подвиг века». Почему-то там нет списка умерших от голода писателей, литературоведов. А почему нет музыкантов, музыковедов? Ведь это тоже строки мартиролога ленинградской творческой интеллигенции?
17
Среди вестей о кончинах друзей и знакомых меня особенно поразила весть, которую я услышал на другой день после нашего исхода из бомбоубежища, когда я привез обратно чужие санки. Мне рассказали о смерти Федора Федоровича Нотгафта и его жены Елены Георгиевны. Кончина обоих не была для меня неожиданной, оба были не молоды, не очень здоровы и очень мало приспособлены к тому, чтобы искать продовольствие необычными для них путями, но обстоятельства этой кончины представились мне даже для того времени особенно трагическими.
Его инициалы и фамилию я запомнил после большой посмертной выставки работ Б. М. Кустодиева в Русском музее. На ней был показан написанный маслом поколенный портрет дамы с этой фамилией, акварельный портрет самого Федора Федоровича в рост, в халате, держащим в руке одну из работ Кустодиева, и несколько пейзажей с надписями под ними «из собрания Ф. Ф. Нотгафта».
Меценат, коллекционер, решил я. Видимо, и сейчас живет в Ленинграде, раз выставлены предметы из его собрания.
Потом принадлежащая Нотгафту живопись и графика появлялась на выставках работ Рылова и Остроумовой-Лебедевой. И всегда это были превосходные по качеству и небольшие по размерам вещи.
Но познакомились мы только весной 1941 года, когда я стал научным сотрудником Эрмитажа, в котором Нотгафт заведовал издательским отделом. Неизменно элегантный, тщательно, но предельно скромно по цветам и покрою одетый, Федор Федорович располагал к себе спокойным выражением лица и ненавязчивой приветливостью, свойственной хорошо воспитанным людям. Разговорились же мы и несколько сблизились в сентябре, когда у меня начались суточные дежурства в противопожарной команде, а Федор Федорович работал на связи – в первом от Малого подъезда кабинете, опустевшем после мобилизации заместителя директора по научной части. Кроме того, он оставался вечерами в кабинете директора ответственным дежурным у телефона, готовый принять сигналы и распоряжения свыше и в любую минуту разбудить академика Орбели, спавшего поблизости на антресолях над коридором. Так как наши дежурства часто совпадали, то как-то после очередной тревоги, спускаясь с крыши, я встретил вышедшего в коридор Федора Федоровича, и он пригласил меня выпить с ним чаю. Вспомнив о портрете на выставке, я рассказал Федору Федоровичу, что летом 1922 года Б. М. Кустодиев лечился на курорте в Старой Руссе у моего отца. Рассказал и о том, как мы с приятелем возили его в кресле на колесах по набережной моей родной речки Перерытицы, где он рисовал вековые ивы бульвара и уходившие от него захолустные улочки, позже увиденные мной на литографиях, присланных в подарок отцу.
Тут раздался звонок – оповещали о новой воздушной тревоге. Мы должны были прервать чаепитие, но потом я спустился к нему, и мы в разговоре провели часа два. Собеседник он был интереснейший. Разговоры наши повторялись потом еще и еще. Вернее, впрочем, называть их расспросами. Я раньше слышал, что Ф. Ф. состоял единственным членом общества «Мир искусства», не будучи художником, но ведя его издательскую деятельность. И теперь я стал задавать Ф. Ф. вопросы о выставках «Мира искусства», о характере его членов, об их взаимоотношениях. Ф. Ф. отвечал охотно, умно, но корректно по отношению ко всем упоминаемым. Однако между строками можно было прочесть его симпатии, дружеские отношения, оценки деловых и душевных качеств. А однажды, уже в конце сентября, он пригласил меня в воскресенье – мы оба были свободны от наших дежурств – прийти к нему в гости в Кирпичный переулок (угол Малой Морской), чтобы посмотреть собрание принадлежащих ему картин. Можно и после работы, пока еще светло вечером.
– Приходите, – сказал Федор Федорович. – Посмотрите недурные работы.
Мы все еще вовсе не представляли себе, к чему идет Ленинград.
Я был приглашен к часу дня, и то воскресенье я вспоминаю, как последнее «медовое» воскресенье. Еще бы! Это был последний воскресный визит с нарядно поданным завтраком. Сначала мы смотрели картины, их было много – около сорока. Кажется, Федор Федорович с женой Еленой Георгиевной занимали три смежные комнаты по одну сторону коридора, но я-то был в двух (очевидно, кроме спальни). И все стены этих двух комнат были увешаны в два, а то и в три ряда первоклассными, но небольшими полотнами. Здесь были Бенуа, Лансере, Сомов, Бакст, Серебрякова, Кустодиев, Добужинский, Сапунов. По скромности Ф. Ф. тогда не сказал, что многие из этих работ были подарками друзей – художников, о чем впоследствии я узнал по подписям на оборотах. А кроме живописи было еще большое собрание рисунков. И каких! Взять хоть маленькую акварель А. Н. Бенуа – кусок парижской боковой улочки в солнечный день с фиакром, кучер которого явно дремал, разомлевши от ожидания… Скажу в скобках, что до революции Ф. Ф. был состоятельным человеком, много раз ездил в Европу в студенческие годы и взрослым уже человеком, отлично знал ее музеи. После неторопливого осмотра – тут грех было торопиться, я был приглашен к завтраку – какая-то запеченная в тесте рыба, сухое кавказское вино и кофе. Скатерть была слегка подкрахмалена, и столовое серебро отменное, но в стиле модерн, как и вся почти мебель. Когда мы сидели за столом, то без звонка, открыв дверь своим ключом, пришла сотрудник Русского музея Анастасия Сергеевна Боткина – оригинал одного из двух портретов работы Серебряковой, висевших тут же в столовой-гостиной, что я не сразу понял. Об этом сказал Федор Федорович, сообщив ей, что мне понравилось ее изображение в его коллекции. Анастасия Сергеевна разумно заметила, что позировала лет двадцать назад, что, мол, и видно по оригиналу. Но и в тот день она была еще очень хороша, хотя цвет лица и синева под глазами выдавали возраст. Я заметил, что дама умна, остроумна и не без язвительности. Рассказывая о делах Русского музея, она очень презрительно охарактеризовала поведение бедного Григория Михайловича Пригова при обстреле Михайловской площади.
Ф. Ф. Нотгафт среди своей коллекции. Худ. Б. М. Кустодиев
Е. Г. Нотгафт
Обложка каталога, изданного Эрмитажем, 1962 год
Р. И. Нотгафт. Портрет работы Б. М. Кустодиева
Позднее я узнал, что Ф. Ф. был женат трижды. Первый его брак с француженкой Рэне Ивановной был прерван ее отъездом в 1921 году во Францию, куда Ф. Ф. эмигрировать не захотел. Уехала она вместе с сыном Ф. Ф. Колей. Второй женой была Анастасия Сергеевна Боткина. Злые языки говорили, что Ф. Ф. не выдержал ее неровного и недоброго характера. Третья – Елена Георгиевна – сотрудница отдела рисунков Эрмитажа – гостеприимная хозяйка и отменная кулинарка – маленькая, тоненькая, худощавая дама, напоминала хрупкую птичку не только станом, но и манерами, и голоском.
Наши вечерние разговоры с Ф. Ф. происходили еще не раз, и на моих глазах он, как и все, худел и бледнел. Как умный человек, он раньше других понял нашу обреченность.
– Не догадался я в августе или сентябре передать в Эрмитаж картины из своей квартиры, а теперь и сил нет… – как-то сказал он.
– Боитесь бомбежки или обстрела? – спросил я.
– Нет. Это все-таки мало вероятно, но посмотрите на нас, эрмитажных, куда мы идем… – Он не сказал, куда мы идем, но то, что имел в виду, уже было явным. Я, конечно, сказал, что готов ему помогать, он поблагодарил, но больше к этой теме не возвращался.
Повторю, что манеру Ф. Ф. вести себя я бы определил, как высшее проявление благородной скромности. При взгляде на него вы сразу чувствовали, что это человек отменного воспитания – хорошее образование, привычка одеваться у хорошего портного, знание цены себе и другим, манеры. И все на нем – костюм, обувь, шарфы, белье – было очень чистых тонов. Серое, пепельное, белое, черное. Он держался свободно, но не развязно и независимо со всеми. Естественность и непринужденность были во всем его существе, начиная с лица с мягкими чертами. Ум, ирония, сочувствие, всепонимание. И при этом предел скромности.
Помню, как в одну из наших последних встреч перед моим уходом в больницу Ф. Ф. сказал, что перечел стих Сервантеса из пьесы «Нумансия», в котором говорится о бедствиях войны, и понимает, что нет их хорошего русского перевода, особенно отрывков «Говорит голод». Мы оба не знали тогда, что их уже отлично перевел Н. С. Тихонов. Упомяну, что в тот же день, повстречав Иосифа Абгаровича, Ф. Ф. просил, «если что», взять в библиотеку Эрмитажа его книги.
А когда я вернулся из госпиталя, мне рассказали что Ф. Ф. в конце декабря не появлялся в Эрмитаже три дня, и Орбели послал кого-то дойти до Кирпичного, благо близко, и узнать, живы ли они с Еленой Георгиевной, тоже долго не появлявшейся в Эрмитаже.
Посланец вошел в квартиру без труда – дверь была отперта, и в квартире был такой же холод, как на дворе. Ф. Ф. и его супруга лежали на диване рядом, укрытые пледом и давно уже умершие. А на двери, на перекинутом через нее шнуре от оконной занавески, привязанном к медной ручке, висела Анастасия Сергеевна Боткина. Рядом лежал поваленный стул. Очевидно, добралась их навестить, нашла мертвыми и, не став дожидаться своей очереди, тут же покончила с собой. А на стенах висели десятки холстов и гуашей, и в папках лежало множество рисунков, цена которых составляла в предвоенное время многие сотни тысяч рублей.
По приказу Орбели тела были отвезены в морг, находившийся в «церкви на крови» Александра II, а картины, рисунки и книги Нотгафтов перенесли в Эрмитаж.
Понятно, я больше не надеялся побывать в этой квартире, но судьба судила иначе. Почти через год, осенью 1942 года, когда я уже работал в Институте русской литературы, Виктор Андроникович Мануйлов9 получил письмо от находившегося в эвакуации с осени 1941 года известного литературоведа М. К. Азадовского. Азадовский просил Мануйлова побывать в его квартире и, буде шкаф с книгами, оставленный в коридоре, уцелел, как и вся квартира, задвинуть его в комнаты и там запереть. И вот втроем – Мануйлов, Михаил Иванович Стеблин-Каменский и я – пришли в ту самую квартиру на Кирпичном, где я провел последнее воскресенье сентября около года назад. Оказалось, что Нотгафты с Азадовским делили квартиру пополам, по двум стенам коридора.
Я заглянул в комнаты Нотгафтов. Там было пусто, мебель уже всю куда-то вывезли, на паркете мелкий мусор и пыль. На стенах, с бронзовых штанг, укрепленных над карнизами, свисали крученые бечевки. У Федора Федоровича картины висели не по-дилетантски на гвоздиках, а подвешивались. И тут сказывался вкус и достаток коллекционера. В эти комнаты солнце не заглядывало. Может быть, «уплотняя» свою квартиру семьей Азадовских, Федор Федорович обдуманно уступил им комнаты по другую сторону коридора, куда солнце светило по утрам. Но все же и в комнатах Нотгафтов кое-где на стенах обрисовывались не выгоревшие от света прямоугольники на обоях, оставленные «недурными» картинами…
Одна из двух комнат Азадовского была изнутри закрыта на крючок, но по указанию Марка Константиновича мы ее «высадили», т. е. попросту вырвали скопом задвижку, и задвинули туда три шкафа из коридора. Да ведь не просто задвинуть! Надо было выгрузить все книги на пол, передвинуть шкафы и снова поставить в них книги. Потом мы ввинтили в дверь кольца, повесили замок – взяли его из музея института – и, наконец, наложили на все двери печати института.
Уже перед уходом я заглянул в кухню, мимо двери которой мы проходили. Здесь у плиты я увидел полную наволочку от подушки, наполненную какими-то бумагами. Заглянув в одну из них, я прочел начало протокола одного из заседаний «Мира искусства» о приеме в члены общества Нарбута. Очевидно, что это была часть архива «Мира искусства», и, вероятно, как не очень важная часть его, эти бумаги предназначались на растопку. Но я все-таки захватил их с собой и в 1950-х годах передал их В. Н. Петрову, от которого они впоследствии перешли в архив Русского музея. Потом и все собрание Ф. Ф. поступило в отдел истории русской культуры.
Через несколько лет мы разговорились о судьбе Нотгафта с Г. С. Верейским, и я спросил, почему Ф. Ф. не уехал в Париж с Ренэ Ивановной и сыном? В те годы при помощи Луначарского и Горького многие люди, связанные с искусством, уезжали за рубеж. Не потому ли, что жалел расстаться со своей коллекцией?
– Может быть, отчасти, – сказал Георгий Семенович со свойственной ему неторопливостью. – Хотя я знаю, что он вел тогда переговоры с Петром Ивановичем Нерадовским о передаче коллекции в музей, как делали многие уезжавшие. Но главное, думаю, в чувстве неразрывной связи с Россией. Как-то он сказал мне: «Что бы я там стал делать? Положим, языки знаю, есть кое-какие знакомства, работал бы в каком-то издательстве, вроде Гржебина… Но как бы тосковал по Петербургу! Я ведь каждый раз из-за границы ехал, как будто на свидание с возлюбленной… И тут мне всегда находилась работа по вкусу… Уверен, что и Бенуа, и Сомов, и Серебрякова иногда от тоски воют…» – вот что он сказал. Тоска по родине – не выдумка поэтов. А потом… – Георгий Семенович немного замялся. – Его же любила Анастасия Сергеевна. Она ведь была и красавица, и умница. Но характер! Не тем будь помянута покойница… А потом, кто же мог предвидеть блокаду?!
В 1962 году перед тем, как передать большую часть коллекции Ф. Ф. в Русский музей, в Эрмитаже, в фойе театра, была открыта выставка произведений живописи и графики из собрания Нотгафта. Выставка была первоклассной. Тогда же Эрмитажем был издан и каталог этого собрания, открывающийся портретом Ф. Ф. работы Б. М. Кустодиева и статьей друга Ф. Ф. Владимира Францевича Левинсон-Лессинга. На обложке каталога был черно-белый силуэт Петропавловской крепости работы Остроумовой-Лебедевой – графическая часть экслибриса Нотгафта. Несколько экземпляров этого каталога были отправлены сыну Федора Федоровича во Францию.
«Расшифровав» эту главу в рукописи В. М., я позвонил Константину Марковичу Азадовскому, и мы встретились. Я показал ему текст, и Костя сказал, что у его родителей в той квартире также была живопись, и имена художников примерно те же, и родители были с Нотгафтами не просто соседями, а находились в близких приятельских отношениях. И по этой причине кое-что из живописи – особенно в коридоре – висело вперемешку, и он помнит, что на выставке работ из собрания Ф. Ф. Нотгафта, на которой он был со своей матерью, она, указывая на некоторые работы, говорила: «А эта вот – была нашей».
18
Но возвращаюсь к рассказу о нашем возвращении на Басков переулок. В одной комнате в 14 кв. метров поместились Ольга Филипповна, Марианна Евгеньевна, Ляля, я и (часто) Мария Степановна10 (или тетя Маруся), проводившая с нами все свободное от работы на заводе время. В дверцу круглой печки вывели трубу от железной буржуйки, по сторонам стояли два ложа – оттоманка без подушек и валиков и кровать, а к окну примыкал мой письменный стол, и до низа стояли стеллажи с книгами. Окно, зафанеренное еще в октябре, давало скудный свет через чудом уцелевшее стекло фрамуги. Придя из госпиталя, с радостью узнал, что на Эрмитаж есть письмо от брата. Брат сообщил, что хотя не попал в прежнюю часть, чего добивалось его начальство, но служит опять в Колпине помощником начальника штаба 65 стрелкового полка и получил из Кологрива письмо, где исправно получают от него деньги по аттестату, и все здоровы. Письмо, дошедшее до нас из Кологрива, читалось, правда между строк, куда печальней. По счастью, детский сад, в который удалось устроить моего племянника, находится близко, и близко до школы, в которую пошла племянница, так что в летней обуви они туда все же добегают. Мама смотрит за детьми дома, а Екатерина Александровна служит, но худо то, что работа в основном по деревням, а одета она не для зимы в Костромской области…
В нашей семье еще и еще раз обсуждалось, как быть, если не удастся добыть машины, чтобы добраться от Мантурова до Кологрива – ведь отправляясь в эвакуацию, надо было везти с собой много одежды и предметов быта. По благородству и доброте Марианны Евгеньевны и Ольги Филипповны и речи не было о том, чтобы уехать куда-то в другие места, что было нетрудно сделать. Не помню, как стало известно, что военврач Олег Михайлович Корсаков со своей частью стоит в Тихвине. Отец Олега Михайловича был другом отца Марианны Евгеньевны и в детстве часто и помногу живал в семье Таубе. Вот ему и было послано письмо, не сможет ли он прислать грузовик, чтобы вывезти Ольгу Филипповну, Марианну Евгеньевну, Лялю и тетю Марусю с максимальным количеством поклажи. Мария Степановна теперь не оставляла моих близких и разделит с ними эвакуацию, хотя все еще тянула работу на заводе. Объяснялось это сравнительно сносным пайком, который в феврале и марте был несколько повышен, так что у одинокого человека появлялись шансы выжить. Не будучи родственницей, тетя Маруся была членам нашей семьи и готова была самоотверженно разделить с Марианной Евгеньевной все тяготы эвакуации с заботами о разросшейся семье. Все понимали и то, что Екатерина Александровна, и так некрепкая от природы, перенесла в июне 1941 года серьезную операцию, а затем все тревоги и труды бегства. Надеяться на ее силы особенно не приходилось. Забегая вперед, скажу, что она прожила недолго – гибель брата в 1942 ее доконала, и она сломалась…
В наших обсуждениях на Басковом переулке в конце февраля было окончательно решено, что я пока остаюсь в Ленинграде, чтобы сохранить квартиру. Кто знает, может, из эвакуации придется привезти все семейство, ибо старорусское владение уже едва ли существует.
В марте от Корсакова было получено известие, что он постарается вывезти мое семейство на большую землю.
Корсаковы – отрасль древнего литовского рода Корсак, переселившихся в Москву в конце XIV века. Из этого рода были воеводы, дьяки, митрополиты, генералы. Врач Михаил Алексеевич Корсаков в молодости был помолвлен с Ольгой Филипповной Королевой, и в этом качестве они оба – он начальником санитарного поезда, а она сестрой милосердия – отправились на японскую войну. Однако через какое-то время Михаил Алексеевич был увлечен другой барышней (также сестрой милосердия), и предыдущая помолвка была разорвана. Трагедии, однако, вслед за этим разрывом никакой не последовало, и Ольга Филипповна уже вскоре вышла замуж за начальника другого санитарного поезда – Е. П. Таубе. Более того, две образовавшиеся семейные пары были впоследствии в столь тесных и теплых отношениях, что супруги Таубе были крестными родителями одного из детей Корсаковых, а в трудные 1920-е годы, когда семья Корсаковых стала погибать (умер отец, а вдова с тремя сыновьями остались без жилья и без средств), этот мальчик, Вадим, несколько лет жил в семье Таубе. Подрастая, Вадим влюбился в Марианну, дочь Ольги Филипповны (впоследствии вышедшую за В. М. Глинку), и, хотя никаких последствий эта любовь не имела, дружба семей сохранилась на всю жизнь.
Младший брат Вадима – Олег Михайлович (1912–1987), продолжая медицинскую традицию фамилии, стал военным врачом и в этомкачестве в 30-е годы был участником событий на озере Хасан и на Халкин-Голе. Война застала его в должности начальника гарнизонного лазарета Гатчины, эвакуацию которого при приближении немцев он провел столь успешно, что получил за это награду. Именно его военно-медицинский статус позволил ему в конце зимы 1942 года помочь семье Таубе-Глинок, и он вывез из осажденного Ленинграда Ольгу Филипповну, Марианну Евгеньевну и маленькую Лялю.
К слову сказать, вывезя из блокады семью Глинок, Олег Михайлович не успел или не смог вывезти своего брата – Григория. Тот был видным специалистом по языкам народов Крайнего Севера – чукотскому и корякскому. Защитив во время блокады диссертацию, он затем умер от голода.
Начались приготовления к отъезду – сборы и упаковки чемоданов и тюков, что-то брали с Баскова, что-то носили с Чайковской, где была комната Ольги Филипповны. Собирали все, что может быть необходимым, главное, одежду, необходимую кухонную утварь и посуду. Все постепенно упаковывалось и увязывалось.
Решение разделиться и мне не ехать со своими в Кологрив было для нас не из легких. Но как иначе было поступить? Что я в эвакуации мог бы делать? Чем добывать паек и деньги? Что я такое? Музейный работник чисто ленинградской принадлежности. Почти полтора десятка лет вся моя работа, все дни проходили в музеях, в среде музейных работников. Но, и оставаясь в Ленинграде, надо было переходить на другую работу, где полагалась бы рабочая карточка с 400 г хлеба. Ходить ежедневно в Эрмитаж с Баскова переулка было тяжело, тем более что там порой приходилось участвовать в работах, которые трудно назвать разумными. До сих пор помню яркий солнечный день, когда всем нам приказано было с ломами и лопатами очищать тротуар по набережной перед Эрмитажными зданиями. Смысл этой работы был нам не понятен: стучали три часа ломами, а что толку? Но, заметив мои невольные передышки, на меня накричал Адус Ионович Викус, бывший помначштаба обороны Эрмитажа, к чему-то наблюдавший за работавшими. Назвал еще бездельником и притворщиком. Кстати, пожарная команда к этому времени сама распалась за смертью большинства «бойцов»: А. Н. Болдырев, обессилев, отлеживался дома, Б. Б. Пиотровский, тоже обессилев, едва переставлял ноги. Он никогда не жаловался, но при встречах, словно прощаясь с чем-то самым замечательным в мире, мечтательно говорил о Ереване, где когда-то в молодости начал раскопки. Мы все еле двигались, а нам, как новобранцам, которых надо обязательно чем-то занять, еще придумывали ежедневную работу вроде скалывания льда или уборки залов, галерей и коридоров на случай попадания «зажигалок». Иногда же мы были заняты просто перемещением зачем-то с места на место отдельных экспонатов или даже экспозиций. Такая работа забирала остатки сил.
19
Видя, в каком жалком состоянии добираюсь я до дому, Ольга Филипповна попросила друга своего покойного мужа Николая Николаевича Петрова взять меня в свой военный госпиталь санитаром. Это давало рабочую карточку при суточном дежурстве, после которого следовали свободные сутки. Надо сказать, что Николай Николаевич жил с семьей в здании ГИДУВа (Институт усовершенствования врачей) на Кирочной и как маститый хирург и директор Онкологического института шефствовал над хирургическим отделением открытого академией в ГИДУВе эвакогоспиталя № 78. Конечно, я был рад такой перспективе – работа в Эрмитаже стала физически тягостной от выдумываемых в его штабе абсурдных работ, кроме того, уж слишком много моих друзей и товарищей ушли там в небытие. Пребывание в холодных залах с пустыми рамами без картин и постаментами без скульптуры было лишено смысла.
Я подал заявление об уходе и в первых числах марта был зачислен санитаром приемного покоя 78-го эвакогоспиталя. Но непрактичный и всегда далекий от «мелочей быта» Николай Николаевич не понимал, чем отличается служба санитаров в приемном покое от санитаров на отделениях, и оттого вышло, что попал я «из огня да в полымя». В то время, как на отделениях мои коллеги работали главным образом на перевязках и операциях, лишь подвозя раненых, следовательно, в пределах своего этажа, и после ухода врачей, кроме дежурных, отходили к отдыху и набирались сил, нам, санитарам приемного покоя, за свою рабочую карточку приходилось выполнять двойную, а то и большую нагрузку. Днем нам с напарником полагалось напилить и наколоть дрова на душевую установку приемного покоя, которая должна была работать всю ночь, когда из фронтовых санбатов привезут раненых. Для этого требовалось напилить и мелко наколоть от кубометра до полутора кубометров дров, в зависимости от их сухости и от того, сколько раненых поступит. А потом разгрузить этих раненых из автобусов и после мытья развезти по отделениям. Напарник мне достался не из легких – мариец Ваня, едва говорящий по-русски, очень нескладный, с низким тазом и длинными, как у обезьяны, руками и с плоским неподвижным лицом. Он после ранения в ногу был оставлен в госпитале и очень дорожил этим местом, спасшим его от фронта. Был он силен, а главное – вынослив, как верблюд. Пилить с ним дрова было очень трудно, хотя до этого я думал, что хорошо умею пилить. Он буквально загонял меня, беря очень быстрый темп движения пилы, и когда я невольно замедлял его, подчеркнуто злобно покрикивал:
– Ну, ты, шибко образованный, шевелись!
Понятно, что я лез из кожи вон, чтобы не слышать этих презрительных понуканий. А ночью, когда обычно прибывали раненые, бывало еще тяжелей. Носилки в автобусах, переделанных из городских, размещались в два яруса. Чтобы вынести верхние, нужно было вынуть за ручки верх и одновременно отстегнуть карабин на цепочке, которой пристегивались эти самые ручки. Потом вынести носилки из автобуса, не тряхнув, не стукнув и тем более не зацепив за боковины довольно узких дверей. Но еще тяжелее приходилось, когда после мытья мы разносили их по палатам, размещавшимся во всех трех этажах здания. Когда надо было поднимать носилки с первого на второй или на третий этажи, то каждый вдох и каждый шаг разрывал сердце. Но надо было нести без остановок и, опять же, очень бережно – не тряхнуть лишний раз. Да, тяжелая это была работа, самая тяжелая из всех физических нагрузок за всю мою жизнь… И как сейчас слышу этот скрипучий и монотонный голос Вани, негромко понукающего:
– Ну, чего, чего? Сдох? Давай, давай, образованный!
Открытка, отправленная в Кологрив, 1942 год
Врач О. М. Корсаков. Архив семьи Корсаковых
Академик Н. Н. Петров. Архив семьи Петровых
Ул. Чайковского, дом 46–48
А дома был голод, холодина, бледные лица, тонкие пальцы Марианны Евгеньевны, разрезанный на крошечные кусочки хлеб, который еще надо было чуть подсушить на печке, такой он был сырой и клейкий. И я бывал себе отвратителен, потому что не раз был готов сказать:
– Дайте мне побольше, ведь я так тяжело работаю…
Подкормом к микроскопической городской выдаче крупы и еще чего-то случайного были для нас пять кило столярного клея и некоторое количество лаврового листа, который должен был отбивать запах от этого клея. Это богатство было добыто для нас Исааком Яковлевичем Кальфа11, многолетним нашим другом. Бог мой! Что за отвратительное это было кушанье! И все-таки я съел его не одну тарелку. Но потом, верно, лет десять после этого, не мог без содрогания и порывов к рвоте слышать запах столярного клея. Чего же в то время не ели люди? Я не говорю о голубях, воронах, кошках и собаках – их к февралю в городе не было. Вываренные ремни, ручки портпледов, гомеопатические лекарства ложками, горчицу, растворенную в кипятке. Сухая, плесневелая корка, завалившаяся за ящик буфета, казалась желанным подарком.
Поспав после дежурства, я уходил бродить по городу, придумывая себе дела, – ведь я почти ничем не мог помочь своей семье, а в госпитале неоднократно слышал, что если хочешь выжить, то нельзя лежать. Бродить без цели – но двигаться! Однако вскоре придумал себе дело или хотя бы его призрак. В эти яркие солнечные дни в различных частях города открылись книжные лари, и я тщетно искал среди продавцов знакомых букинистов – Шилова, Наумова, Лебедева и других, чтобы предложить свои книги. Все-таки на деньги, хоть, правда, на большие, на рынке можно было купить кое-что из продовольствия… Несколько раз мне пришлось сходить в Эрмитаж за своими документами и за какими-то вещами, оставленными в противопожарной команде, и в один из таких походов, когда я брел около цирка, меня кто-то окликнул. Это оказался мой давний знакомый еще юношеских лет Макс Рейтер. Мы много лет не виделись, но еще студентами мы как-то целую зиму жили в одной комнате на Загородном, 34. Как он сейчас узнал меня – Бог весть! И этот старый знакомый, спеша куда-то по делам, сказал, что работает на таком-то заводе в конце Большого проспекта Васильевского острова, и если я туда приду в ближайшие дни, то он даст мне что-нибудь съестное.
– Взамен того портсигара, который, дело прошлое, я тогда не потерял, а на самом деле проиграл в карты… – сказал он мне на прощанье.
Да, дело было действительно прошлым. Два десятка лет назад он как-то взял у меня, чтобы «шикануть» в компании, серебряный портсигар с окошечком из слюды – такие были модны перед войной 1914 года, и, вернувшись под утро, сказал, что на него напали хулиганы, пришлось драться, и портсигар в этой драке он потерял. Я тогда поворчал, но поверил. И вот теперь он вспомнил этот случай, бывший в 1922 году.
Через день, после дежурства, я добрался до его завода, и он угостил меня кружкой крепкого чая с сахаром и отдал буханку полубелого хлеба, которого мы не видели с сентября. А когда я отрезал от нее треть, а остальное стал заворачивать в газетку, Макс неторопливо развернул ее, положил передо мной большую часть, а завернул и завязал бечевкой меньшую.
– Ты – кормилец, и ты пришел сюда, – сказал он наставительно. – Но я же вижу – если как следует не поешь, обратно тебе не дойти. И мой тебе совет – если есть возможность, эвакуируйся поскорей со всем семейством. Когда ты меня встретил, я шел как раз хлопотать, чтобы выехать с женой и детьми. Если придешь скоро еще раз, то застанешь меня, а то я уеду…
Половину буханки до дому я, конечно, донес, но, признаюсь, моего самообладания для этого едва хватило. Понять меня, наверно, смогут только блокадники.
Через несколько дней я снова с надеждой отправился на Васильевский остров. Но вахтер на проходной завода, спросив, к кому я хочу пройти, сказал:
– Максимилиан Михайлович с семьей утром уехал.
20
Все приданое моей первой жены Лидии Ивановны я после ее кончины возвратил ее родителям. Супружество наше продолжалось лишь четыре месяца (тиф, 1926 год), к тому удару я не был приготовлен и был в таком горе, что видеть вещи покойной было для меня мучительно. Но как-то случайно задержалась у меня одна небольшая плюшевая скатерть с цветами посередине. Так она и лежала всегда без употребления. И вот накануне Марианна Евгеньевна на Мальцевском толкучем рынке увидела, как за похожую скатерть дали целую буханку хлеба. Мои домашние воодушевились, и на другой день Марианна Евгеньевна и Маруся понесли скатерть на рынок.
Я дремал тогда после дежурства и проснулся от горького плача чуть не всех четверых. Оказалось, что рыночный опыт моей жены и нашей Маруси мало чего стоил, и хотя обмен совершился, и за скатерть был получен большой бумажный пакет муки, но когда муку принесли домой и попытались что-то испечь, то выяснилось, что мука насыпана лишь сверху, а глубже лежит мел. Плакали все четверо, а Маруся особенно корила себя за то, что перед этим ей давали за скатерть полбуханки хлеба и десяток кусков сахару, а она польстилась на муку. Такой обман был обстоятельством для тех дней не редкостным, но дотоле он как-то обходил нас стороной.
Плакали мои женщины, как я понимаю, не только оттого, что нет ни скатерти, ни муки, но еще и оттого, что с женщиной, которая их обманула, Маруся и Марианна Евгеньевна какие-то минуты радовались как бы вместе. Женщине на радостях сообщили, кого именно хотят накормить, то есть старушку и девочку, и одна рада была еду как бы послать, а другие двое эту еду доставить, но поддакивания и улыбки обернулись холодным актерским обманом, и это было особенно горьким… Скорее всех успокоилась Ляля и стала со мной успокаивать остальных. Вообще, вспоминая ту страшную зиму, не могу опустить, что она держала себя так, как мне, к примеру, себя держать не удавалось. Как она старалась подсунуть мне свои кусочки хлеба!
К середине марта милиция, управдомы и дворники отвезли в морги те трупы, что лежали по улицам в сугробах и в подъездах. Остались они только в дальних дворах, где плохо таяли сугробы, или в квартирах, где семьи вымерли целиком. Через окна первых этажей я видел не одну такую страшную комнату с трупами на кроватях, например, на улице Пестеля и на Кирочной. Кое-где под весенним солнцем стал подтаивать снег, и на улицах открывались останки убитых зимой животных. В одном месте увидел отрезанный собачий хвост и кишки – видно, тут же на улице беднягу и свежевали. В другом – из-подо льда показалась кошачья голова. Когда мы гуляли с Лялей, я старался зорко оглядывать нашу дорогу, чтобы оградить ее от таких зрелищ. Как-то вблизи Эрмитажа я все-таки чуть не наступил еще на одну кошачью голову – то было добавочное доказательство, что и кошки, как и умирающие от истощения люди, понимали – Эрмитажное убежище перестало быть убежищем, и надо из него уходить.
5 ОКТЯБРЯ 1941. После обстрела во дворе Театра юных зрителей на Моховой. Фото Г. Чертова
10 ОКТЯБРЯ 1941. Эвакуация. Посадка ленинградцев на самолет. Фото В. Федосеева
ЯНВАРЬ 1942. На Загородном проспекте –30 °C. Фото В. Тарасевича
5 ФЕВРАЛЯ 1942. Горожане берут воду из труб на Звенигородской улице. Фото Б. Васютинского
7 ФЕВРАЛЯ 1942. Ленинградка везет дистрофика. Фото Г. Коновалова
Ледовая трасса через Ладожское озеро. Автор не установлен
Дата не установлена. Остановившийся из-за отсутствия электричества городской транспорт на пр. 25-го Октября (Невском пр.). Фото Д. Трахтенберга
8 МАРТА 1942. Воскресник по очистке города. Горожане работают на проспекте Володарского (Литейном проспекте). Фото Р. Мазелева и Г. Чертова
5 ФЕВРАЛЯ 1942. Трупы на улицах города. Фото В. Федосеева
МАРТ 1942. Эвакуируемые по пути на вокзал. Фото В. Капустина
19 СЕНТЯБРЯ 1941. Бойцы восстановительной команды разбирают развалины дома № 4 по Дмитровскому переулку. Фото В. Федосеева
21
В один из моих свободных от дежурства дней Ольга Филипповна попросила меня сходить в Мечниковскую больницу, к Александру Ивановичу, чтобы принести от него какую-то справку об ее работе в Онкологическом институте, которая могла понадобиться в эвакуации. Неделей раньше, когда Маруся ходила туда с письмом, лед был еще крепок, и, пройдя мимо дома богадельни у Смольного собора, Неву можно было перейти наискосок по тропочке. Тропочка выводила прямо к началу Пискаревского проспекта, ведущего к Мечниковской больнице. Но началась оттепель, уже не позволявшая идти той дорогой – надо было идти через Литейный мост. По дороге же я должен был зайти в комнату Ольги Филипповны на Чайковской, где взять какой-то не то чайник, не то кофейник для передачи Раковым. И вот, двигаясь по Чернышевскому проспекту и повернув за угол на Чайковскую, я стал свидетелем картины, которую никогда не забуду.
Дом 46–48 по Чайковской называют то домом Барятинского, то иногда дворцом великой княгини Ольги Александровны, младшей сестры Николая II, которая вышла замуж за своего троюродного брата принца Петра Ольденбургского. Окна дворца, центр которого двухэтажный, а крылья трехэтажные, были заклеены по-блокадному бумажными полосами крест-накрест. Я шел по наледям на тротуаре вдоль дворца и припоминал имена архитекторов, связанных со строительством этого, собственно, и не дворца, а скорее особняка в стиле модерн – Боссе, Мерца, еще кого-то… Еще издали я увидел большой грузовик, поставленный вплотную к раскрытым парадным дверям, и человека, который чем-то взмахивал, стоя в кузове. Но всюду, как уже сказал, были наледи, приходилось глядеть под ноги, и, опустив голову, я продвигался вдоль тротуара. Поднял глаза я только тогда, когда подошел к грузовику почти вплотную, и надо было его огибать. И тут прирос к земле. В кузов грузили трупы.
Двое стоявших в дверях краснорожих мужиков в добротных куртках и брюках подавали голые трупы в кузов, которые там клали один на другой, как дрова. Некоторые из этих мерзлых тел были скрюченными, и их прилаживали друг к другу так, чтобы побольше вошло. Я заглянул в распахнутые двери, к которым приткнулся грузовик. В глубине вестибюля, занимая всю глубину пространства, ярусами лежали трупы. Несколько плотных мужиков, в таких же куртках, как и те, что были снаружи, покрикивая, разбирали этот штабель, другие стоймя переставляли трупы по конвейеру ко входу. Мелькали серые скорченные ноги, серые скрюченные пальцы, серые волосы. В кузове росла гора.
– Шабаш! – крикнул один из дядек в кузове. – Увязываем!
И они с напарником принялись укрывать розовыми одеялами свой страшный груз. Поверх одеял они накинули веревку и стали затягивать ее о какой-то крюк на борту грузовика. Потом вторую веревку… По тротуару почти рядом со мной проползла вторая машина и остановилась в ожидании рядом с той, что нагружали. Из кабины вылезли двое красноармейцев и закурили самокрутки. Первый грузовик отползал от подъезда…
Я плохо помню свою дорогу к Мечниковской. Встречались тени бредущих по улочкам людей. Сверкал снег, он стаял только на спусках к Неве. Когда я шел по Пискаревскому проспекту, меня обгоняли грузовики, и по сторонам их кузовов трепетали края розовых одеял. Они обгоняли и обгоняли меня. Их были десятки. Трупы явно свозили в одно место. То есть понятно было, что их куда-то свозят, а что создают особое кладбище и что во всех районах города власти получили указание – везти именно туда, это я узнал потом при встрече в один из ближайших дней, когда рассказал об увиденном Исааку Яковлевичу Кальфа.
– Мера необходимая, – сказал Исаак Яковлевич. – Вот-вот станет тепло, и надо оберечь город от возможных эпидемий. А везут на Пискаревку. Там создается новое кладбище. И этих грузчиков, которые грузят трупы, прислали с большой земли. Их кормят на убой и притом, говорят, в день дают по пол-литра водки…
А я, перейдя Неву, брел тогда по этому прямому проспекту, по сторонам которого стояли тогда редкие деревянные дома, и несколько раз останавливался, сил не хватало. Когда в тот вечер я рассказывал об увиденном Марианне Евгеньевне, она сказала:
– Да, я знаю, все говорят…
Попасть в дом 46–48 по Чайковской мне довелось лет через 30, там помещалась бухгалтерия райсобеса, и туда привели меня пенсионные дела. Отделка комнат была обезображена и во многом уничтожена. И все-таки в той комнате, куда я попал на прием к своему инструктору, сохранились панели серого клена, какие-то теперь, как и сам дом, потускневшие. И были еще какие-то старые полочки… Что это было – то ли остатки гостиной, то ли будуар великой княгини, впоследствии доживавшей свой век с любимым человеком в Канаде… И сидя на стуле в ожидании, когда же со мной займутся, я стал представлять себе эту комнату в прежние времена… Когда-то здесь у младшей сестры сиживал император Николай II и с ним, возможно, особенно друживший с сестрой его брат Михаил Александрович, тот самый Михаил Александрович, которому в марте 1917 Николай пытался передать престол…
Но я еще не окончил рассказа о моем походе в Мечниковскую больницу. Ведь когда я попал на Чайковскую, то все же забыл захватить то, что должен был передать Александру Ивановичу… Поэтому пришлось идти в Мечниковку вторично. Мой путь туда прошел вполне гладко, я прошел по Кирочной до Суворовского и добрался через Неву на Полюстровский. Но только, как и в первый раз, по Пискаревскому все шли и шли грузовики с поклажей, покрытой одеялами…
Благополучно дойдя до больницы, я был гостеприимно принят Александром Ивановичем, снабжен им куском хлеба и даже экипирован меховой шапкой. Но на обратном пути меня ждало новое испытание.
Очевидно, спускаясь с берега на Выборгской стороне, я выбрал не ту дорожку – тропку по льду, которой шел два часа назад. И вдруг где-то в середине дороги к Смольному, в сторону от тропки, увидел лежащий труп мужчины в черном пальто с меховым воротником. Ну, что же – в те дни к мертвым не то что привыкли, а были готовы к таким встречам. Но рядом с ним что-то зеркально сверкало на солнце. Что это могло быть? Я шагнул в сторону трупа. Лучше бы я этого не делал. Пальто было накинуто на тело сверху, тело же было без ног. А рядом лежала сверкнувшая мне отблеском пила-ножовка и одна из отпиленных ног, видимо, сил унести обе у пилившего не хватило…
О том, что увидел на льду, я не рассказал и Марианне Евгеньевне. Ужасающим было зрелище погрузки трупов на Чайковской, но встреча с этим единичным телом была уже из следующего круга представлений о том, каков мог быть конец каждого из нас… Рассказал я об этом только в мае своему давнему товарищу по юрфаку университета Александру Матвеевичу Арвану. Он и до войны работал на какой-то привилегированной работе, а при начале войны, как член партии, был направлен для работы в военную прокуратуру Волховского фронта. В студенческие годы мы были дружны, и теперь, призванный в армию и командированный в штаб фронта, он зашел как-то в Эрмитаж, и ему дали мой адрес. По этому адресу он меня и нашел и принес две банки мясных консервов и буханку хлеба. Тот, кто был в Питере в ту зиму, знает, чего это тогда стоило. Я был тогда уже в Ленинграде один, семья уехала в эвакуацию, и мы коротали долгий вечер с Александром Матвеевичем, вспоминая студенческие годы, и, конечно, норовили обсуждать то, что происходило у нас на глазах. От него я узнал многое о трагедии армии генерала Власова, подтвердившееся несколькими месяцами позже, летом 1942 года. Между другим, я рассказал Арвану о трупе без ног, о пиле-ножовке на льду Невы.
– Говоришь, не можешь забыть… – сказал он. – А у нас знаешь сколько таких дел? Но трупоедство еще не самое страшное… В прокуратуре есть дела и пострашней – по людоедству. Да, да убивали людей, варили их мясо и ели… Правда, большинство арестованных медицинская экспертиза признала психически больными…
– А другие? Те, что признаны психически нормальными?
– Тех расстреливают. Это уже не люди. Их нельзя оставить даже в обществе заключенных… – ответил мне Саша. – А еще, если тебе интересно, есть дела по управдомам, которые приканчивают жильцов.
– Зачем? Чтобы завладеть продкарточками?
– Не только. Золотом, мехами, шубами… Мне сегодня товарищ в прокуратуре такое порассказал, что я даже тебе лучше не буду пересказывать…
Он говорил, а я вспоминал нашего управдома Бехову. Эта баба с ухватками и словарем кабака в это страшное время, в феврале 1942, нисколько не похудела, а приобрела еще более начальствующий голос и стала, не стесняясь уже никого, ругаться матом. Как-то, когда мне случилось быть свидетелем того, что она выносит из соседней, вымершей начисто квартиры, чемоданы и узел, она бросила мне, очевидно, на всякий случай:
– В кладовую несу. Чтобы в собес сдать…
Квартиру опечатали. Ни о каком собесе тогда и речи быть не могло.
22
И вот в это страшное время, когда мы, казалось, окружены только смертью, обманом, алчностью и грабежами, в нашу жизнь на четверть часа вошли два совсем чужих человека, навсегда оставив чистый свет беспорочности и сострадания. Их появление было для нашей семьи, пользуясь избитыми выражениями, подобным глотку свежей воды для мучимых жаждой. Или согревающим светом.
А произошло это вот как. В тот морозный день я, поспав после дежурства, вышел из дому без определенной цели, только бы не сидеть и не видеть бледные лица моих близких. Брел я к Литейному и с горечью думал о том, что всю жизнь был уничтожающе непрактичен, и эта непрактичность оборачивается для моей семьи трагедией. Вот оказался же Макс Рейтер чуть не директором хлебозавода, кормит же Александр Иванович Раков свою жену и детей. А я? Должен же и я не оставаться пассивным, надо додуматься, чтобы делать что-то такое, что позволило бы приносить в эту мрачную комнату хоть немного съестного. А пока Олег Михайлович пришлет машину, мы все перемрем… Было в моей каждодневной ходьбе и еще одно объяснение – то, что я делал до поступления в госпиталь инстинктивно, теперь получило обыкновение. Я в эти дни не раз отмечал, что те, кто покорно ложится, думая, что этим сэкономит свои силы, в действительности тем самым приближает себя к концу – пассивность и разобщенность с происходящим ведут к упадку духа, а это – конец. Словом, дистрофикам не надо лежать, кроме как во время сна. И я упорно заставлял себя ходить.
Итак, я вышел из дома и скоро оказался около ларя букиниста, расставляющего свой товар на цоколе ограды церкви Симеона и Анны и на двух прилаженных к ограде досочках. Продавец – старик с зеленоватым лицом и с седой щетиной, не закрывавшей синие губы дистрофика – на мое робкое предложение принести книги для комиссионной продажи прохрипел, что берет за наличные одни переводные романы.
Этого разряда книг у меня было немного, но все же я собрал бы кое-что, хоть и немного. А за те деньги, что выручу, можно будет что-нибудь съестное достать на рынке. Но тут перед лотком остановилась военная машина, и из нее вышли двое военных в черных полушубках, перетянутых ремнями с низко висевшими на них пистолетами, и в черных ушанках с крабами. Один сразу стал листать книги, другой с набитой чем-то сумкой от противогаза через плечо подошел к продавцу.
– Нет ли «Трех мушкетеров» или «Монте Кристо»? – спросил он.
Помню, что «Мушкетеров» не оказалось, и букинист предложил их продолжение – «Двадцать лет спустя».