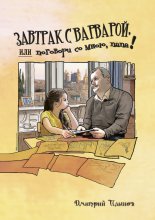Воспоминания о блокаде Глинка Владислав
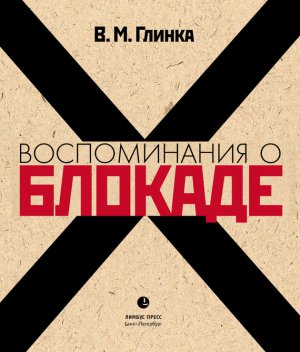
Два упомянутых Владиславом Михайловичем контр-адмирала – это А. С. Антипов и С. В. Кудрявцев. Первого из них я видел раз или два и если что помню, так это его усмешку, схожую с той, что на фотографии, где он еще курсантом снят на палубе линкора «Марат» (1923 год). Жил А. С. Антипов после войны в центральной части того длинного адмиральского дома, что стоит между Домиком Петра I и Нахимовским училищем.
Второй контр-адмирал – это Сергей Валентинович Кудрявцев, дядя Сережа. Выйдя в отставку, дядя Сережа стал слагать стихи. Это были длинные батальные полотна, действующими лицами которых были корабли и самолеты:
- Автоматом одним скудно
- Был эсминец воружен,
- Оброняться очень трудно,
- Вот и вышел в море он.
Ветераны, как утверждал дядя Сережа, принимали его творчество «на ура». Устная речь дяди Сережи была своеобразна. Когда он говорил с нашими домашними, то между фразами, а то так и разбивая фразу на части, он мычал. Теперешние телепередачи, оберегая слушателей, с той же целью инкрустируются писком.
Творил дядя Сережа увлеченно, иногда даже приезжая советоваться к Владиславу Михайловичу. Однажды я стал свидетелем такой встречи. Автор, как можно было понять, живо помня картину боя, как бы заново видел самолеты врага, атакующие наш корабль. Самая важная строка, в которой автор смутно ощущал какое-то несовершенство, звучала при этом следующим образом: «Дважды немец, один финн…». Процитировав ее, дядя Сережа замычал. Владиславу Михайловичу, как члену Союза писателей, предлагалось найти выход.
– Попробуем разобраться, – сказал В. М. – Что такое «дважды немец»? Ты говоришь о количестве самолетов? Или о том, сколько раз враги атаковали?
– О количестве самолетов, – твердо ответил дядя Сережа. – Их два и было…
– «Два» или «дважды»?
– Так это, нн-н-ы, одно и то же.
– Не думаю, – сказал В. М. – Но раз ты так считаешь, то что требуется от меня?
– Насчет финна… – Дядя Сережа снова замычал. – В строку не идет…
– Да уж, это точно… Что такое «один» (ударение на первом слоге)?
– А там, понимаешь, один только и был… – почти с отчаяньем сказал дядя Сережа. – Ну, никак не удается… Не могу же я написать: «Дважды немец, дважды финн…»
– Ну почему же? – всхлипнув, сказал В. М. – Скажем, второй был где-то рядом, за облаками, скажем…
– Но я его, понимаешь, не видел… – явно стыдясь, но с просыпающейся надеждой сказал дядя Сережа. – А может, действительно (мычание), взять грех на душу? «Дважды немец, дважды финн…» Это ведь было бы красиво…
Владислав Михайлович порой смеялся до слез. Дядю Сережу, как всех староруссцев, он искренне любил. Как-то, потребовав от меня обещание, что я тут же это забуду, дядя сообщил мне, как они с моим отцом, а также и всё их реальное училище называли дядю Сережу в детстве. Но то, в каких условиях и где я еще раз услышу это прозвище, я, конечно, предвидеть не мог.
В 1971 году я оказался включенным в тур от Союза писателей по Франции. В день отлета из Москвы вдова А. Н. Толстого Людмила Ильинична (шапочное знакомство по Коктебелю) снабдила меня какими-то парижскими телефонами «на всякий случай». День был сумасшедший, и я ни о чем не переспросил. А через неделю, оказавшись в Париже, я позвонил некой Аля, от которой тут же получил приглашение приехать в гости (все по-русски). Дом был на эспланаде Инвалидов, и против кнопок звонков кроме фамилий стояли титулы: «барон», «графиня», и только против одной, на которую надо было нажать мне, не было обозначено титула.
– Повторите, вашу фамилию, – сказала старая дама, когда я переступил порог. – Я по телефону не все расслышала…
Я повторил.
– Отчество вашего отца? Отчество деда? Кто ваш дед был по профессии? Где он жил? Город?
Несколько изумляясь, я отвечал. Впрочем, чуть позже все разъяснилось. Аля (она же Элизабет Маньян) родилась в Старой Руссе, и мой дед лечил всю их семью. Девичья фамилия мадам Маньян звучала просто – Прокофьева. У нее, оказывается, еще была сестра, с которой в 1930-х они отправились в Москву, где и вышли замуж за иностранных коммунистов – Аля за француза (который потом стал редактором «Юманите»), ее сестра – за немца (который потом стал министром Госплана ГДР).
Но сейчас я был в Париже, и допрос еще не кончился.
– Кто такой «Манная каша»? – спросила мадам Маньян. У нее был вид человека, который знает, что уж сейчас-то, как бы обманщик ни изощрялся, ему крышка.
А. С. Антипов (справа) и Ф. Ф. Иванчиков на палубе линкора «Марат», 1923 год
Реалисты, Старая Русса, 1917 год. Первый справа внизу С. В. Кудрявцев, его рука на плече В. М. Глинки
Контр-адмирал С. В. Кудрявцев, 1970-е годы
– Это контр-адмирал Сергей Валентинович Кудрявцев, – ответил я с ощущением, что для сохранения жизни выдаю государственную тайну.
– Ну, что ж… – сказала Аля. – Проходите.
Явное разочарование, которое скользнуло в ее голосе, я отношу к тому, что предметом профессиональной радости для еврокоммунистов в те годы являлись всевозможные разоблачения. Но некоторый кредит доверия я все же заработал, следствием чего мне было поручено отвезти в Москву и передать из рук в руки актрисе Любови Орловой резиновые перчатки для мытья посуды. Возможно, это тоже был какой-то пароль.
Но Бог с ними, с детским прозвищем дяди Сережи, его мычанием и уж, конечно, с нелепыми виршами, потому что, если дядя Сережа и был в детстве размазней, а в конце жизни не очень известным поэтом, то в те годы, когда от него требовалось, чтобы он был отважным и дельным офицером, он им несомненно и был.
Документально известно, что во время блокады он командовал Шхерным отрядом кораблей, судов и плавсредств, обеспечивавших боевое снабжение Ораниенбаумского плацдарма. Вероятно, этот Шхерный отряд значил тогда немало, поскольку осенью 1943 года нарком Н. Г. Кузнецов адресным приказом передал в состав Шхерного отряда еще и Отдельный дивизион канонерских лодок (В. К. Красавкин, Ф. С. Смуглин «Здесь град Петра и флот навеки слиты», БЛИЦ, СПб, 2003, стр. 348–349).
Помню, дядюшка говорил, что столь несомненные боевые качества дяди Сережи оказались неожиданными для большинства знавших его с детства… И если, слушая вирши дяди Сережи, В. М. и гоготал, как гусь, то потом, когда мы остались одни, В. М. уже совершенно серьезно и даже грустно сказал:
– Вот ведь Сережка… При его-то погонах да при трех орденах Красного Знамени мог бы такие басни сейчас плести о своих подвигах… Ан, нет. «Дважды немец, один финн…»
Шли 1970-е годы, время звездного урожая генеральских мемуаров.
– Копайте здесь, – сказала бабушка.
Мы стояли в бурьяне на горбе земли и гари. В тридцати метрах текла обмелевшая Перерытица. Со второго этажа соседского дома – он почему-то сохранился, когда перед уходом немцев выгорела вся набережная – глазели на нас, навалившись на подоконник, тетки в белых халатах. Мы выглядели странно: сгорбленная старушка, нанятый нами мужичок с двумя лопатами на плече и я – подросток в форме нахимовца. Сквозь бурьян проглядывал гранит фундамента, обозначая периметр того дома, в котором я когда-то родился. То, что бабушка и отец зарыли под верандой, когда в 1941 мы побежали от немцев, лежало в земле уже девять лет.
– Копайте… – повторила бабушка.
Красномедную гусятницу со столовым серебром и завернутую в клеенку толстую пачку сгнивших облигаций мы выкопали к середине дня, а потом до самого вечера бабушка заставила нас искать в земле еще что-то. Лишь в сумерках была обнаружена изъеденная ржавчиной круглая никелированная коробочка. Мужичка, он и с самого начала был вполпьяна, пора было отпускать. Моргнув мне, он украдкой от бабушки сунул в карман пару серебряных ложек.
На следующий день мы уплывали через озеро Ильмень, а потом вниз по Волхову на колесном пароходе «Всесоюзный староста Калинин». От Старой Руссы до Ленинграда тогда можно было добраться только таким крюком. Билеты у нас были палубные, самые дешевые. Кроме нас на палубе плыл еще цыганский табор. Цыганята, разглядывая меня, подходили вплотную, теребили мои рукава и штанины. Бабушка ласково и ровно с ними разговаривала. Как ни занят я был самим собой, но понимал, что мечтам ее о возвращении в Старую Руссу конец. Последние остатки нашей Старой Руссы мы везли туда, где бабушка теперь жила: в ленинградскую квартиру дяди. Это был мешок серебра. Правда, в 1950 году это мало чего стоило, а для меня и вообще ничего не означало.
Мне было четырнадцать лет, и я уже несколько раз ездил на парады в Москву. Как и на каждого из тех, кто был в парадном батальоне, за месяц до седьмого ноября и первого мая на меня подгоняли мундир. Мундиры были двубортные, черные, с высоким стоячим воротником. На воротнике, под сорок пять к вертикали, лежали шитые шелком лимонного цвета якоря. Мы знали – нам об этом твердили, что государство тратит на каждого по сорок тысяч в год. Что такое сорок тысяч, никто не понимал, но стоили мы, конечно, немало. К вечернему чаю, например, нам часто подавали омлеты. К зеленоватому кушанью из американского яичного порошка не следовало слишком принюхиваться, но сам факт присутствия в нашем меню такого слова, как «омлет», был, как теперь бы сказали, знаковым. Жизнь каждого из нас – принятых в Нахимовское – переменилась столь круто, что даже самое недавнее, и школьное и домашнее, просто вылетало из памяти. Я не был исключением. На закутанные вощеной бумагой золотые часы, которые оказались в откопанной коробочке, я почти не обратил внимания, как и на черного двуглавого орла на их крышке. Никакой связи с адмиральским погоном царского времени я не уловил, да и откуда бы? О том, что отец деда, проживи он еще три года, должен был бы, как председатель Севастопольского военно-морского суда, судить участников бунта на крейсере «Очаков» и непосредственно лейтенанта Шмидта, я тогда даже не подозревал. В училище мы заполняли разные анкеты. Дома мне было сказано, что во всех анкетах, где требуется указывать происхождение родителей, я должен писать – «из служащих». Лишь позднее я понял, что так было нужно, чтобы все прежнее, как пена от колес парохода, оставалось, бесследно разглаживаясь, позади… А тогда мы с бабушкой плыли на «Всесоюзном старосте Калинине», «староста» бодро шлепал своими плицами, и я знать не знал об опасностях, которые смотрели на меня из прошлого моей семьи. Девичья фамилия бабушки была – Кривенко. Вторая часть работы Ленина «Что такое “друзья народа” и как они воюют против социал-демократов» была посвящена политическим проклятиям в адрес народника Сергея Николаевича Кривенко – ее отца.
Мы плыли путем из греков в варяги, и я не подозревал того, что кругом полным-полно тех, кто совсем не хотел бы, чтобы о них знали больше. Подробности прошлого некоторых из моих тогдашних товарищей я узнавал потом лет через сорок. Их так же, как и меня в детстве, подолгу держали в неведении. Жил под чужим именем, оказывается, даже тот пароход, на котором мы плыли. Много лет спустя я узнал, что «Всесоюзный староста Калинин» начинал свою жизнь, как «Отец Иоанн Кронштадтский», да еще и строился он в Англии, в стране, которая, как нам внушали, что-то постоянно замышляла против СССР. Мы плыли сквозь годы, когда уже не только множество людей, но и множество объектов неодушевленного мира как будто задались целью не иметь прошлого.
Тридцатилетие после тысяча девятьсот семнадцатого разметало, расплющило нашу семью, а также и большую часть родни. Брата деда расстреляли в девятнадцатом в Белоруссии за то, что был правоведом, двоюродный брат деда сгнил в лагере за то, что жил до сорокового в Таллине, из троих сыновей бабушки старший был заколот в санитарном поезде врангелевского тыла под Перекопом в ноябре девятьсот двадцатого, средний – мой отец – погиб на фронте в сорок втором, мама умерла вскоре после известия о его гибели. Уничтожено было и само гнездо – нам осталось лишь копаться в его пепелище.
Все шло к тому, что мы с сестрой, если бы и уцелели, то не знали бы, кто мы такие и откуда. Так бы, наверно, и случилось, если бы нас не усыновили дядя и его жена.
Вторую гусятницу с серебром тогда так и не нашли. Она, вероятно, и до сих пор в земле под тем безликим коммунальным домом, который горкомхоз Старой Руссы возвел в начале 1950-х на месте дома деда и бабушки, и, может быть, когда-нибудь, когда время снесет и этот, кто-нибудь, воспользовавшись моим сообщением, нашарит компьютерным металлоискателем вторую часть нашего семейного клада, закопанного бабушкой в июле 1941 года, как я при помощи оставленных мне дядей семейных бумаг все обнаруживаю и обнаруживаю разные разности о прошлом нашей семьи.
Дом Глинок в Старой Руссе. П. Александров, 1919. Масло, холст
Часы, пролежавшие под землей девять лет
М. П. и Н. С. Глинки, 1917
Е. А. Гедеонова – выпускница Смольного института
Гедеоновы – фамилия смоленского корня. Директор Императорских театров при Николае I Александр Михайлович Гедеонов, известный тем, что всем актрисам говорил «ты» и в гневе грозил им, что сошлет в солдаты, пореченским Гедеоновым родственник, но такой далекий, что общего предка надо искать в XVIII, если не в XVII веке.
Бурцево, имение Пореченского уезда, было у Гедеоновых, родителей моей матери, до самого 1917 года. Известно мне о той жизни немного.
Знаю, что имение хоть и было, но хозяйствовали на земле сами, вместе с детьми. Детей же был целый десяток. Комнаты в старом помещичьем доме шли анфиладой, и детям разрешалось бегать через несколько комнат насквозь. В конце такого пути были навалены шубы, и старшие дети должны были забиваться под эти шубы, а младший (совсем маленький), добежав, мог легкой бамбуковой палочкой бить по рукам и ногам, которые старшие не смогли или не успели спрятать…
Мама и одна из ее сестер, Евгения, учились в Смольном институте. Способствовала тому, чтобы им туда попасть, возможно, традиция – фамилия «Гедеонова» встречается в общем списке учившихся в Смольном, кроме мамы, семь раз (Н. П. Черепнин. Императорское воспитательное общество благородных девиц. I–III тт., Петроград, 1915). К тому же мамина мать – Екатерина Владимировна (р. 1862 г.), урожденная Нелидова, была внучкой Александра Ивановича Нелидова, старшего брата самой знаменитой смолянки – фрейлины Екатерины Ивановны (В. В. Руммель и В. В. Голубцов. Родословный сборник русских дворянских фамилий, т. II, СПБ, 1887, с. 138–148), известной своим благотворным влиянием на пылкого и импульсивного Павла I.
Урок танцев в Смольном институте
Е. И. Нелидова. Художник Вуаль (?)
С. М. Глинка, Терский конный завод, середина 1930-х годов
В частности, именно ей удалось предупредить упразднение Павлом ордена св. Георгия. Справедливости ради, следует добавить, что и сама Екатерина Ивановна была отнюдь не лишена импульсивности – ее туфля («башмак с очень высоким каблуком» – как пишет мемуарист), вылетев однажды из дверей вслед за выскочившим из них испуганным императором, можно сказать, просвистела у его головы.
В Смольный принимались девочки от 8 до 10 лет, здоровенькие. Режим воспитания и обучения был строжайшим. Уже при поступлении, кроме соответствующего родословия (в советское время это назвали бы «мандатной комиссией»), от девочек требовалось умение читать и писать по-немецки и по-французски. Выпускницы Смольного умели удивить. Однажды на выпускном празднике императрице был представлен вышитый ими ковер длиной 16 аршин (больше 11 метров)… В другой год выпускницами на 16 роялях в 64 руки была исполнена опера «Севильский цирюльник» (Указанное соч., т. II, С. 141).
Из Смольного отпускали на рождественские каникулы к родителям, и однажды в пути маму выронили из саней. Из-за ушиба плеча она затем пролежала несколько месяцев.
Мамин выпуск был летом 1917 года. Для вручения наград отличившимся (Катя Гедеонова была среди них) ожидалось прибытие императрицы, но Николай II уже отрекся, и выпуск был смят. Летом 17-го мама работала где-то на полях (в Питере был голод) и заработала 12 пудов хлеба.
Первым мужем мамы был офицер (кажется, ротмистр) Шешковский, брат одной из ее одноклассниц по Смольному. Он погиб, спустя несколько месяцев после свадьбы, и обстоятельства его гибели – гражданская война – неизвестны.
Вторым ее мужем был Константин Константинович Глинка (р. 1898), сын К. Д. Глинки, академика-почвоведа. У них в 1926 году родилась дочь, ее назвали Еленой. Константин Константинович скоропостижно умер в 1930 году от кишечной болезни.
Третьим мужем мамы стал троюродный брат Константина, Сергей Михайлович Глинка, с ним она училась в Сельскохозяйственной академии. По странному совпадению не только Екатерина Александровна, которая уже носила фамилию Глинка, выходила второй раз за человека с той же фамилией, но и Сергей Михайлович второй раз женился на Глинке: первым браком он был женат на своей четвероюродной сестре художнице Марии Петровне. Но брак с кузиной остался бездетным, а от брака Сергея Михайловича с Екатериной Александровной родились: в 1934 году моя сестра Надежда и в 1936 году – я. Мы в то время жили по месту службы отца – на Терском конном заводе около Пятигорска, но началась ежовщина, и в феврале 1937 года отца, специалиста по военному коневодству, арестовали, а маму с тремя детьми тут же выбросили из казенной квартиры.
Три года, пока шло следствие, мы жили в Старой Руссе. Летом 1941 мы побежали из Старой Руссы от немцев. Отца взяли в армию. Мама, незадолго до того тяжело болевшая, толкала детскую коляску со всем тем, что у нас было. Уходили мы из Руссы в жару, в сандалиях, панамках, считалось, что уходим недели на две. Шли мы на восток месяца полтора.
К холодам мы оказались в городке Кологриве на Унже. Унжа – левый приток Волги. Эвакуированных в Кологриве называли «ковыренными». Однажды той зимой, сказала мне старшая сестра, был мороз «минус пятьдесят два градуса» (такого быть, конечно, не могло). Маму взяли агрономом, она ходила по окрестным колхозам, мерила деревянным угольником сугробы. В марте 42-го пришло извещение, что отец погиб. Той зимой Елена с мамой носили на плечах какие-то мерзлые бревна, и мама сильно ушибла плечо, из-за которого лежала еще в детстве, а потом болела в тридцатых. У нее возобновился костный туберкулез. Видимо, силы вышли.
Умерла мама летом 44-го в Кологриве.
Мы с сестрами почему-то почти ничего не знаем о других Гедеоновых. В памяти лишь отдельные штрихи: знаю, например, что брата мамы Сергея расстреляли в 1933-м… По какому делу? Год какой-то не характерный… Необъяснимо для меня и то, как это дед и бабушка Глинки с их дружелюбием и гостеприимством не завели с Гедеоновыми более близкого знакомства…
По той причине, что Наталья Васильевна Крандиевская-Толстая жила в неком особом доме, оба раза, как в записках Владислава Михайловича появляется ее имя, оно оказывается связанным с образами двух очень разных представителей высшей партийной номенклатуры – Б. П. Позерна и П. С. Попкова. Но оставить в памяти читателя это имя лишь в связи с названными деятелями было бы по отношению к ней просто несправедливо. По словам многих знавших Наталью Васильевну людей, ей было абсолютно чуждо все, что может быть названо партийным или политическим. Однако случилось так, что она, поэтесса с необыкновенно искренним голосом и человек глубинной, еще дореволюционной порядочности, несколько лет была женой того, кто свой великолепный писательский дар стал все более и более обращать на службу тому, что для нее было неприемлемо. Брак распался. В 1935 году А. Н. Толстой уехал в Москву. Вехи дальнейшей его жизни – приглашения на дачу Сталина, ордена, конгрессы, Верховный Совет, роман «Хлеб», Сталинские премии – все это было уже без Натальи Васильевны.
А. Н. Толстой и Н. В. Крандиевская-Толстая и группа военных. Начало 1930-х. Фотоархив семьи Толстых
Н. В. Крандиевская-Толстая. Фотоархив семьи Толстых
А. Н. Толстой. 1930-е. Фотоархив семьи Толстых
Н. А. Толстой и Н. М. Лозинская с детьми. Слева направо – Никита Алексеевич, Ваня, Наташа, Оля (стоит), Шура, Наталья Михайловна, Катя, Миша, Таня. Начало 1970-х годов. Фотоархив семьи Толстых
Н. А. Толстой. 1970-е годы. Фотоархив семьи Толстых
Наталья Васильевна осталась в Ленинграде.
Бывая у Толстых, я, конечно, был наслышан о бабушке Наташе. Слышал, что когда из-за послевоенной дистрофии отказались брать в школу Мишу, именно ей удалось его откормить; именно ей на даче в Кавголове можно было поручить сразу всех детей, потому что только она умела занять их, чтобы интересно было каждому. Это к ней в городе, я слышал об этом неоднократно, девочки Толстые (из подросших) бегали делиться своими секретами, считая ее подружкой. А им было что рассказать, особенно, полагаю, старшей из внучек, Кате.
Представленным Наталье Васильевне мне быть не привелось, хотя Катя, с которой мы дружили, помнится, приглашала, раз или два, пойти к бабушке в гости вместе. О чем мы думаем в молодости? Что будем жить всегда, вечно и все еще успеется. Не успелось.
Был я с той же Катей только на панихиде по Наталье Васильевне, которая происходила в Доме писателей на Шпалерной (тогда ул. Воинова). И, грешен, мне в память запали не столько сами похороны, сколько то, что на них присутствовала Светлана Аллилуева.
Кажется, она пришла на панихиду с сыном Натальи Васильевны композитором Дмитрием и его женой. Рыжеватая, без всякой косметики, Аллилуева секундно останавливала напряженный взгляд на каждом из проходящих мимо людей, чтобы тут же перевести взгляд на следующего. Раз за разом она резко и, как казалось, без всякого повода остро оглядывалась… «Письма к другу», которые попали мне в руки много позже, сделали для меня эту судорожность более понятной.
Но что могло связывать покойную поэтессу и дочь Сталина, при разнице в возрасте большей, чем тридцать лет? Возможно, то, что Светлана Аллилуева дружила с семьей сына Н. В. Крандиевской от первого брака – Федора Федоровича Волькенштейна? Но, может быть, и то, что обе они – и Н. В. Крандиевская, и Светлана Аллилуева соприкоснулись – одна по замужеству с человеком, с годами превратившимся в «советского графа», а вторая по условиям рождения – с кругом таких людей, который оказался им не только предельно чуждым, но, чем дальше, тем больше вызывал если не ужас, то потребность отгородиться от него… Да и были ли две эти женщины знакомы? Или, может быть, Наталья Васильевна (я слышал об этом ее качестве от нескольких знавших ее людей) привлекала дочь Сталина, если они все-таки были знакомы, именно своим умением продолжать жить незамутненно и чисто, и вот уж без всяких сомнений, не судорожно, в том мире (и даже буквально в том доме), где все особенности существования советской элиты тридцатых—пятидесятых были сгущены до их предельной концентрации…
Миша (р. 1940) и пятеро других, помладше.
Владислав Михайлович упоминает Никиту Алексеевича в своей рукописи всего один раз, как бы бесстрастно сообщая, что любовь Никиты к Наташе Лозинской спасла Лозинских от ссылки. Но возможно ли, чтобы такое сообщение было совсем бесстрастным? Знаю, что знакомы они были у них были общие друзья, притом близкие обоим, например, режиссер Н. П. Акимов, но помню и какую-то особенную сдержанность дяди, если при нем упоминали имя Никиты Алексеевича. Пытаясь понять причину этой сдержанности, беру смелость предположить, что дело здесь не в сыне, а в отце. По разнарядке сверху А. Н. Толстой в 1937 году был определен депутатом в Верховный Совет от Старой Руссы. Он приезжал в Руссу, выступал. Но как? Кому и как там это аукнулось? Время было очень плохое. А все происходившее в Старой Руссе Владислав Михайлович воспринимал, как случившееся с ним самим…
Я же Никиту Алексеевича обожал. И купил он меня сразу тем, как заговорил со мной минут через десять после нашего знакомства. Он спросил меня о том, где я учился и что собираюсь делать в жизни.
Между нами было два десятка лет. Я знал о нем, как о профессоре, изобретателе какого-то оптического прибора, за что вместе со знаменитым физиком Феофиловым он получил Госпремию, знал еще, что лекции его сбегается слушать весь физфак. А я за год до того был лейтенантом со строящейся подводной лодки. Таких, как я (мы были расходным материалом хрущевского плана устрашения Америки), военно-морские училища пекли по несколько тысяч в год. Вероятно, спросив меня о профессии, Никита Алексеевич заметил мою скованность. Вскоре он встал с дивана (дело было на дне рождения у его старшей дочери Кати), поманил меня пальцем и увел на кухню.
– Наконец встретил того, кто расскажет о регенерации воздуха… – сказал он. – Есть такая проблема на подводной лодке? Или она уже в прошлом?
Наверно, это было единственное, о чем я тогда хоть что-то знал. И я принялся говорить… Тут кто-то вышел на кухню, но Никита Алексеевич, не отрывая от меня сверкавшего горячим интересом взгляда, сделал жест рукой – не мешать. Должно быть, я говорил сбивчиво и бестолково, но мне уже казалось, что я рассказываю интересно и умно… Человек, который вблизи видел Бунина, Шаляпина, Хаксли, Горького, разговаривал с Уэллсом, жадно меня слушал.
Дом на Карповке, в котором жила семья Никиты Алексеевича, так называемый «Первый жилой дом Ленсовета», считался в 1930-х архитектурным шедевром, но в начале 60-х он уже начал ветшать. Квартира Толстых была двухэтажной. Теперь, через сорок лет после того, как я впервые в ней побывал, вспоминаю эту квартиру как совершенно особый мир. Он одновременно и очаровывал, и приводил в оторопь. Городских семей, в которых было бы столько детей, за всю свою жизнь я больше не наблюдал, а тут, когда собирались все, был сущий муравейник. При этом дети, а уж младшие – в особенности, так заняты были чем-то своим, что, подобно персонажам Маркеса, казалось, совершенно не замечая этого, беспрепятственно передвигались друг сквозь друга. Но в какой-то момент одна из девочек, взяв в союзницы вторую, по какой-то причине избирала мишенью третью, и ее реплика своей точной и яркой язвительностью заставляла замереть и переглянуться даже взрослых. Читатель, вы смотрите иногда «Школу злословия»?
На второй этаж квартиры вела лестница, певшая на все лады дубового скрипа, и там была одна комната, но большая, если не сказать, огромная, с роялем, отделявшим, вероятно, спальную ее часть. Другое гостевое пространство окружали полки тогда еще не встречавшихся в других домах книг (помню Хаксли и Бергсона), и там чуть позже поселился большой, размера секретера, музыкальный центр, предыдущим хозяином которого был, говорили, высокого ранга дипломат. Музыкальное чудо само умело менять пластинки. Азнавур в долгоиграющем французском варианте звучал, помнится, волшебно.
В большей из нижних комнат размещалась столовая. Потолок в углу здесь обваливался из-за балконных протечек, и штукатурка с помощью вертикального бревна была тогда подперта доской. Получилась виселица, и на ней, довольно натурально уронив голову на грудь, висела одетая в живописные обноски кукла человеческого роста. Нарисованные глаза куклы смотрели на обеденный стол. Из старших детей кто-то тут же ел, младшие что-то вырезали и клеили. Я приятельствовал со старшими детьми – Катей и Мишей, и Миша (он тогда только что кончил университет), собираясь привинчивать к слаломным лыжам крепления, сдвинул боком лыжины посуду с части обеденного стола. Соседству лыжи никто не удивился.
В семье царствовал комплекс могучей полноценности.
Когда следующим летом (1963?) мы покатили на мотоциклах к Черному морю и Коктебелю, Мише и Кате даже в голову не пришло заранее предупредить, что едут. Сомнений в том, что жилье в волошинском доме гарантировано, у них не было. И оказались правы – хотя дом был переполнен, Мария Степановна Волошина на часть августа отдала нам чердак.
Несколько позже Катя переселилась в Москву. Однажды (рассказ ее самой), держа на руках двух маленьких детей, она ногой открыла дверь в кабинет к возглавлявшему Союз писателей Константину Федину. Зная Катю, полагаю, что она при этом широко улыбалась. Сказав Федину, что доверяет ему подержать на руках правнука Алексея Толстого, пока она перепеленает правнучку, она положила не совсем сухого младенца прямо на лежавшие на столе бумаги. Целью визита было оповестить Федина о том, что квартира, в которой растут дети, скоро будет тесна. Ордер на полуторастометровую квартиру в нескольких минутах ходьбы от здания Моссовета (Козихинский переулок) она получила вскоре.
Когда Рейганы – Рональд и Нэнси – приехали в Москву, то обедать их посадили за разные столы, каждый человек на восемь. Рональд Рейган сидел за одним столом с Раисой Максимовной, а Нэнси Рейган – с Горбачевым. За этим же столом определили место и взмывшей тогда на литературном стратостате Татьяне Толстой. Вскоре Татьяна приехала в Ленинград, и, желая услышать о Горбачеве от человека, наблюдавшего его на расстоянии полутора метров, я попросил у Толстых разрешения заехать на Карповку. Ничего особенного, однако, услышать не удалось. Человек, мельчайшие подробности о жизни которого тогда ловил весь мир, Таню Толстую, казалось, особенно не заинтересовал. Сказала, что внешне он, как апельсин. Круглый. Плотненький. И такого же цвета. А что под кожурой – ковырять времени не было… Впрочем, она уже летала там, спускаясь откуда, должно быть, совершенно не имела в виду развлекать рассказами о своих впечатлениях кого попало.
Помню многих, их было достаточно, кто ко всему, что исходило от Никиты Алексеевича, относились со враждой. Он был слишком ярок, был слишком баловнем… Как ему удавалось так жить?
Конечно, впечатление, которое Никита Алексеевич производил на людей, в том числе обладающих властью, как и все Толстые, он очень умел использовать. Ездить в 1960–1970 годы туда, куда ездил он, не мог из известного мне круга никто. Ездил он от ЮНЕСКО. Кто из нас, работавших по военным ящикам, мог в те годы представить себе, что возможно не только свободно укатить на целый сезон или даже на год в капиталистический мир, но за согласие проехаться по колледжам и университетам знаменитейших городов еще и много заработать? Никто. А Никита Алексеевич и Наталья Михайловна, арендовав машину, пересекая границы, колесили по Балканам, Средиземноморью и Пиренеям. Кто из нас, даже если бы чудом и оказался в Нью-Йорке, посмел бы нанести визит доживающему там А. Ф. Керенскому, как сделал это Никита Алексеевич? Никто. А кто из нас в 1960-е знал что-нибудь про Гавайи?
Что мы тогда вообще знали о загранице? Одни, сообразно официальной пропаганде, ее демонизировали, другие, напротив, идеализировали до абсурда. И именно Никита Алексеевич умел так поделиться тем, что видел, что все становилось на свои места. Как он умел рассказывать! Как сделать картину заграницы зримой! Я до сих пор помню, как будто видел сам, эти скользкие плащи, такие удобные в вагонной давке токийского метро. А его рассказ о том, что для производства компонентов электроники, требующих особой химической чистоты воздуха (та же Япония), работницы бреют головы, и за это им платят втрое? И о том, что мимо человека, сломавшего ногу на улице, можно пройти только в том случае, если ты не посмотрел ему в глаза…
Он вообще умел удивительно растолковать, объяснить! Например, какого рода легчайший остаток звука «ё-е» (нет у нас такого звука) должен промелькнуть в конце вот таких-то и таких французских слов. Или о том, сочетание каких обстоятельств почти автоматически вызывает смех, а отсюда и о возможностях аналитического конструирования острот…
Общаться с Никитой Алексеевичем было весело. В его словах, реакциях, оценках, пересказанных сценках постоянно присутствовала, кроме серьезной, еще и какая-то игровая составляющая.
1960-е годы. Кремль, выставка военной оптики. Н. А. Толстой должен встретить коменданта Кремля. Тот является и останавливается перед стендом, на котором сложнейший прибор.
– Что у вас тут?
– Вы, товарищ генерал, конечно, как все мы, – фотограф…
– Я не фотограф, а генерал, – сказал комендант Кремля и ушел.
Помню один зал в начале 1990-х. На сцене приехавший в Питер Жириновский, он в особенном ударе, и вдруг Никита Алексеевич из зала задает вопрос:
– А вам не кажется, что теперь главнейшим из искусств для нас становится цирк?
И Жириновский не нашелся, что ответить.
В дощатой будке на дачном участке Толстых посетителя ждало странное зрелище. Технологических отверстий там было не одно, а три…
– Раз уж столько детей… – говорил Никита Алексеевич.
Обожавший маленьких детей Никита Алексеевич к интенсивности процесса появления внуков (пять молодых дочек, постоянно то беременных, то беременных снова) относился тем не менее иронически. «Моим девкам, что рожать, что скинуть – как два пальца обо…», – похохатывая, говорил он.
Мотоциклетная болезнь, одолевшая нас в молодости, была в какой-то степени преемственна: Никита Алексеевич тоже когда-то был мотоциклистом. Более того – мы знали, что им и его приятелем в молодости оставлен в горной обсерватории в Закавказье (Алагёз?) немецкий мотоцикл BMW, на котором они туда доехали, – и мотоцикл этот был для нас чем-то вроде мерзлого трупа леопарда из эпиграфа к хемингуэевским «Снегам Килиманджаро». Мы намеревались зачем-то до этого BMW когда-нибудь добраться…
Как-то я услышал от Никиты Алексеевича о новейшем тогда способе увеличить разрешающую способность приборов оптического наблюдения. Рассказал он мне о нем, предупредив, что это научный и военный секрет. Но дело совсем не в том, что именно он мне тогда раскрыл, а в том, что показал, как безоговорочно доверяет. А уполномоченные из особых отделов нам, мол, не указ. Не чиновнику учить живых людей многим вещам, особенно, патриотизму.
Я очень любил этого человека. По-моему, его несправедливо быстро забыли. И люди, и город.
Если бы задачей России (тогда СССР) было выглядеть среди других стран по-человечески, то назначать послами в другие страны следовало бы таких людей, как Никита Алексеевич Толстой. Однако такой задачи, видимо, не стояло. И в Китай, например, послали Толстикова, при котором в Ленинграде травили Иосифа Бродского. Игра слов – Толстой и Толстиков, хоть и непредумышленная, но, мерещится, символическая.
А Никита Алексеевич все равно был послом своей страны и своего времени. Он, знавший языки, все читавший, всегда живой, парадоксальный, обожаемый женщинами и окруженный молодежью, философски глядящий на разваливающуюся вокруг него среду, рушащиеся авторитеты, все более растерянное общество, – был послом среди нас из другой страны – может быть, из России серебряного века.
Антонина Николаевна Изергина, с 1952 года заведовавшая в Эрмитаже отделом живописи и скульптуры западного искусства, пользовалась славой человека блестяще образованного, отважного и абсолютно независимого.
Говорили, что это она в решительный момент спасла третий этаж Эрмитажа (новейшую западную живопись) от того, чтобы его не закрыло специально для этого приехавшее из Москвы начальство Академии художеств – В. А. Серов и А. М. Герасимов. И удалось это Изергиной с помощью цитаты из Ленина (ему, оказывается, так нравились импрессионисты!), которую она бесстрашно и режиссерски точно ввернула в кульминационный момент словесного погрома. Серов крикнул осевшим голосом: «Провокация!», но на том акция и задохнулась. А поздней осенью 62-го, во времена самые плохие для художников хрущевских лет, Изергина своим авторитетом знатока живописи и безупречным языком изысканного критика поддержала группу москвичей (Биргер, Андронов, Вейсберг, Мордовин и др.), посмевших приехать в Ленинград с выставкой совершенно неофициального направления. Печатные работы Изергиной, так свидетельствуют профессионалы, и сейчас, по прошествии уже стольких десятилетий, абсолютно не устарели, и безумно жаль, что зафиксированное в печатном слове лишь часть того, что могло бы после нее остаться… Впрочем, о вышесказанном я знаю лишь с чужих слов.
Антонина Николаевна была вдовой директора Эрмитажа И. А. Орбели (1887–1961). Много раз слыша об Антонине Николаевне от дяди, я впервые увидел ее в доме Льва Львовича Ракова, который дружил с Антониной Николаевной (или как звало ее большинство из ее окружения – Тотей) еще до войны. Одновременно я увидел и сына Антонины Николаевны, студента биофака Митю Орбели. Первое из впечатлений от знакомства было то, что перед тобой дуэт. Последующее в таком мнении лишь укрепляло. Музыкой этого дуэта было слово.
Впоследствии я узнал, что Митя, которому не было тогда еще и двадцати, уже стремительно двигался по стопам своего дяди, знаменитого физиолога Леона Абгаровича, и еще студентом принимал участие в двух международных конгрессах биологов. Однако об этом опять-таки я знаю с чужих слов…
Что такое – наслаждение разговором? Встретив Антонину Николаевну и ее сына, я очень скоро выяснил для себя, что к тем троим-четверым людям, на бессистемные, никакой конкретной цели не имеющие разговоры с которыми мне не жаль часов, дней, да, в общем, и любого времени, прибавились еще двое…
В. М. Глинка, А. Н. Изергина, Митя Орбели и Л. Т. Гюзельян (крайний справа) в зале Эрмитажа, около 1950 года. (Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург)
А. Н. Изергина
Митя Орбели, конец 1960-х
Кажется, именно Лев Львович Раков сравнил Тотю и Митю с джаз-бандом: приходят, настраивают инструменты и начинают без передышки играть. Рассказывая о чем-то, мать и сын лепили рассказ, как птицы строят гнездо. Как воссоздать этот переходящий в щебет захлебывающийся стрекот, прерывавшийся иногда приступами хронического кашля…
У Тоти была сестра – Мария Николаевна, в прошлом певица, у которой был свой дом в Коктебеле. Отношения Марии Николаевны Изергиной с неофициальным властителем Коктебеля Марией Степановной Волошиной – сюжет совершенно особый, разветвленный. Разве добавлю, что «коктебельский Ватикан» зорко приглядывал за епархией Марии Николаевны при помощи нунциев. Иногда нунцием бывала прелестная Марина Бокариус.
С весны до осени Мария Николаевна сдавала знакомым комнаты, которых в доме было две, одна из них при этом хозяйская. Постояльцев же набиралось до полутора десятков. Как-то еще до Нью-Йорка здесь жил Э. Лимонов. «А что, – говорила Мария Николаевна, – в выразительности строки ему не откажешь. Ну, вот, например: “Они пришли, а я – лежит”». Строка могла относиться и к нравам дома самой Марии Николаевны. Спали на обвитой виноградом веранде вдоль общего обеденного стола; жили по трое в раскалявшихся под крышей двух клетушках; обитаемыми на ночь становились даже треугольные «щели» около этих клетушек, где было не то что не встать, но даже и не сесть. Рвать виноград разрешалось, живя на любом из уровней.
О сестре Мария Николаевна говорила с охотой:
– В начале 20-х, году в 21–22-м, у нас у всех уже были кавалеры. У меня был; у Ирины, она потом стала Щеголевой, был; даже Надя Рыкова, хоть ей-то и ни к чему, и то завела. Только у Антонины – никого. И мы шутили, что если она не заведет, то придется выдать ее за Сталина. А знаете, в чем был смысл шутки? В том, что это был серый, никому не известный член ЦК…
Обследовав поутру дощатый домик общего пользования, Мария Николаевна задумчиво произносила, что, по мнению Кьеркегора, христианское отношение к окружающим свойственно лишь избранным. Курятник постепенно просыпался, иные вставали лишь к полудню: получить особенно злободневный самиздат без очереди можно было лишь на ночь.
– Пойдемте ставить ловчие пояса на плодожорку, – говорила мне Мария Николаевна. – А знаете, как нас с Антониной называли? Две змеи. Одна – электрическая, за любовь к точности. Это я. Другая – подколодная, это о Тоте.
Слушая, я ходил хвостом за хозяйкой. Мы надевали на стволы слив картонные кружки. Обитатели вылезали из щелей. Общие застолья возникали спонтанно, а уж когда приходил в гости из Дома творчества Фазиль Искандер или Юрий Черниченко, то обязательно. Впрочем, наряду с выяснением, почему комбайн так косит и так молотит, не менее горячо обсуждалось, почему Джим так избирательно не любит молочницу Клаву и дважды покусал Эдика Радзинского…
– Антонина была у Иосифа Абгаровича женой номер четыре, – сообщала Мария Николаевна, – и жалованье свое он приносил не ей, а Марии Кироповне, «старшой» (ударение на «о». – М. Г.), которая тут же, в Эрмитажном доме, его и распределяла. При этом Митя, как единственный сын, считался ребенком как бы общим. Ведь когда он родился, Антонине было сорок, а Иосифу Абгаровичу шестьдесят. Порок-то сердца у Митьки откуда? Как вы думаете, можно рожать, когда на двоих – сто?
Несколько лет подряд летнее пребывание моей семьи в этом доме или поблизости от него совпадало по времени с приездами в Крым Антонины Николаевны и Мити… Как зафиксировать, хотя бы в памяти, ту чарующую легкость, с которой летели тогда дни?
– А Тотя вам не рассказывала, как они зимой вышли из гостей (это, случайно, не от вас?) и так при этом веселились, что когда она упала сугроб, то от хохота потеряла челюсть… Подходит милиционер, видит, все ползают и ищут, и тоже стал искать… Не рассказывала? Она всем рассказывает!
Иногда я бывал у Антонины Николаевны на даче в Комарове. Там обычно толпился народ: немного похожий на гиппопотама блестящий (но, к несчастью, еще менее, чем Тотя, трудившийся записывать то, что говорил) искусствовед Борис Зернов; охотник за любым, что могло относиться к Михаилу Кузмину, все знавший Гена Шмаков; проглатывала иностранные книги, стоя и держась за косяк двери, переводчица Франса, Пруста, Шодерло де Лакло Надежда Януарьевна Рыкова. Особое почтение оказывалось Владимиру Ивановичу Смирнову, автору пятитомного «Курса высшей математики». Бывала Ольга Ладыженская, тоже математик, притом из первых в мире. Помню, от кого-то слышал, что у Ахматовой, которая жила на литфондовской даче по другую сторону железнодорожных путей, долго лежал сборник стихов, подписанный для Тоти, а та все не могла найти время за ним зайти. И что в том же Комарове у Тоти на даче несколько дней как-то прожил Солженицын. Изредка появлялся Иосиф Бродский. Единственный разговор между ним и Тотей, который мне запомнился, касался обсуждений качеств пухового спального мешка, кажется, английского. Тотя говорила, что за невесомость привезла его из Алма-Аты, где в 42–44 годах была инструктором по альпинизму. Похожий мешок, кажется, голубого цвета я видел у Иосифа на улице Пестеля в комнате, которую разгораживал трехстворчатый шкаф с вынутой для прохода сквозь него средней дверцей. Это было уже после смерти Тоти.
Домработницей в Комарове у А. Н. была Сима, суровая новгородская баба с неподвижным лицом, которая до того служила нянькой у Насти, дочери Л. Л. Ракова. Сима об образе жизни Тоти выражалась лапидарно: «Где у других мозги, там у нее коты наклали». Тотя с восторгом цитировала Симины слова. Вообще она обожала повторять понравившиеся ей чужие реплики, обязательно сообщая, кто автор. Так, никогда не видя одной очень старой ее родственницы, я знал, что та, услышав о смерти Ленина, произнесла: «То-то над горсоветом всю ночь филин кричал». Когда кто-то сказал, что в качестве творческого псевдонима Тоте очень бы подошло называться «Остроумовой-Водкиной», она пришла в полный восторг. За словом, при этом абсолютно за любым, сама Тотя, разумеется, ни в какой карман не лезла.
Так, однажды (рассказ Марии Николаевны) она должна была сопровождать в театр какого-то именитого иностранца, места были в первом ряду партера, а у ног ее с игрушкой возился в проходе четырехлетний Митя. Начали поднимать занавес.
– Митя, садись!
Но Митя, продолжая разговаривать с игрушкой, ползал по полу.
– Митя, прекрати шуметь!
Ноль внимания.
– Митька, сядь! И засунь свою игрушку в ж…!
Митя поднял глаза на мать.
– Да, уж, маменька, – сказал он. – Вы – не Песталоцци.
В начале 1960-х Тотя водила по Эрмитажу парижских Ротшильдов. Гости были в восторге, Ротшильд снабдил ее своими визитными карточками, и когда Тотя сама оказалась в командировке в Париже, то через Лидию Николаевну Дилекторскую (секретаршу Матисса), которая уже несколько раз приезжала в Ленинград, снеслась с Ротшильдами и была у них в гостях. Памятуя о замечательной экскурсии, Ротшильды захотели сделать Тоте подарок. И то ли еще в Ленинграде, то ли уже в Париже, но предметом разговора явилась трость престарелого Ротшильда. Особенностью трости было то, что рукоятка ее одним движением раскрывалась в сиденье. Следовало лишь воткнуть трость в землю или песок. Это была специальная трость для людей, которым бывает необходима передышка при ходьбе. А у Мити был врожденный порок сердца, от которого впоследствии, не дожив до двадцати пяти лет, он и умер.
Одним словом, Антонина Николаевна получила для Мити от Ротшильдов такую трость. Но когда А. Н. узнала, сколько трость стоила (Ротшильды знали, где купить), то ей чуть не стало дурно. Помогла та же Дилекторская. Антонина сожалеет? Желала бы эту сумму истратить иначе? Так в чем дело? Надо вернуть трость в магазин. Так и поступили. А затем на возвращенные деньги был накуплен ворох подарков и почти такая же трость, которая в обычном магазине стоила в несколько раз дешевле.
Реакция Мити при получении подарка ждать не заставила.
– Эти Ротшильды, наверно, головы сломали, пытаясь высчитать, сколько лет маменьке, если ее сыну уже нужна старческая трость!
В те же 1960-е годы Антонина Николаевна была с выставкой от Эрмитажа в Лондоне, где общалась с родственницами Шагала, двумя пожилыми дамами. Это были Валентина Николаевна (вторая жена Марка Шагала) и еще, кажется, одна из сестер художника. И хотя принимали Антонину Николаевну эти дамы довольно сдержанно, но все же, раз та представляла Эрмитаж, осведомились, не могут ли ей чем-либо быть полезными, поскольку в Лондоне она впервые. Вопрос был задан, скорей всего, лишь для приличия, но А. Н. ответила, что очень даже могут. Кто-то из близких ей художников, зная, что она едет за границу, просил ее привезти набор мелков для пастели.
– Мне поручено привезти из Лондона пастель, – сказала она. – Боюсь, без вашей помощи тут действительно не обойтись…
Дамы переглянулись и что-то в ответ невнятно, как говорила Тотя, проблеяли. А незадолго до ее отъезда они сами пожелали с ней встретиться и, явно нервничая, сообщили, что, во-первых, общая ситуация так некстати усложнилась, а, во-вторых, без Марка вообще ничего решить нельзя… И так далее. Одним словом, им очень жаль, но ни с одной из пастелей Марка они сейчас расстаться не готовы…
Веселье, которое охватило пожилых дам, когда они узнали, что речь идет отнюдь не о работе Шагала, а всего лишь о рисовальных мелках, преобразовалось, как говорила Тотя, чуть не в целый сундук этих мелков, которые дамы на радостях сами и купили.
– Я потом не знала, как мне их допереть, – говорила Тотя.
О Ротшильдах и Шагалах – это из застольных рассказов самой А. Н.
Отчетливо сознаю, что не только биографический очерк, но даже небольшая статья, посвященная жизни человека той яркости, а уж тем более знатока искусства столь блестящего, каковым была Антонина Николаевна Изергина, могли бы и даже обязаны были основываться на материале совершенно иного плана… И потому задачей предыдущих страниц, без всякой претензии на то, чтобы считать написанное портретом А. Н., была лишь попытка передать некоторые ощущения от той вольной атмосферы, что создавала А. Н. вокруг себя и вне Эрмитажа в те годы, когда, прощаясь на три дня, на аэродромах взасос целовались приземистые кремлевские старики.
О причинах, по которым составитель позволил себе сопроводить текст «Блокады» В. М. Глинки значительным объемом комментариев, уже говорилось во вступительной статье. Однако после ознакомления с разделом завершающих примечаний у читателя может возникнуть вопрос: какое отношение к воспоминаниям автора о страшных месяцах в жизни блокадного города имеет большая часть этих примечаний? Особенно же тех, тональность которых отнюдь не соответствует общей тональности «Блокады»? Не признать, что для такого вопроса есть основания, нельзя.
Попробуем на него ответить…
С какой целью неиссякаемые отряды пушкинистов роют и роют архивы и у нас, и за границей, рассматривая крупицы уже вдоль и поперек перерытого и просеянного сквозь мелкое сито архивного грунта? Какое отношение к «Севастопольским рассказам» или к «Анне Карениной» имеют тщательно сохраняемые постройки усадьбы Толстого? Почему важно знать список гостей, в такой-то день приезжавших в Ясную Поляну? Для чего сам Владислав Михайлович Глинка уже в преклонные годы, не жалея сил, помогал восстановить интерьеры, в которых провел в Воткинске начало своей жизни П. И. Чайковский? Что откроет нам еще одна чернильница, в которую, предположительно, макал свое перо Пушкин, и что изменится, если мы узнаем имя еще одного его адресата? Какое отношение имеет все перечисленное к тому, что мы ощущаем, читая Толстого и Пушкина или слушая Чайковского? Зачем нам нужны эти детали отношений давно ушедших людей, вещественные доказательства существования уже исчезнувшего мира, поименный состав участников давних событий?
Зачем-то, оказывается, нужны, и притом очень многим. Этим многим важно не только то, что человек сказал или написал, а кто он. Кого это я слушаю? Кого читаю? Интерес к ближнему и дальнему кругу общения, деталям жизни и быта, привычкам и пристрастиям того, кто взял нас в плен своим творением, сродни тому краеведению, что сливается с архивным поиском и воспоминаниями очевидцев. Портретный ряд, помещенный нами после «Блокады», вероятно, следует отнести именно к такому смешанному жанру. Героя нашей книги со всех сторон окружал мир служилой интеллигенции Ленинграда 1920–1970-х годов, в особенности же мир «старых» семей, то есть тех, где помнили свою историю. Заключительные примечания – это попытка сохранить хоть несколько квадратных сантиметров краски огромного полотна, ныне почти осыпавшегося. Круга этих людей уже нет. Это то поколение, сквозь жизнь которого прошли и время «серебряного века», и двадцатые-тридцатые, и блокада. Или фронт. Или еще что-нибудь, чем так богата наша недавняя история.
О необъятной грибнице российской интеллигенции первой половины XX века написано множество книг, но это множество – ничто по сравнению с тем, о ком не написано ничего.
М. Г.
В. М. Глинка, начало 1930-х
Об авторе «Блокады»
Двадцатый век, начинавшийся для России стремительным экономическим ростом, мировой славой русской литературы, триумфом дягилевских сезонов, появлением целой плеяды удивительных художников и композиторов, нобелевскими премиями по физиологии и биологии, разнообразием глубочайших религиозно-философских течений, завершением строительства самой длинной в мире железной дороги, устойчивейшим рублем – этот самый двадцатый век, так блистательно начинавшийся, оказался тем не менее для всего того, что можно было бы назвать культурой России, веком смертельной опасности.
Гибель монархии, классовый переворот и несколько лет гражданской войны обернулись для России небывалым по масштабам исходом – за границу хлынули реки россиян, в первую очередь представители привилегированных классов. Эмигрировало также огромное количество людей из того слоя, который представлял культурный костяк российского дореволюционного общества. Дальнейшие десятилетия целенаправленной политики новой власти довершили картину почти полного разрушения этого слоя. Одновременно с переворотом политическим в России произошел переворот и культурный. Новое государство, отрицая всякую преемственность от старого, осуществило пересмотр ценностей буквально во всех областях.
Особенно пристальной ревизии подвергалось то, что хоть отчасти касалось идеологии – литература, искусство, а более всего – история. Корректировкой истории в России, конечно, занимались и раньше. Подгоняли под себя историю Иван Грозный и Борис Годунов, кое-что из того, что имело место в предыдущие царствования, приказывала считать иным Елизавета Петровна. Весьма существенно поправляла прошлое, например картину отстранения ею от власти Петра Третьего, Екатерина Вторая. Однако дореволюционные примеры деформации прошлого в сравнении с тем, что стало нормой в советской исторической науке, выглядят сущей гомеопатией…
Эйфория некоторых деятелей искусства – Мейерхольда, Маяковского, Эйзенштейна, поначалу околдованных разрушением всяческих канонов, просуществовала не слишком долго. Огромную страну, отколовшуюся от предыдущей истории, относило временем во все большую изоляцию от остального мира, особенно от Европы, в тесном контакте с которой Россия была уже более трех веков. От этой изоляции съеживалась наука, костенели искусства, совершенно новые формы принимали отношения между человеком и государством, а также отношения людей между собой. Циклопические стройки на костях, противоестественная экономика, не удовлетворявшая потребности населения даже в самом необходимом, сквозная милитаризация и при этом абсолютная неподготовленность к войне, обернувшаяся миллионами жертв, – понятно, что стране, существовавшей в подобных категориях, потребна была и культура совершенно специфическая. Эпоха России как европейской страны скрылась за горизонтом, а если что и оставалось – например, здания дворцов да кое-где уцелевшие коробки церквей, то на фронтонах дворцов уже красовались алебастровые эмблемы нового времени, а в церквах размещались склады химических удобрений или ремонтировались трактора.
Но ложь, особенно государственная, не может быть вечной хотя бы потому, что она экономически невыгодна. Страна беднела, и ее правящий аппарат все больше слабел. И по прошествии десятилетий однопартийное зазеркалье где слегка сторонилось, а где уже и устало махало рукой.
Обычный человек мгновенно отличал драматургию от пропаганды, безошибочно распознавал честные книги и фильмы, в том числе и на исторические темы, и норовил ходить в музеи, где можно было увидеть не только маузеры и кожаные куртки комиссаров гражданской войны… И в театрах со временем вновь появлялся и Островский, и Чехов, и даже Булгаков. И печатался не только Покровский, но и Ключевский, а потом уже и Соловьев. И начали издавать Бунина, хоть и не всего, а лет через пятнадцать после войны кинорежиссеры вовсю взялись за Достоевского.
И начала понемногу приоткрываться заграница. Зажурчал ручеек иностранных туристов, жаждущих увидеть эрмитажного Рембрандта. И вдруг даже тем, кому казалось, что новый тип государства предполагает и какой-то новый вид культуры, как-то само собой стало ясно, что никакой новой культуры не видно, а непреходящие ценности существуют. И понятно стало, что среди художественных коллекций, пострадавших от революционных реквизиций и последующих приказных распродаж, еще полно сокровищ мирового значения и их надо беречь, а многое и спасать. И собрания уникальных предметов прошлого быта – мебели, одежды, посуды, картин, прикладного искусства, часто потерявшие имена своих изготовителей и хозяев, должны быть сохранены, и они ждут атрибуции. А еще стало ясно, что это бесценное наследство, созданное еще тогда, когда не было блюмингов и гидростанций, но тарелку или стул умели изготовить так, что они становились произведениями искусства, могут по-настоящему сберечь лишь очень немногие.
В стране, где задачей новой власти было оборвать историю и начать все с чистого листа, таких людей не могло остаться много.
Впрочем, таких специалистов никогда и нигде не бывало в избытке.
В Ленинграде же после гонений 1920-х, страшных 1930-х, блокадных 1940-х, специфических для Ленинграда 1950-х («Ленинградское дело») – таких специалистов остались лишь единицы.
История – это мир событий, происшествий, действий, имевших место в прошлом. Но это же и мир отношений между людьми прошлого. Кроме того, это мир материальный, предметный. И то, и другое, и третье – тесно между собой связаны, но для того, чтобы представить себе общую картину прошедших времен, мало его знать – прошлым надо жить…
Профессия человека, к которому можно обратиться за консультацией как к знатоку прошлого, не имеет, да и не может иметь четкого названия… Разве что – хранитель. Впрочем, должность будущего автора «Блокады» в самом большом музее нашей страны так и именовалась.
Мне, автору этих строк, редкостно, можно сказать, лотерейно повезло. В те сталинские десятилетия, когда в стране целенаправленно подвергалась разрушению сама материя не только исторической, но и семейной, особенно родовой, памяти, главой нашей семьи был историк. Он был братом моего отца, а в 1942, после гибели отца на фронте, меня усыновил. Когда в других семьях уничтожали семейные фотографии и портреты, жгли письма и семейные записи, в нашей семье этого не делали. Наверно, дядя шел на сознательный риск, а может, просто не поднималась рука. Областью интересов дяди являлась история именно русская, в значительной степени военная, ее XIX век. Звали дядю Владиславом Михайловичем Глинкой. Был он главным хранителем в русском отделе Эрмитажа, и это он в нашей семье не дал разорваться времени.
Вотчиной дяди в Эрмитаже была Военная галерея 1812 года.
Объем того, что по профилю своей профессии – русская военная история, дядя знал и не в чертах общих, а в собираемых десятками лет мельчайших подробностях, поражал даже самых дотошных специалистов. О чем бы он ни начинал рассказывать – о том ли, как сто лет назад напылялась на еще сырые гипсовые фигурки музейных солдатиков тонкая крошка нужного цвета сукна, о том ли, что общего между обувью «Медного всадника» и щеголеватыми военными сапогами 1930-х годов, о том ли, как ему дважды случалось переодевать знаменитую «Восковую персону», – слушатели замирали. Бывало, сняв очки, он щурился на поднесенную к самому глазу фотографию. И невозможно было понять, как на черно-белом снимке он безошибочно распознает не только цвета, но даже оттенки кантов, околышей, орденских лент.
Дружба была для него делом святым. Расценив действия одного из знакомых, как донос на друга, он навсегда порвал отношения с этим человеком. Зарабатывая в музее гроши, он, обремененный собственной семьей, не только усыновил нас с сестрой, когда мы во время войны остались без родителей, но еще и ежемесячно отсылал в деревню деньги своей старухе-няне до самой ее смерти. В семье постоянно гостили приезжающие из других городов друзья, дети друзей, на месяцы, а то и навсегда поселялись брошенные собаки и кошки. То в ссылку троюродному брату, то каким-то подопечным в костромскую глушь, где семья была в эвакуации во время войны, слались посылки: еда, одежда, книги. Для того чтобы тянуть этот все тяжелеющий воз, кроме службы в Эрмитаже, дядя непрестанно писал – ежевечерне и до глубокой ночи. После него остались научные труды – о галерее 1812 года, о пожаре Зимнего дворца, о способах атрибуции портретов неизвестных. Осталась и беллетристика, героями которой были реальные люди русского прошлого. Бестселлерами, возможно, из-за некоторого оттенка дидактичности эти книги никогда не были, но существовал твердый круг преданных читателей, поскольку из каждой книги можно было извлечь тысячи достовернейших сведений и деталей. Недаром, когда затеяли снимать в кино «Войну и мир», то выбор, кого назначить главным консультантом по историко-бытовым вопросам, пал на дядю, а незадолго до своей высылки из СССР Солженицын через общих знакомых тайно прислал ему на консультацию свой «Август Четырнадцатого». У меня хранится копия листков с десятками дядиных, чуть было не сказал, замечаний. Нет, это были не замечания, а, скорее, пояснения человека, любимой работой которого в течение всей долгой жизни был разбор и анализ даже не событий и явлений, а волокон прошлого. Дядя разъяснял или, точнее, показывал, как размещались в воинском эшелоне офицеры и как нижние чины; почему офицерам, попавшим в окружение в 1914 году, было бессмысленно надеяться сойти за нижних чинов, лишь сняв свои погоны и ордена; а также, что сломать о колено русскую шашку было невозможно.
Владислав Михайлович Глинка родился 6 (19) февраля 1903 года в городе Старая Русса. Семья была дворянской, служилой. Отец, Михаил Павлович Глинка, за четыре года до того окончил в Петербурге Военно-медицинскую академию. Впрочем, начинать молодость с военной службы было в семье давней традицией – дед Владислава служил на военном флоте, плавал на паро-парусных клиперах вместе с К. М. Станюковичем, прадед служил в гвардейских саперах, прапрадед и прапрапрадед – в драгунах. Может быть, отсюда, от сознания давности военного звания в своей семье, у будущего историка всю жизнь была такая приверженность к истории именно военной…
Семья его родителей не была богатой, жили на заработки отца. «Отец был врачом идейного типа, – писал В. М. Глинка впоследствии, – он шел на призыв больного в любой час суток, часто неся с собой не только лекарства и пищу, если мог предположить, что они нужны, но порой и деньги. Это совсем не значит, что отец при частной практике не получал гонораров от состоятельных пациентов, но у него никогда не было «таксы», а при выходе из его кабинета стоял глубокий керамический ковш, в который и опускали любую сумму, какую считали сообразной своим средствам. Мама моя была доброй помощницей отцу всегда и во всем».
Собственный дом Михаил Павлович смог построить только после двенадцати лет непрерывной врачебной практики. А практика была разнообразная: Свеаборгская военная крепость, деревня Будомицы Старорусского уезда, земская больница в Старой Руссе, казачья батарея на русско-японской войне, вновь старорусское земство, передовой перевязочный отряд на германском фронте. Отец возвращался с фронтов, снимал френч, но долго еще трое подрастающих сыновей доктора играли маньчжурскими открытками, австрийской каской, шнуром, снятым с револьвера. Осязание в собственных пальцах подлинных предметов другого, далекого быта – может быть, и отсюда протягивается ниточка к будущему работнику музея…
Был в доме и свой «литературный архив». Бабушка (мать матери Владислава) была вдовой известного в 1880–1900-х годах публициста Сергея Николаевича Кривенко, редактора «Русского богатства». В доме хранился архив из сотен записочек и писем. Здесь были автографы Тургенева, Салтыкова-Щедрина, Гаршина, Михайловского, Шелгунова, Плещеева, Короленко и многих других. Архив этот был для Владислава в отрочестве первым чтением ненапечатанных историко-литературных документов. Вероятно, он тогда еще не знал, кто такой Ленин, и того, что тот, чрезвычайно не любивший «народников», в своей работе «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов» посвятил первую часть ее Н. К. Михайловскому, а затем не оставил без сугубого внимания и деда, то есть С. Н. Кривенко.
Дмитрий Богданович Глинка (1763–1816), прапрадед В. М.
Константин Дмитриевич Глинка (1805–1859), прадед В. М.
Алексей Миронович Булатов (1805–1854), прадед В. М.
Павел Константинович Глинка (1842–1902), дед В. М.
Сергей Николаевич Кривенко (1847–1907), дед В. М.
Михаил Павлович Глинка (1872–1939), отец В. М.
Надя Кривенко, начало 1890-х годов
Владик, Миша, Сережа Глинки, 1905
Няня Елизавета Матвеевна Ложкина, 1903 год
Елизавета Матвеевна Ложкина, 1960-е годы
Миша, Сережа и Владик, 1906
Н. С. Глинка, 1910
М. П. Глинка. Полевой госпиталь, 1915
Н. С. Глинка с сыновьями. 1915
Н. С. Глинка. 1910-е гг.
Старая Русса, 1917
А. Г. Достоевская
Б. М. Кустодиев. Автопортрет
М. П. Глинка с сыновьями, 1917
М. П. Глинка. Худ. Я. А. Корнфельд, 1917
М. П. Глинка с сыновьями. Старая Русса, 1917
Владислав Глинка, 1918
Лидия Ивановна Павлова