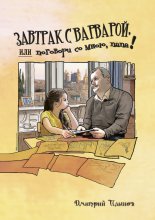Воспоминания о блокаде Глинка Владислав
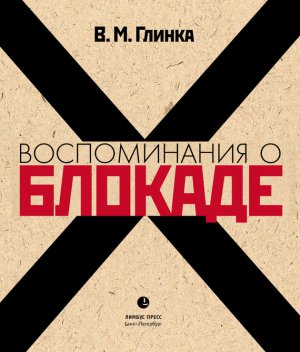
– А если кипяточком? А?!
Повар вырвался и, озираясь, быстро пошел к дверям. На скамейке рядом с его налитой шайкой остались мочалка и кусок розового мыла.
Я пробыл в мыльной еще довольно долго, но когда уходил, это розовое мыло так и оставалось лежать. Даже своим ангельским цветом этот кусок притягивал взгляды, особенно тех, кто только что входил. На него смотрели, о нем говорили, но никто к нему не прикасался.
28
Так сколько же людей умерло в те месяцы в Ленинграде? Только раз за все прошедшее с тех пор время где-то была названа цифра в 900 тысяч. И много раз назывались цифры меньшие.
А вот что я слышал по этому вопросу тогда, во время войны.
Осенью 1942 года я работал уже в Пушкинском доме. Там часто и ночевал. Но раза два в неделю приходил проведать свои комнаты на Басковом переулке. И отсюда иногда доходил до ГИДУВа, чтобы повидать Николая Николаевича Петрова, семья которого уехала в эвакуацию, а сын был в армии, и профессора хирурга Ивана Дмитриевича Аникина.
Кажется, уже с августа Николай Николаевич просил меня получать для него по доверенности деньги «за звание члена-корреспондента» в главном здании Академии, куда ходить только для этого ему было не с руки.
В тот день, о котором идет речь, я как раз получил эти деньги для Николая Николаевича. Встретились мы у подъезда ГИДУВа и вместе вошли в его пустую, большую и сумрачную квартиру. В комнатах было очень холодно. Николай Николаевич попросил домработницу после подать нам чаю, а сам положил несколько поленьев в печку и стал ее разжигать.
25 СЕНТЯБРЯ 1941. Проверка документов на одной из застав Кировского района. Фото А. Михайлова и В. Федосеева
Инженер-генерал Н. П. Петров. Архив семьи Петровых
Мы сидели вдвоем рядом за их большим и в мирное время таким гостеприимным обеденным столом, и я вынул конверт с деньгами и положил перед Николаем Николаевичем. Он рассеянно сунул его в широкий карман халата. Зная, как он рассеян во всем, что не касается его медицинского дела, я посоветовал ему переложить деньги в карман брюк.
– Да, да, конечно, это справедливо, – сказал он и послушно сделал то, что я советовал. Но я видел, что он занят своими мыслями. Дергая шеей из ворота рубахи, он мелко ломал хлеб и совал кусочки в рот.
– Ужасно, папенька! – вдруг тонким голосом совершенно невпопад сказал он и посмотрел на меня строго.
– Что «ужасно»?
– А то, что происходит. Вот был только что на совещании в Горздраве. И товарищ из городского статистического управления или отдела, не запомнил, огласил нам цифру умерших от голода и его последствий с ноября по сей месяц… Знаешь, сколько?
– Под миллион, – сказал я.
Такую цифру называли в кругу тех людей, где я вращался.
– Под два! Миллион девятьсот тысяч! Это же государство целое вымерло! Помню, как мой отец с возмущением говорил министру путей сообщения, что при постройке Суэцкого канала погибло 20 тысяч египетских феллахов, и бранил Лессепса за бесчеловечность…
Отцом онколога Н. Н. Петрова (имя которого носит Онкологический институт в Песочной, под Петербургом) был инженер-генерал Николай Павлович Петров (1836–1920), товарищ министра путей сообщения в 1892–1900 годах, автор фундаментальных трудов по теории гидродинамической смазки, теории машин и механизмов, участник строительства Транссибирской магистрали. В 1916 году генерала Н. П. Петрова, человека безупречной репутации, назначают председателем суда над военным министром Сухомлиновым. О генерале Н. П. Петрове см. в мемуарах С. Ю. Витте.
А тут же ничего не строили… Как-то даже не верится… Ведь это примерно столько мы потеряли за всю войну с 1914 по 17-й год! Но на фронте! На фронте! И за это Николай слетел… Просто не верится… Но этот товарищ вполне серьезный, ответственный. И еще он говорил, что это, мол, без тех, кто перешел из пригородов и не успел тут, что ли, прописаться… И без тех, кого фронт сюда отжал – мол, из Луги, из Пскова, да и из Прибалтики. А они, статистики, только прописанных в Ленинграде учитывают. Просто страшно, что делается… Как тут жить? Я кого ни хвачусь из старых сиделок и санитарок здешних – где, мол, они? Нет, отвечают, померли. Я, пожалуй, тоже уеду в Алма-Ату. И еще подумаю – возвращаться ли? И у тебя, наверно, много знакомых умерло?
От Петрова я зашел к Аникину. Он на время войны перебрался из своей квартиры в две комнаты в здании ГИДУВа. Взволнованный разговором с Николаем Николаевичем, я невольно заговорил на ту же тему с Аникиным.
– А интересно все же, как этот горстатотдел определил цифру умерших, – сказал я. – Вряд ли эти грузчики считали, сколько трупов грузят. Или на кладбище все же вели какой-то учет?
– Я думаю, что одним из возможных способов учета является количество выданных эвакодокументов, – сказал рассудительно Иван Дмитриевич. – Без них на большой земле не брали на довольствие. Вот вам цифра уехавших, которую надо вычесть из количества прописанных в городе перед войной. Другое дело, что, говорят, на той стороне Ладоги целые кладбища умерших после первого же обильного обеда… А теперь сопоставьте количество продуктовых карточек, выданных в городе на данный месяц, с цифрами, о которых мы сейчас говорили. Вот и получите результат… Да, – добавил он, – после такой зимы не просто будет жить в этом городе. У каждого из нас, если уцелел, на каждой улице, где жили и умирали знакомые и друзья, будут вставать они в памяти. У вас много умерло знакомых?
– О том же меня сейчас спросил и Николай Николаевич, – ответил я.
– Пока считать боюсь. Но и без счета знаю, что сотни. И притом все люди, которые не умели ни драться, ни бороться. Самые деликатные, скромные и ненужные во время войны – художники, скульпторы, артисты, музейные работники, экскурсоводы. Или старики, которые быстрее других теряют силы.
– Переехать бы в другой город, где не было такого неслыханного несчастья, – размышлял вслух Иван Дмитриевич, – Но просто ли это у нас и с нашими порядками? Я уверен, что Николай Николаевич этого не умеет. Все его дети здесь. И мои тоже. Жена с родичами и стариками. Звали меня два года назад в Саратов, кафедру давали, квартиру огромную… Большая река, большой город. Нет, не поехал. А из Ленинграда, мне кажется, первыми убыли те, кто уехал с заводами для перебазировки… На Урал или еще куда-то… А нам, кто был здесь, что остается? Работать. Куда денешься?
29
Но возвратимся к цифрам.
Прошло еще полтора года. В январе 1944-го, когда блокада была снята, в Ленинград впервые приехала группа англо-американских журналистов – корреспондентов, обычно находившихся в Москве. Им показывали начисто уничтоженное Лигово, из монументального наблюдательного пункта которого в стереотрубу, да и простым глазом окраина Ленинграда была видна, как на ладони. Возили к огромному немецкому солдатскому кладбищу в Красном Селе, к обгоревшим стенам Екатерининского и Павловского дворцов, вводили в полуобрушенный снарядом зал Кировского театра, показывали зачехленный шпиль Адмиралтейства и многое другое – о чем они строчили свои корреспонденции.
Вот к этой группе на все время ее пребывания в Ленинграде – дней на десять – были прикомандированы как бы представители ленинградского отделения Союза писателей В. М. Саянов и я. Трудно сказать, чем руководствовалось начальство в этом выборе, разве тем, что ни Саянов, ни я не говорили на иностранных языках, или тем, что за столом мы вели себя пристойно и не «ели с ножа». Мы были декорацией, мебелью, приложением, в основном бессловесным, к сопровождавшим иностранцев офицерам, которые ежедневно что-то им показывали. А также к группе стукачей в военной и штатской одежде, которые следили за тем, чтобы иностранцы видели только то, что было положено, и не входили в контакт с рядовым ленинградским населением. Дурацкая это была роль – одетый в военную форму майора Саянов и я в штатском – представляющих советских коллег, за каждым словом и жестом которых также следили бдительные очи и уши соглядатаев. Ведь по крайней мере половина иностранцев говорила по-русски, порой затевая с нами беседы, и уж понимали русскую речь, конечно, все. Так что порой приходилось притворяться глухими, глупыми или невнимательными.
И все же я благодарен судьбе за эти дни. Без них я не увидел бы картин полного разгрома немцев нашей армией. Журналистам представили огромную массу брошенной техники – орудий, грузовиков, автобусов, что говорило о почти паническом отступлении врага. Мы поднимались по узкой, освобожденной от мин тропке на Воронью гору у Дудергофа, где на бетонных платформах стояли уже полузанесенные снегом огромные 14-дюймовые орудия, обстреливавшие Ленинград. Около этих орудий были с немецкой аккуратностью выстроены тысячи снарядов, каждый из которых был заключен, как в футляр, в аккуратнейшую плетеную корзинку с двумя ручками для удобства подноса к орудию… И вот враг, который был так подготовлен, побежал… Впечатлений, наполнявших гордостью, было много…
Однако за то, как обслуживали наших гостей, не меньше было и стыда. Жили они в «Астории», и их завтрак, обед и ужин представляли собой лживую демонстрацию изобилия – икра, буженина, красная рыба, дичь, торты, пломбиры… А вино, водка – без ограничения.
– Зачем нам это? – сказал мне как-то английский журналист Александр Верт, бывший в этой группе за старшего. – Мы ведь знаем, что в городе выдают еще очень скудный паек.
Что я мог ему ответить? Верт, прекрасно владевший русским языком, почти ежевечерне доставлял приставленным к журналистам людям из «органов» массу хлопот и тревог. Когда после ужина все садились в номера за пишущие машинки, он, ускользнув из гостиницы по одной из черных лестниц, отправлялся странствовать по городу и разговаривал со встречными, слушая рассказы о блокаде. Мы-то с Саяновым после ужина получали право уйти, как и офицеры-экскурсоводы, а «наблюдателям» доставалась забота, как такого устеречь, а уж если не устерегли, то как выяснить, что тот углядел и что узнал?
Но все это, как говорится, несколько «в сторону». Накануне отъезда иностранных корреспондентов привезли в Смольный. Сначала некий артиллерийский полковник, указывая на огромный план Ленинграда, разъяснял, как подло по приказу вражеского командования дальнобойная артиллерия обстреливала мирное население именно в часы, когда люди шли на работу или возвращались с нее. Указывая точки, куда попадали снаряды, он сообщал цифры раненых и убитых – 27 тысяч человек.
Когда шли после этого по длиннейшим коридорам, Александр Верт сказал мне:
– Странно, почему эти варвары не выпустили по городу те тысячи снарядов, которые мы видели на Дудергофской горе? Чем вы это себе объясняете?
Я и сам думал об этом. При современных возможностях прицельного огня и пользуясь подробным планом города, немцы, казалось бы, могли буквально превратить в мусор целые кварталы. Почему же они этого не сделали? И даже в последние дни, когда наши оттесняли их и громили, и Ленинград был центром боевого снабжения, исходной базой, откуда или через который шли войска?
И я ответил то, что единственно приходило мне в голову:
– Потому что они были уверены в победе и хотели захватить город, не разрушив его. А потом прорыв нашей армии оказался таким неожиданным, что они бросали все. Вы же видели в Красном Селе трофеи первых дней наступления?
А потом нас провели в небольшой лекционный зал, где по просьбе корреспондентов была устроена пресс-конференция председателя Ленсовета П. С. Попкова. Рядом с Попковым сидел еще какой-то бессловесный товарищ, роль которого заключалась лишь в том, что он на слова Попкова кивал в подтверждение. Зато его шеф развернулся во всю мощь. Надо сказать, что как раз в это время маннергеймовская Финляндия при помощи, кажется, Штатов, разочаровавшись в союзниках-немцах, пыталась сепаратно выйти из войны. Это почему-то не устраивало наше правительство, и когда речь зашла о жестоких обстрелах города, Попков стал утверждать, что и финны «непрерывно громили город тяжелой артиллерией». Для нас с Саяновым такие речи не были новостью. Все те дни то же самое было вменено говорить и всем тем, кто сопровождал иностранцев. Это было до крайности глупо – ведь в городе на домах журналисты видели множество надписей: «При обстреле эта сторона улицы наиболее опасна». И всегда это была сторона, обращенная к западу, то есть к немцам. Вероятно, именно поэтому артиллерийский полковник умолчал о финнах.
Но мало того. Когда в ходе беседы один из англичан спросил, правда ли, что в Ленинграде умерло больше пятисот тысяч человек (позднее Сталин официально называл цифру – шестьсот), Попков с какой-то свойственной ему кривой ухмылкой, не задумываясь, ответил:
– Эта цифра во много раз завышена и является сплошной газетной уткой…
Через минуту на вопрос о снабжении населения во время блокады коммунальными услугами он ответил с той же улыбочкой:
– Подача электроэнергии и действие водопровода в Ленинграде не прекращались ни на час…
При этом Попков щеголял нарочито простонародным говорком, сообщив, что отец его был «столяр-краснодеревщик», а сам он закончил ЛИСИ – этот «бывший институт гражданских инженеров». Очевидно, хотел подчеркнуть, что, и получив высшее образование, остался близок к рабочему классу.
Конечно, в Смольном и, вероятно, у него на квартире было и светло, и тепло, и вода текла из кранов, в то время как жители города ели столярный клей, варили ремни, меняли семейные реликвии на керосин и гарное масло, ходили с бидонами и чайниками за водой к прорубям и водоразборным колонкам, вокруг которых нарастали ледяные горы…
Карандаши иностранных журналистов бегали по страницам блокнотов. Но что, слыша такие ответы, они думали? Ведь большинство корреспондентов всю войну работало в Москве, они мотались по фронтам и, повторяю, хорошо, а некоторые и блестяще знали наш язык. Они, несомненно, беседовали со многими эвакуированными из Ленинграда в Москву и другие места.
Во всяком случае на другой день после прихода в Смольный Александр Верт, как бы невзначай, показал мне в качестве иллюстрации фотографию. Это был портрет дистрофика. Ввалившиеся щеки и выражение страшной, гипнотической пристальности в глубоко запавших глазах были мне более чем знакомы. На фотографии стояла цифра – «1943».
В 1973 году, вернувшись из туристской поездки в Англию, я рассказал дяде о том, что в Тауэре между могил казненных по приказу Генриха VIII его жен бродят по газонам вороны, и во время войны из обитателей Тауэра военные пайки, как сказал экскурсовод, получали только эти семь воронов и Рудольф Гесс, сидевший здесь, как военнопленный. И что, оказывается, в Англии в военное время было лишь два типа пайков – военный и гражданский.
– Да, – сказал дядя. – О том, что у них было только два типа пайков, я слышал от одного английского журналиста еще во время войны. И Черчилль, по его словам, как в это время не военный, военного пайка не получал.
Впрочем, Попкову, казалось, было все равно – верят ему или нет. Но этот цинизм не был характерной чертой именно Попкова или его референта, сидящего рядом. Это было лишь очередным штрихом картины, уже ставшей обычной. И через пять лет люди, которые были назначены судить Попкова по «Ленинградскому делу», вероятно, могли улыбаться такой же кривой улыбочкой, а правдивы или лживы слова обвинения, следствием которых было вынесение ему смертного приговора, никакого значения для них не имело.
Но, возвращаясь к тому, сколько жителей города погибло тогда, в первую блокадную зиму, хотелось бы знать, фигурирует ли сейчас хоть где-то та цифра, что была названа на совещании Горздрава осенью 1942 года в присутствии академика Петрова? Или она похоронена в секретных архивах вместе с «Ленинградским делом» в 1950 году?
А в объяснение того, как жилось в самое суровое время Петру Сергеевичу Попкову, вот что я услышал летом 1943 года – за полгода до прикомандирования к группе журналистов.
В июле 42-го года я был принят в Союз писателей, и это дало мне право посещать столовую Дома писателей на Воиновой, 18, где давали неплохие обеды, выстригая за это кое-что из пищевых карточек. Мы ходили туда из Пушкинского Дома с В. А. Мануйловым поочередно. Один день он ел обед на Воиновой и нес два на Тучкову набережную – своей матери и мне. Другой день я ел на Воиновой и нес ему и Ольге Викторовне. На участке этого маршрута от Дома писателей до Кировского моста и обратно мой путь часто совпадал с путем Натальи Васильевны Крандиевской-Толстой15.
Когда во время обеда кто-то представил меня Наталье Васильевне, а затем мы в другой раз вышли вместе из Дома писателей, я напомнил ей о том, как несколько лет назад она дала мне возможность говорить с Б. П. Позерном.
– Ах, боже мой! А я все думаю, где я вас видела раньше… Какова судьба вашего музея?
Я рассказал о нашем переходе в Эрмитаж и спросил ее в свою очередь, в прежней ли квартире она живет и что у нее теперь за соседи?
– Соседи из того же круга. Например, Попковы.
И вот, не помню в этом разговоре или в другой раз, когда разговор зашел об этом ее соседе, Наталья Васильевна сказала мне, что в самые страшные блокадные месяцы Попков, возвращаясь из Смольного, привозил своему коту двести граммов свежего мяса.
Добравшись в рукописи В. М. до этого места, я решил, что предыдущие строки надо все-таки прочесть кому-либо из тех, кто знал Н. В. Крандиевскую-Толстую. На Карповке, в квартире Толстых к телефону подошла Наталья Михайловна, вдова Никиты Алексеевича Толстого (сына Н. В. Крандиевской-Толстой). Я еще ничего не успел прочесть, только назвал фамилию Попкова.
– А-а… Это тот деятель… – сразу сказала Наталья Михайловна, – который в блокаду сухой хлеб в помойное ведро на лестнице выбрасывал? А что вас по поводу него интересует?
Наталья Васильевна была человеком правдивым. Да такого и не придумаешь. Попков расстрелян, как враг народа, как глава какой-то «Ленинградской антипартийной группы», что на их языке является синонимом заговора. Теперь, впрочем, реабилитирован. Вот и весь партийный сказ. Борьба за власть, чистки, расстрел. Потом приказали считать, что расстреляли ошибочно. Напрасно, якобы. И никто не вспомнил о ежедневных 200 граммов свежего мяса для кота.
А что такое были эти 200 граммов мяса в те месяцы? Гарантия жизни целого семейства, вот что. А сколько было этих больших и маленьких Попковых? Обобщим их сонм типажом Романа Артемьевича.
Март 1942. Председатель Ленсовета П. С. Попков на собрании управхозов поздравляет награжденных. Фото Б. Уткина
А. Н. Изергина
Академик И. А. Орбели
Н. В. Крандиевская-Толстая. Фотоархив семьи Толстых
После рассказанного Натальей Васильевной мне легко поверить рассказу одного моего приятеля – полковника, работавшего в штабе Ленфронта, – о том (он говорил это шепотом, хотя мы были в комнате одни), что в самое страшное время, когда умирали сотни тысяч людей, для тов. Жданова на территории Смольного в подвале или еще где-то был оборудован теннисный корт, чтобы Андрей Александрович мог «сохранять форму». Что же, вполне вероятно. Посмотрите на фотографию Жданова в июньском номере журнала «Ленинград» за 1942 год и вы поверите в это.
Когда я вступил в Союз писателей, секретарем его состоял И. К. Авраменко, тощий до чисто блокадного предела, несмотря на майорское лётное звание. Видимо, с кем-то делился своим командирским пайком. Но до него этот «пост» занимала В. К. Кетлинская, бесконтрольно распоряжавшаяся посылками, приходившими на Союз писателей с «большой земли». Ее перу принадлежит лживая книга «В осаде», но здесь речь даже не о книге. В январе 1942 года, в то время когда вокруг от голода и холода умирали писатели и не писатели, Кетлинская праздновала свою свадьбу с А. И. Зониным, состоявшим в группе писателей при Политуправлении Балтфлота. Квартира Кетлинской находилась в «писательском» доме, канал Грибоедова, 9, и множество людей слышали в этот январский день из квартиры Кетлинской звуки патефона, шарканье танцующих, а по коридору разносились запахи вкусной пищи. Это так чудовищно, что в это трудно поверить… Впрочем, этот брак был и прерван не менее символично. В 1950 году на общем собрании писателей В. К. Кетлинская публично отреклась от своего мужа, который незадолго перед тем был арестован по политической статье. Она клялась, что он обманом, «как змея» (честное слово, именно так!), проник ей в сердце, что она проклинает тот день и час, когда с ним сблизилась. И так далее… Нельзя не отметить, что для Веры Казимировны публично отрекаться от близких было не впервой. От своего отца Казимира Филипповича Кетлинского, командира крейсера «Аскольд», произведенного при Временном правительстве в контр-адмиралы и убитого в 1918 при неясных обстоятельствах, она отреклась еще раньше.
Возвращаясь к теме блокады, думаю, что оправданным будет объединить в один ряд эти упомянутые Натальей Васильевной Крандиевской-Толстой 200 граммов свежего мяса, секретный теннисный корт и свадьбу в январе 1942 года.
Блокада со страшной ясностью выявила расслоение по принципу: человеческое – и нечеловеческое.
Должен, однако, добавить, что все-таки не во всех учреждениях в это страшное время условия жизни и питания начальства столь разительно отличались от подчиненных. Могу заверить, что в Эрмитаже все были равны. Академик И. А. Орбели, безоговорочным апологетом которого я отнюдь не являюсь, был предельно чист в этом смысле.
Скажу еще раз – тема моих воспоминаний не только позволяет, но даже обязывает это настойчиво повторить – в месяцы самого страшного голода, в которые до середины марта 1942-го Орбели находился в Ленинграде, наш директор был на высоте. Он был худ и бледен, как все мы, то есть не пользовался украдкой особыми видами питания. А если и имел что-то дополнительное – то отдавал это, чтобы распределялось его женами. В эти дни около него были Мария Кироповна – первая его, старшая жена, оставшаяся верной и справедливой; Камилла Васильевна Тревер – долголетняя возлюбленная и сотрудница, которую он провел в члены-корреспонденты Академии наук, и Елизавета Николаевна Ненарокова, с которой он, будучи в эвакуации, зарегистрировался (впрочем, через два года он женился на эксцентричной Антонине Николаевне Изергиной16).
Итак, в эти страшные месяцы Иосиф Абгарович вел себя в высшей степени достойно – был деятельным директором Эрмитажа, создал в нем ряд бомбоубежищ, в которых эрмитажники, не выходя, могли постоянно находиться. И жил, как все мы или почти, как все, и покинул Ленинград когда основные ценности Эрмитажа были в безопасности, т. е. находились в далекой эвакуации.
Улетая в эвакуацию в марте 1942 года, он был худ и желт, как те, кто оставался, чтобы умереть или чудом выжить.
30
Читатель вправе спросить – зачем рассказу о блокаде я предпослал длинное повествование о судьбе какого-то ничтожного организма, музейного Отдела, кочевавшего из музея в музей целое десятилетие, вплоть до 1941 года?
Во-первых, о самом читателе. Если бы я не надеялся, что у этой рукописи, пусть через много лет, будет читатель, я бы не трудился над ней много месяцев. Когда я начал в начале семидесятых, лжи о блокаде уже накопилось достаточно, и у меня появилась потребность сказать страшную, но полную правду хотя бы об увиденном одним человеком. А в судьбе Отдела, пусть ничтожной не только во вселенском масштабе, но даже по ленинградским меркам, мне кажется, отразилась наша система безответственного отношения к культуре, унижавшая даже достоинство государства. Тов. Гуревич «выбросил» из вверенного ему Русского музея наш Отдел под предлогом необходимости разместить на его месте произведения советской, новой живописи. Пусть через год его самого выбросили из Русского музея, но ведь до этого никто не остановил его преступные действия в 1934–35 годах… Более того, он получил поддержку в верхних сферах, в секретариате Союза художников. Логически представим себе, что подобное сделали бы Бенуа, Репин, Сомов… Получила ли поддержку тов. Гуревича и новая формация художников, которые хотели быть показаны в Русском музее? Никого, как выяснилось, это даже не интересовало.
Умолчать же о судьбе ИБО я не могу, потому что с ним связана судьба моих друзей и товарищей, его сотрудников. Я сказал уже где-то, что тени их, не пропадая, постепенно с годами все же отступали и не стояли уже передо мной так настойчиво, как первые годы. Но вовсе они не уйдут, пока я жив. Они всегда со мной, и память о них для меня дорога, а если не бояться слов, то и свята.
Я рассказал, как умел, о тех, с кем был дружен – о Михаиле Захаровиче Крутикове и о Валентине Борисовиче Хольцове. Но ведь кроме них судьба нашего Отдела, приобретения его коллекций, мучительные его путешествия до переезда в Эрмитаж, а затем подготовка экспозиций и выставок составляли главное содержание жизни десятков и сотен людей, многие из которых также спят на братских блокадных кладбищах, – А. Я. Труханова, А. А. Пигорева, И. А. Ростовцева, Н. Ф. Понтошкина, С. А. Юдина.
О каждом и о каждой из них как о примере скромности, честности и чистосердечия я не хочу и не могу забыть.
Софья Алексеевна Юдина была племянницей известного живописца и прелестного по скромности и доброте человека – Аркадия Александровича Рылова. Кто не знает его «Зеленого шума» и чудесных вятских пейзажей? Именно от Аркадия Александровича я слышал о том, что, окончив институт Репина (назывался тогда по-другому), Софья Алексеевна отлично писала маслом, в частности, натюрморты – хрусталь, стекло, цветы, фрукты – то, что писал Кальф и другие голландцы. И вот, увидев такой ее холст у Аркадия Александровича, некий предприимчивый коммерсант-антиквар, не посоветовавшись с Рыловым, предложил Софье Алексеевне давать на продажу за хорошие деньги свои работы, с тем чтобы она писала на старом холсте, набитом на старые подрамники, а он – «коммерсант» – будет продавать это под названиями «старых мастеров» – пусть такое искусство забавляет чудаков! Софья Алексеевна не только отвергла это мошенническое предложение, но, мало того, вскоре и вовсе перестала писать. На вопрос дяди ответила, что не будет больше писать никогда. Мол, художник – это тот, кто может создавать что-то именно свое, ему одному свойственное. А она не может. Делать же натюрморты «под кого-то» не станет. И больше не брала в руки кисти. И самому Аркадию Александровичу убедить ее не удалось – так и не отступила от своего решения. Сказала, что и до предложения антиквара думала бросить живопись, а теперь стала просить дядю пристроить ее куда-нибудь на канцелярскую работу в музей. При посредстве Владимира Константиновича Стоковского – приятеля Рылова – она и попала в инвентаторы ИБО. Я застал ее вечно склоненной над толстыми книгами, в которые она вносила разборчивым аккуратным и красивым почерком описи предметов, их основное, первое описание и размеры, для чего требовался внимательный осмотр каждой вещи. Была она при этом серьезна и спокойна. В описании чувствовались интеллигентность, образование, умение видеть главное. Работала она, буквально ни на минуту не отвлекаясь. Да и во время перерыва, когда все сотрудники садились за чайный стол, оставалась так же молчалива. А еще из черт ее натуры могу вспомнить, что Софья Алексеевна сразу отзывалась на все, что могло походить на несправедливость к кому-нибудь. И на грустное и неправдивое она так же остро отзывалась, и не раз я видел, как ее лицо искажалось болью, вот-вот заплачет. Удивительно ли, что этот нежный, искренний, кристально чистый и остро чувствовавший человек умер в блокаду? Мне говорил кто-то, что Софья Алексеевна перед смертью повредилась в рассудке. Я в это верю. Такой, как она, идеалистке увидеть то, что нельзя было не увидеть блокадной зимой, было не под силу. Многие перед смертью сходили с ума от того, что видели. Жила Софья Алексеевна с семьей брата, члена Союза композиторов. Она мало о нем говорила, но редкие слова ее о нем были полны любовью – застенчивой, нежной, само слово «брат» она произносила так, что нельзя было не понять, как она к нему привязана. Раза два я слышал, как он играет, мило и не очень верно напевая. Не знаю, был ли он в своем творчестве по искренности подобен ей. Но он, несомненно, так же, как и она, был не способен бороться с голодом, выгадывать, менять что-то на толкучках и рынках, ловчить. Вся семья композитора Юдина вымерла в блокаду и с нею чудная его сестра Софья Алексеевна.
Образ художницы, отказавшейся писать из опасения, что ее работы могут послужить целям обмана, возвращал и возвращал мои мысли к себе, и при очередном посещении архива Эрмитажа я заказал дело Юдиной. Имя Софьи Алексеевны в картотеке значилось, но папки не было, был лишь конверт, и в этом коричневом конверте с ее именем, похожем на письмо, оказалось всего две бумажки. Одна была обычная, то есть для отдела кадров (или от отдела кадров): родилась в 1895, окончила Академию художеств в 1925… Необычной была вторая бумажка. Из нее следовало, что 16 июня 1945-го, то есть через три с половиной года после того, как, помутившись от голода рассудком, Софья Алексеевна скончалась, она была награждена медалью «За оборону Ленинграда». При этом слова «посмертно» не было, то есть награждена она была, как продолжавшая жить…
Как это так? Не знали, что умерла? Забыли, что жила, а потом забыли, что умерла? Или посреди апокалипсиса массовой смертности было не до отдельного имени? Как бы то ни было, но коричневый конверт, в котором содержится извещение о награждении Софьи Алексеевны, это, конечно, последнее письмо к ней из того мира неправды, которого она так сторонилась при жизни…
Также целиком погибла и семья сотрудника ИБО Ивана Александровича Ростовцева. Он, жена и сын Саша – все трое умерли. Вот, читатель: Трухановы, Юдины, Ростовцевы – три семьи друзей, работавших в одном отделе, вымерли полностью. А сколько еще было таких семей? И что за дело было до них Попкову, объяснявшему иностранному журналисту, как обстояло дело в героическом Ленинграде.
31
И завершить эту главу воспоминаний мне хочется страницей о человеке, чьи знания, склад натуры, образ жизни и судьба, являясь совершенно индивидуальными, тем не менее представляются в значительной степени характерными для той группы людей недавних десятилетий, которые в моем сознании соединены с понятием – музейный работник.
Среди музейщиков старшего поколения, с которыми сводила меня судьба, одним из наиболее цельных и привлекательных, по моему мнению, был Михаил Васильевич Доброклонский. Я познакомился с ним в 1932 году, когда работал в Гатчинском дворце-музее, устраивая так называемую «дополнительную экспозицию» в парадных комнатах Александра III. Мне хотелось включить в нее изображения тех, кто постоянно мелькал на фоне этих стен. То есть наиболее ярких министров-докладчиков: Воронцова-Дашкова, Гирса, Ванновского, начальника охраны Черевина, придворных служителей.
Как сказала мне работавшая больше десяти лет в Гатчинском дворце Серафима Николаевна Балаева, портреты этих лиц, выполненные мастерским карандашом Зичи, хранились в отделении рисунков Эрмитажа, которым заведовал Доброклонский. С просьбой временно выдать их мне для выставки я и отправился к нему, сидевшему, как мне указали, на галерее над Двенадцатиколонным залом. Поднявшись по чугунной гулкой лестнице, я был направлен сидевшим около ее верхней площадки пожилым служителем – тогда еще такие состояли при всех отделах Эрмитажа – к столу Доброклонского, стоявшему слева, у окна, выходящего на канавку.
До этого дня я не знал Михаила Васильевича в лицо. И первое впечатление, которое никогда позднее не менялось, было чрезвычайно приятным от внешности и манер внимательно выслушавшего меня человека. Лицо было хорошо выбрито, с правильными, довольно крупными чертами, без румянца – лицо кабинетного человека и, что главное, с чрезвычайно спокойным выражением. Над широким, в меру высоким лбом тщательно причесанные на боковой пробор довольно светлые и очевидно мягкие волосы. Под стать лицу были и неизменно серые костюмы Михаила Васильевича – однобортные «тройки» с тонкой золотой цепочкой по жилету. Более темные с осени до весны, более светлые летом. Рубашки всегда белые, галстуки серые же или темно-синие. Как я тогда и позже воспринимал, наружность Михаила Васильевича была предельно джентльменской, как равно речь и жесты. Все скромное, сдержанное, хорошего вкуса, с неизменным достоинством и доброжелательностью даже к такому малозаметному, как я тогда, собеседнику. И всего этого как раз в меру. Я воспринял это, как выражение сдержанного характера и хорошего воспитания.
Рекомендовавшись, я получил рукопожатие и приглашение сесть напротив, причем Доброклонский опустился в кресло только одновременно со мной. При этом он, не спеша, отложил в сторону какую-то миниатюру, как бы давая понять, что будет со вниманием слушать меня, человека лет на двадцать его моложе. Выслушал, сказал, что полагает исполнение моей просьбы вполне возможным, и сам проводил к шкафу, из которого служитель, разумеется с моей помощью, извлек нужную папку. Попросил пока не откладывать те, что понадобятся, и оставил меня рассматривать и отбирать. Через час, насладившись отменно выразительными рисунками Зичи, чуть утрировавшего особенности лиц и фигур своих моделей, я возвратился к столу Михаила Васильевича и подал ему список.
Бегло взглянув на мой листок, Доброклонский повторил, что, вероятно, передача не встретит препятствий, и просил прийти через неделю, принеся доверенность на получение рисунков. И попутно сообщил мне, что вся эта серия является подготовительной работой к большой неосуществленной акварели «Коронация Александра III». Эти сведения были для меня важны, они объясняли, почему все изображения в полной парадной форме, и почему среди них я не нашел портрета Витте, еще не ставшего министром. Так, походя, Михаил Васильевич одарил меня полезными сведениями.
Когда я пришел во второй раз, оказалось, что разрешение выдать мне рисунки получено и акт о передаче подготовлен. Я подписал его, и пока служитель упаковывал переданное в папку, Михаил Васильевич сказал мне, что помнит, как лет восемь назад я приходил в одну из комнат отделения гравюр, выходящей на Неву, слушать едва ли не последний доклад Александра Николаевича Бенуа перед отъездом того за границу о пригородных дворцах-музеях. Воспоминание об этом докладе само по себе стоит записи, но сейчас не о нем мой рассказ. Я высказал удивление, как мог Доброклонский запомнить мою более чем скромную особу: я сел тогда сзади всех слушателей у самой входной двери. И услышал, что был единственным слушателем этого доклада – не сотрудником Эрмитажа, притом одет в студенческую университетскую тужурку дореволюционной формы и слушал очень внимательно. Михаил Васильевич заметил тогда, что привел меня на этот доклад его друг Сергей Николаевич Тройницкий, потом спросил обо мне и запомнил фамилию.
Такой рассказ был мне очень приятен по двум причинам. Во-первых, года за два до этого Тройницкий, как знали многие музейные работники, был выжит из Эрмитажа, главным образом стараниями ненавидевшего недавнего директора Иосифа Абгаровича Орбели. Многим, и мне в том числе, было непонятно, как лица, санкционировавшие это увольнение, могли забыть, что десять первых лет существования советской власти Сергей Николаевич с честью возглавлял Эрмитаж. Что именно он в 1917 году провел эвакуацию его коллекций в Москву, а в 1921 в еще более трудных условиях руководил возвращением их в Петроград, размещением в прежних хранилищах и частично в ряде выставок уже в залах Зимнего дворца, начав новую эру жизни Эрмитажа. И уж все знали, что если бы Тройницкий со своим блестящим знанием европейского искусства уехал в середине 1920-х годов за рубеж, как сделали Эрнст, Бенуа и другие, то жил бы там припеваючи. И вот не сделал же этого! А теперь он работал экспертом Внешторга по антиквариату, в каком качестве появлялся в пригородных дворцах, отбирая то, что отправлялось в Европу, проданное за иностранную валюту, необходимую, как объяснялось, для индустриализации страны.
– Вот какой подлец – помогает разбазаривать наше национальное сокровище! – возмущались многие.
Но я, например, знал, что, приезжая в Гатчину, Тройницкий советовался с Серафимой Николаевной, что можно взять из запасов и чуть «разрядить» китайскую галерею для удовлетворения требований Внешторга. Ну и что же тут позорного? Мы-то, работники пригородов, знали, что который год каждый квартал финорганы спускают во все дворцы план, на какую сумму надо выделить так называемых «госфондов» для продажи по весьма низким ценам всевозможных предметов царского обихода: сервизов, люстр, мебели, ковров – на внутреннее употребление, в основном конечно крупным советским чиновникам. И при этом никто не спрашивал, что об этом думают хранители.
Я много раз слышал, как шипели на Тройницкого, будто взялся чуть не за предательство. И мне было радостно, что Михаил Васильевич назвал его, не таясь, своим другом. Значит, верит ему и в новых обстоятельствах, не обвиняет огульно, как другие, в большинстве, я был уверен, с голоса Орбели.
А во-вторых, не скрою, мне было очень приятно, что через столько лет он, один из самых видных работников Эрмитажа, помнит мое имя.
Таково было наше знакомство с Михаилом Васильевичем, после которого несколько лет мы только раскланивались. Если не ошибаюсь, в 1938 году я услышал, что по представлению Эрмитажа о присвоении ученых степеней без защиты один Доброклонский по сумме напечатанных работ признан доктором искусствоведения. И меня это очень порадовало, он соответствовал моим представлениям о настоящем ученом. Хотя ни одной работы его я тогда еще не читал: все они были о западноевропейском искусстве, до которого я так и не дорос.
А когда ранней весной 1941 года тот отдел Музея этнографии, в котором я работал, влился в Эрмитаж, была образована комиссия по разбору всех наших собраний. Требовалось определить, что из них достойно включения в инвентарь Эрмитажа, а что выделяется в так называемый Музейный фонд, из которого черпали нужное им провинциальные музеи.
Мне довелось показывать живопись и рисунки М. В. Доброклонскому и В. Ф. Левинсон-Лессингу. Оба эти знатока почти всегда сходились во мнениях, без подсказки называя и русских авторов, но нередко огорчали меня, безоговорочно бракуя то, что мне казалось стоящим сохранения в Эрмитаже. Посмотрев на предмет, они роняли равнодушно: «Подражательно… Сухо и скучно… Слабый рисунок… Повторение такого-то…» И после этих оценок я, услышав их аргументы, в большинстве случаев не мог не признать их правоты. А иногда их слова как бы заново открывали мне сущность давно известного изображения. Так случилось, например, с двумя рисунками Куртейля, долго висевшими на выставке «Труд и быт крепостных», по которой я водил экскурсии в 1928–30-х годах. Это были оплечные портреты крепостных актрис. Одна из них была изображена, очевидно, в роли Клеопатры. Лицо, повернутое чистым фасом, волосы, разделенные над срединой лба двумя симметричными волнами, увенчаны диадемой, брови скорбно сведены, взгляд устремлен вверх, губы полураскрыты, будто произносят монолог. А в руке, близ груди, голова змеи, готовой ужалить. Другая изображена в три четверти с несколько поникшей головой в прическе по моде времён Директории. Опущенный взор, мягкие очертания как бы усталых черт.
Всмотревшись в них – я поставил их, наклеенных на картон, рядом, – Михаил Васильевич сказал, обойдясь без моей подсказки:
– Да это наш старый знакомый Куртейль! Приятные, выразительные рисунки, хотя слегка выцвели и зря покрыты лаком. Прочтите, пожалуйста, что у вас о них записано…
Я прочел строки из нашего инвентаря.
Подготовка к выставке в Эрмитаже. Справа М. В. Доброклонский. 1944 год. (Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург)
М. В. Доброклонский
– Все так, – сказал Владимир Францевич. – Только, по-моему, это не два различных лица, как у вас сказано, а одна и та же женщина. Одна в роли, другая в жизни, вне сцены.
– Пожалуй, – подтвердил Доброклонский. – Там хорошо выражен трагический пафос предстоящей тирады. А тут усталость, женственность и поникшая подневольность… Веришь, что эта бедняжка – крепостная…
И я увидел, что они правы, хотя два года выдавал эти рисунки за портреты двух различных лиц, и никто мне ни разу не возразил. Но черты лица и вправду были так схожи… Да, надо уметь видеть!
Эти замечания запомнились мне потому, что под их влиянием я стал фантазировать о том, что Куртейль был, наверно, в эту женщину влюблен. Ведь она, чтобы стать актрисой на главные роли, получила какое-то образование, как это бывало у Шереметевых при графе-меломане Николае Петровиче. Ей подробно втолковывали роли, чтобы играла, осмысленно передавая чувства героинь. А, может, была возлюбленной барина, и он заказал запечатлеть ее в обеих ипостасях ее бытия. Но любила ли она этого барина или художника? Или ее судьба сложилась вроде героини тупейного художника Лескова? И как же, как же нелепо, что не нашлось талантливого писателя, чтобы взяться воссоздать историю Прасковьи Ивановны Жемчуговой? Талантливого и добросовестного писателя, который сумел бы перешагнуть через полтораста лет, стать знатоком состава, вкусов и быта московского и петербургского «света», музыки, театральной техники и европейской культуры конца XVIII века. Вспомнить хотя бы переписку Николая Петровича Шереметева с виолончелистом парижской оперы Ивором о музыкальной жизни Франции… Переписку, при чтении которой слышишь не только послушные композитору звуки лучших в Европе голосов и скрипок, но и паузу, во время которой до тебя дойдет шелест переворачиваемых на пюпитре нотных страниц и чей-то кашель в зале…
Словом, благодаря разговору двух мэтров, моя фантазия с новой силой вернулась к одной из прекрасных теней русского музыкального театра с ее удивительной судьбой. При этом я всегда знал, что никогда не соберу тех знаний, без которых эта книга будет подобна сотням плохих подделок под якобы увиденное автором прошлое. Знал и то, что не обладаю нужным талантом, который бы тронул читателя так же, как тронуло меня то, о чем думал. Но ведь огромное счастье и в том, что сам увидел прошлое в его красоте и уродстве, в горе и счастье. И чего стоит хотя бы такой персонаж этого ненаписанного романа, как столь неказистый внешностью и высокий душой и талантом Джакомо Кваренги, восторженный поклонник музыки, созданной лучшими композиторами и удивительным голосом Прасковьи Ивановны!
Вот как надолго заняли меня воспоминания о мимоходом сказанном Михаилом Васильевичем и Владимиром Францевичем. Но ведь те, что дарят нам случайно оброненные слова, также входят в воспоминания о людях. Тем более что это было в последние два-три месяца жизни, сравнительно беззаботной по сравнению с тем, что пришло в июне того года. И этот рубеж навсегда положил конец моим все-таки где-то теплившимся надеждам о создании книги о шереметевском крепостном театре…
О работе тех дней у меня сохранилось воспоминание о том, как по-разному, даже если говорить о манере разглядывания, исследовали Владимир Францевич и Михаил Васильевич заинтересовавшие их рисунки. Первый при этом приподнимал очки и едва ли не водил носом по бумаге, а второй, наоборот, отодвигал от себя предмет, но смотрел на него немного вниз и боком, как бы через нижнюю часть бифокальных очков.
Вскоре после конца разбора наших коллекций я был в одной из зал представлен Михаилом Васильевичем его жене Олимпиаде Дмитриевне, работавшей в отделении прикладного искусства Запада. Эта приветливая пожилая дама с живыми глазами и доброй улыбкой сказала, что уже знакома со мной со слов мужа. Что уж мог Михаил Васильевич рассказать? Разве что я издавна знаком с Сергеем Николаевичем Тройницким, что внимательно выслушивал их с Владимиром Францевичем оценки материалов, которые им показывал, да что, наконец, до некоторой степени умею себя держать со старшими по возрасту и по знаниям людям. Что ж, и это, слава Богу.
В это же время я от кого-то из товарищей узнал, что у Доброклонских есть двое сыновей – Дмитрий и Логгин, в просторечии Дима и Лога. Что старший из них перешел на второй курс искусствоведческого факультета института Репина, и уже напечатана его статья о… (тут в рукописи пропуск. – М. Г.), а младший только что окончил школу и поступил в тот же вуз.
Старшего из них я, кажется, даже не видел. Ну и хорошо. Когда началась война, мы все с раннего утра дотемна паковали ящики с эрмитажными коллекциями, а по городу шло формирование ополчения. Кто из живших тогда не помнит этого бессмысленного и преступного мероприятия? Когда десятки и тысячи юношей и пожилых штатских людей «обучали» 10–20 дней и, вооружив старыми трехлинейками и бутылками с горючим, бросали в бой с наступавшими вооруженными лучшей техникой того времени немцами… Чем, кроме невежества, безответственности и безжалостного расхода людских жизней, можно объяснить эту меру? При этом гибли тысячи молодых научных работников, инженеров, студентов. А ведь их, даже тех, кто окончил хотя бы семилетку, так легко было бы через четыре месяца превратить в младших офицеров пехоты, а не слать на немедленную, верную гибель, при этом без малейшего вреда врагу. Два кадровых офицера, прошедших всю войну, говорили мне впоследствии, что под Ленинградом ополченские части гибли почти поголовно, не принося и малой пользы обороне, а даже являясь, скорее, ее помехой. Ведь надо было спешно чем-то заполнять те участки, где они «воевали», не умея и не имея возможности оказать стойкого сопротивлению врагу.
Вот в эту мясорубку и попал Дима Доброклонский, чтобы сгинуть где-то, не послав ни одной открытки родителям. Только в октябре один из лежавших в госпитале тяжело раненных ополченцев сообщил Михаилу Васильевичу, что видел его сына за Лугой перед очередным налетом гитлеровской авиации и что, вероятно, тот погиб, как и весь почти их батальон, шедший колонной по открытому со всех сторон шоссе.
В августе бомбили уже и Ленинград. Под сводами первых этажей Эрмитажа и Зимнего дворца был создан ряд бомбоубежищ. Семья Доброклонских поместилась в том, что находилось под Двадцатиколонным залом, где жили и другие эрмитажники. Здесь мне запомнилось, как мельком видел Логу и такую же, как и он, юную девушку Ирочку Дервиз (отец и мать ее – сотрудники Эрмитажа – потом умерли от голода). Они вечером о чем-то тихонько, но оживленно беседовали. До чего же прелестна и по внешности, и по манере говорить была эта пара! То сдержанные, то негромко, но единодушно чему-то смеющиеся, все вечера проводящие вместе, сидя рядом на топчане в полуосвещенном подвале. Так и веяло на каждого, кто их видел, юностью и радостью бытия, которые живут своими часами, наперекор всему.
А потом, кажется в конце ноября, и Логу призвали, и как-то он пришел в убежище уже в солдатской одежде. Коротко остриженный, отчего его похудевшее лицо выглядело совсем детским, в слишком большом для его тоненького тела бумажном обмундировании и тяжелых кирзовых сапогах, он сидел между родителями. Не знаю, говорили ли они, но видел, что оба держали его за руки, а он что-то жевал.
Мне довелось еще раз увидеть Логу всего через час. Мы с другом моим и сослуживцем Крутиковым стояли у ворот проезда, выходящего на набережную. Выйдя из уже очень скудной эрмитажной столовой, мы стояли и курили, когда мимо прошли Лога и Ирочка Дервиз. Она была в драповом пальто, но с непокрытой темно-русой головой, видно, не поспела даже чем-то покрыться, а он в пилотке и неновом ватнике защитного цвета, перетянутом ремнем. Они шли молча, оба опустив голову, и она держала его под опущенную руку.
– Бедная девочка, – сказал Михаил Захарович то, что мы оба думали, провожая их взглядом.
Потом в декабре я оказался в больнице, а когда возвратился в Эрмитаж в середине февраля, то узнал, что Лога, на счастье, легко ранен и находится в госпитале на Васильевском острове. Там и навещали его родители, относя все съестное, что удастся им наменять на сохранившееся еще скудное имущество. За то время, что я отсутствовал, в дом, где они жили на канале Круштейна, попала бомба и уничтожила почти все, что имело в те дни товарную ценность – одежду, одеяла, белье, подушки, кроме того, что было с ними в убежище. Сохранился только кабинет Михаила Васильевича, с почти что развалившимся шкафом, полным книг по искусству. Но такие книги никого в те дни не интересовали.
Родители бедного мальчика похудели, посерели лицами и выглядели неопрятными, не имея возможности толком умываться, как и все, кто был еще жив в убежищах, откуда в это время приходилось выбираться, куда могли, потому что электричество погасло и отопление прекратилось. Доброклонские переместились в квартиру в нижнем этаже лейб-кампанского дома (Дворцовая наб., 32. – М. Г.), в ту, что примыкала к кваренгиевскому корпусу театра. Я видел, как Михаил Васильевич вез туда на детских саночках связки книг, потом как тащил на плече свернутый и перевязанный шнурком матрас.
Кажется, в конце марта Орбели и еще несколько ведущих работников Эрмитажа улетели в Ереван, и заведовать «ленинградским филиалом» был назначен Михаил Васильевич, так же как «свердловским филиалом» заведовал Владимир Францевич Левинсон-Лессинг, уехавший с первым эшелоном в июле. Говорили, что Орбели предлагал лететь и Доброклонским, но, думаю, что это легенда, распространяемая обожателями грозного директора. У него, я уверен, хватило бы такта не пытаться увезти родителей от раненого сына, лежавшего в госпитале.
А потом произошла встреча, не случись которой, я, верно бы, и не собрался писать эти воспоминания. Был ярко солнечный мартовский день. Я, уже не служивший в Эрмитаже, шагал на Васильевский остров по правой стороне Дворцового моста, кажется, в Пушкинский Дом. Я был в шинели своего покойного тестя, в которую переоделся, став санитаром, чтобы сберечь свое весьма потертое зимнее пальто. Навстречу мне показался Михаил Васильевич, как я сообразил, возвращавшийся из госпиталя от Логи. Он шел, как-то странно закинув назад и чуть отвернув к Неве голову, и полузакрыв глаза от яркого света. Я уже хорошо различал свалявшийся ворс его круглой бобровой шапки, в которой, верно, он спал в холоде нетопленной квартиры, и шубу, грудь которой, как у всех почти блокадников первой зимы, была запачкана супами и кашами, которые ели из давно не мытых кастрюлек и кружек, не снимая верхней одежды.
Когда мы почти встретились, я сказал, уступая ему дорогу, потому что он шел прямо на меня, как бы почти не видя:
– Здравствуйте, Михаил Васильевич.
– Здравствуйте, – ответил он, очень вежливо протянув холодную ладонь с неподвижными пальцами.
На локте этой руки болтался пустой хозяйственный холщовый мешок с двумя ручками. Лицо его было бледно до синевы. Я сомневался, узнал ли он меня.
– Вам нехорошо? Может, проводить вас? – спросил я, готовясь взять его под руку.
– Нет, нет, я ничего, – сказал он каким-то не своим, разом охрипшим голосом. – Но как я сейчас Олимпиаде Дмитриевне скажу? Дело в том, что полчаса назад на моих руках умер Лога.
Он опять подал мне руку, взметнув пустой мешок, и пошел дальше, все так же отворачивая голову от солнечного света.
А я смотрел ему вслед, с ужасом думая о том, как через четверть часа ему предстоит то, о чем он сказал мне, и как они оба вытерпят свое второе горе. Бедный тоненький бледный мальчик… А ведь говорили, что он легко ранен. Но я не раз слышал, что многие даже легко раненные умирали в госпиталях от дистрофии, ускоренной потерей крови. И я знал, как невелик тыловой даже лазаретный паек, еще уменьшенный воровством грузчиков, поваров, раздатчиц, сиделок и более сильных соседей. Бедный, бедный Лога, не поспевший по существу переступить порога жизни. И жива ли Ирочка Дервиз? Что отец ее Павел Петрович умер в убежище одним из первых, я уже знал. Он весной этого года был выпущен едва живым из тюрьмы, куда, шептали в Эрмитаже, посадил его тамошний стукач, сотрудник Эрмитажа В…р, также умерший вслед за Дервизом, бормотавший в предсмертном бреду имена тех, кого загубил.
В. М. называет эту фамилию, он имеет на это право, потому что жил в те годы, когда топор летал над головами… Но я держал в руках папку с личным делом этого человека, которую В. М. не листал.
В…р, только кончивший гимназию, попадает в 1914 году рядовым на фронт, несколько ранений, одно из них сквозное в солнечное сплетение, госпитали, снова фронт, солдатский Георгий, школа прапорщиков, снова фронт, и к 1917, когда ему 21 год, он штабс-капитан с шестью боевыми орденами, включая св. Владимира. Солдаты выбирают его ротным командиром… Но его родители, этнические немцы, эмигрировали, и он, видя, что происходит в стране, понимает, что ему недолго ходить на свободе. Война закончена, он уходит из армии и, пользуясь всеобщей неразберихой и скрывая свое офицерское прошлое, старается смешаться с гражданским населением. Он учится, работает как малоквалифицированный работник, часто это просто физический труд. Так проходит полтора десятка лет, в течение которых ему удается не попасть в поле зрения НКВД. И вот, уже в середине 1930-х, когда он работает в Эрмитаже, его прошлое подвергают особой проверке, и оно становится известным тем органам, которые уполномочены знать все. Как водится, ему предлагают изложить сведения о своем прошлом письменно.
И он пишет огромную объяснительную бумагу, которая озаглавлена, как «заявление» (будто человек сам на себя заявляет!). Ее нельзя читать без содрогания. Он хочет выпутаться, но с каждой фразой увязает все более и более. Не понимая, какое обвинение предъявляетсамому себе, он пишет, что стремление его избегнуть повторного призыва в армию диктовалось его космополитическими настроениями. Он признается в том, что не понимавший ранее всей справедливости политики ВКП, он теперь видит, насколько она справедлива (вероятно, он в ужасе от самой мысли об этой справедливости). Он признается в том, что совершал преступления (но он их не совершал)… В его личном деле нет указаний на тюремное заключение, может быть, его и не было… Но что было?
Лев Львович Раков, которого подвергали следствию дважды (1938 и 1950), говорил мне, что никаких пыток для того, чтобы человек подписал любое, не требуется, достаточно в течение нескольких дней не давать ему спать. От бодрствования в течение недели, говорил Лев Львович, чаще всего теряют рассудок.
Я взял на себя ответственность не сообщать фамилии несчастного В…ра. Вдруг живы его дети (хотя я не знаю, были ли они у него), внуки, правнуки…
Перейдя летом в Пушкинский Дом, я стал чаще встречать эрмитажных товарищей. На долю этих медленно оправляющихся от дистрофии женщин, мужчина среди них тогда был, по-моему, один Михаил Васильевич, выпало в то лето очень много физической работы. Четырнадцатидюймовый снаряд, попавший в здание музея школы Штиглица, расстеклил весь купол, покрывающий центральный зал, и одна из стен дала трещину. Ни одной машины у Эрмитажа тогда не было, и приходилось перевозить наиболее ценные экспонаты с Соляного переулка на Дворцовую набережную на ручных тележках, изготовленных когда-то для перевозки экспонатов по мраморным или паркетным полам музея. А теперь я видел две следовавшие друг за другом тележки, медленно ползшие по бывшей Миллионной. И одну из них, которую везли Зоя Алексеевна Лошкарева и Тамара Демьяновна Фомичева, сзади подталкивал Михаил Васильевич.
Потом, не помню – в это лето или уже в следующее, тяжелая авиабомба, которую немецкий летчик, конечно, целил в мост, грохнула на Дворцовую площадь, недалеко от решетки сада, но ближе к Зимнему, чем к Штабу. И разом высадила тысячи стекол из окон обоих зданий. Об этой бомбе я уже писал ранее, а сейчас лишь добавлю, что это толстое битое стекло фиолетового оттенка сгребали, сметали и свозили деревянными лопатами в груды также слабосильные, но бодрые и дружные женщины Эрмитажа. А потом ведь именно им пришлось заколачивать фанерой оконные рамы, чтобы дождь, а позже снег не попадал в залы. И при обеих операциях тут и там маячила фигура Михаила Васильевича. Я видел его теперь уже тянущего за дышло тележку с фанерными ящиками, наполненными битым стеклом, по тротуару вдоль фасада дворца, выходящего на площадь.
В это первое блокадное лето Доброклонского избрали членом-корреспондентом Академии наук. Он стал потому получать какое-то повышенное снабжение, и, как слышал, они с Олимпиадой Дмитриевной щедро делились своими продовольственными богатствами с сотрудниками, приглашая их в гости.
При встрече уже под осень я поздравил Михаила Васильевича, и он ответил, как всегда с учтивым поклоном:
– Благодарю вас… Хотя, конечно, было бы гораздо важнее, если бы это случилось год назад… – Он приостановился, и вдруг губы его задрожали. Потом пояснил: – Тогда, понимаете, мы могли бы стольким помочь и, быть может, Лога… – Он не окончил фразу, подал мне руку и пошел к воротам дома, в котором теперь жил.
И опять я стоял, глядя ему вслед, уже одетому с обычной довоенной опрятностью, и думал, какую же глубокую душевную рану он носит в себе. Иногда при встрече потухшая Олимпиада Дмитриевна с выцветшими, вернее, выплаканными глазами смотрела на меня, не замечая поклона. Должно быть, видела другое, не то, что ее окружало.
Боже мой! Сколько же матерей сейчас смотрят так вокруг, не видя ничего, кроме своего вечного горя. И в том же числе моя мама, двух сыновей которой также унесли войны.
Однажды, кажется, под осень 1943 года, идя из Союза писателей, я встретил Михаила Васильевича у Малого подъезда Эрмитажа. Как всегда, он учтиво со мной поздоровался и позвал к ним пообедать. Я сказал, что только что это сделал.
– Ну, тогда выпьете с нами кофе. Олимпиаде Дмитриевне легче, когда к нам кто-то приходит. Да и комнату мою посмотрите. Ручаюсь, что никогда такой не видели. В ней есть что-то гофмановское. Она, наверное, единственная в своем роде в Петербурге в форме рояля. И клавиатура за моей спиной. В этой редкостной форме виноват Кваренги, так пояснил мне Герман Германович Гримм. Вы знакомы с Гриммом?
– Нет, не случилось…
– Ну и познакомитесь. Он к нам обещал скоро прийти.
Комната, куда ввел меня Михаил Васильевич, действительно своей формой очень напоминала старинный рояль с длинным хвостом, обращенный клавиатурой к окну на Канавку. Это была последняя комната за коридором в первом этаже лейб-кампанского дома, где находились тогда три квартиры, кажется, из двух небольших комнат в одно окно. Полуциркульная часть правой стены комнаты Михаила Васильевича образовалась при постройке Эрмитажного театра, вписавшего в старое здание полукруглый коридор, охватывавший зрительный зал. У окошка стоял письменный стол и три стула, один для хозяина, два других – по сторонам стола, спинками к стене. У левой, прямой стены стоял матрас на ножках, покрытый чем-то вроде ковра. Книги лежали на нем, на столе, на подоконнике.
Конечно, когда пришел Гримм и мы сели за стол в другой, прилегающей комнате, я второй раз пообедал. Что мне стоило в те дни съесть два обеда, тем более что писательский был довольно легок! Герман Германович оказался давно известным мне в лицо человеком, которого я встречал в музеях и на концертах. Его знания отнюдь не ограничивались историей архитектуры, которой он занимался. Он отлично знал изобразительное искусство, в частности, любимых Доброклонским старых голландцев. И со знанием даже латинских названий семейств и видов поговорил с Олимпиадой Дмитриевной о комнатном и садовом цветоводстве. При этом я почувствовал, что Герман Германович здесь очень и очень к месту. Его спокойная, мягкая и занимательная речь была как раз такая, какая могла хоть немного отвлечь хозяев от их вечного горя, да и самого Гримма, в жизни которого, как я потом узнал, также были недавние трагические утраты.
Не могу с горечью не вспомнить, как грубо и до предела несправедливо отнесся к Михаилу Васильевичу возвратившийся в 1944 году в Ленинград И. А. Орбели. Вместо благодарности за то, что тот с достоинством заменял его в течение двух лет, и вместо хоть какого-то сочувствия к великому горю Михаила Васильевича, Иосиф Абгарович говорил о Доброклонском сквозь зубы; никому не объясняя причин, огульно опорочивал все распоряжения о спасении коллекции из бывшего музея Штиглица, кричал, что Доброклонский не сумел организовать застекление «больших просветов», будто это было так просто в условиях осажденного города и с теми силами, какими располагали сотрудники. И что мне казалось самым отвратительным, хоть и за глаза, но при множестве свидетелей презрительно именовал Доброклонского «загнанной лошадью». Странный, противоречивый и часто недобрый человек был эрмитажный академик Орбели.
Кажется, в квартире Доброклонских в лейб-кампанском доме я больше не бывал, хотя в 1944 году вернулся в свой отдел Эрмитажа. Слышал, что дом на канале Круштейна, где они жили до войны, отремонтировали, и они туда возвратились. Слышал, что они опекали юного Андрюшу, товарища их сыновей, вернувшегося с войны. Что, благодаря им, этот юноша учится в вузе и обеспечен всем, что ему надо, потом – что он женился, и они помогли ему получить квартиру. И я радовался, что нашли, кому отдать свои заботы. Несколько раз Михаил Васильевич любезно приглашал побывать у них, но без дела я совестился их беспокоить.
К этому времени, то есть ко второй половине 1940-х годов, относятся мои воспоминания об участии в закупочной комиссии Эрмитажа, которую возглавлял Михаил Васильевич. В эти годы я убедился в огромной эрудиции его в области западноевропейского искусства вплоть до XX века и в скромности по отношению к оценке предметов, тяготевших к другим собраниям Эрмитажа. Но сам Доброклонский в отсутствие приглашенных для консультации специалистов высказывал без всякого нажима какое-то предположение, которое почти всегда потом бывало подтверждено. «Глаз» у него был редкостный. Такой универсальный музейный «глаз» я наблюдал только еще у Михаила Илларионовича Артамонова, директора Эрмитажа с 1952 по 1964 год, человека совсем иного происхождения, образования, характера и специальности, чем Доброклонский. Он безошибочно разбирался в русской иконописи, будучи авторитетом в живописи, восточных тканях, ювелирных изделиях от античности до XX века.
В. Ф. Левинсон-Лессинг
Летние поездки эрмитажников. Г. Г. Гримм и В. М. Глинка. Начало 1950-х годов
Во время работы комиссии под председательством Михаила Васильевича я наблюдал еще одну сторону его характера – деликатность по отношению к товарищам. Как он умел высказать свое мнение, если оно шло вразрез с уже высказанным, и как убедительно его мотивировал! Особенно часто предметом таких поправок были оценки одной крайне экспансивной дамы, ведавшей западноевропейской скульптурой. Она произносила приговор, едва взглянув, как говорится, с ходу, и либо шумно восхищалась, либо столь же резко бракуя предложенный предмет. Однажды речь шла о небольшой настольной группе золоченой бронзы: два «путти»-фавна с гирляндами цветов и цевницами в пухлых руках, безоговорочно признанных этой дамой «прекрасной бронзой середины XVIII века». Михаил Васильевич молчал, рассеянно взглядывая в окно. Но когда она обратилась за поддержкой, ответил:
– А мне почему-то кажется, что это скорее подражание, действительно очень красивое, но выполненное при Наполеоне III во времена «второго рококо». Ведь и трактовка сюжета и позы чуть вульгарны…
Экспансивная дама тотчас с ним согласилась, но это не помешало ей вскоре забраковать два стенника матовой чуть зеленоватой бронзы как модерн, а Михаил Васильевич опять после ее вопроса отнес их к подлинникам времени Людовика XVI и сообщил, что их изображения, кажется, воспроизведены в «Старых годах».
Да, повторяю, «глаз» у него был отменный.
В эти же годы, работая в отделении рисунков по отбору материалов для выставки к 100-летию со дня рождения Гоголя, я был приглашен Михаилом Васильевичем выпить с ним чаю. Обычно он ходил для этого к Олимпиаде Дмитриевне. Но в этот день она почему-то не работала. В последовавшем разговоре Доброклонский любезно осведомился у меня, как это я (он слышал, что я – юрист по университетскому диплому) пришел к музейной работе. Я рассказал о своем довольно пестром пути и посетовал, что неправильно выбрал факультет, а потом спросил, в каком возрасте увлекся изобразительным искусством он. И услышал приблизительно следующее:
– Мне кажется, с раннего детства. В родительском доме было много книг и кип журналов с репродукциями картин, преимущественно иностранных живописцев. Так что я знаю имена некоторых художников с тех пор, как выучился читать одновременно на русском и французском языках… Вы, вероятно, угадываете по фамилии, что мой недалекий предок принадлежал к духовенству. Это мой прадед протоиерей, которого выпустили с этой благозвучной фамилией из семинарии. Дедушка был военный лекарь, и отец тоже врач и довольно известный в Петербурге. Он возглавлял больницу (Александровскую, см. «Весь Петербург» за 1910 г. – М. Г.) и довольно рано получил чин действительного статского советника. А maman происходила из судейской чиновничьей семьи. Ей представлялась естественной такая же дорога, и меня отдали в училище правоведения. Я об этом не жалею. Как, вероятно, и везде в мое время те, кто хотел учиться, получали у нас хорошее образование. И нам отнюдь не был противопоказан интерес к искусству. Вспомните, кто были Ровинский и Стасов, – ведь оба вышли из тех же стен, что и я. Да еще Сергей Николаевич Тройницкий и Евгений Григорьевич Лисенков… А Сергея Митрофановича Зарудного вы уже не застали? Но и право меня занимало. Я был уверен, что судебные установления 1860-х годов вполне прогрессивны, и, помогая их осуществлению, я делаю нечто полезное. Служба доставляла удовлетворение, в «присутственные» часы я занимался прилежно. И оставалось еще довольно много времени для изучения искусства, что я начал в этих стенах и продолжал, правда поверхностно, в летние отпуска во всех крупных музеях Европы, кроме мадридского. Испанию я намечал посетить летом 1914 года… Я даже начал писать об искусстве, и меня стали печатать. Но оставлять службу в государственной канцелярии не собирался. Во-первых, это бы очень огорчило родителей, особенно maman (в связи с происхождением отца я никогда не смел, называть ее «матушкой»). Во-вторых, им бы пришлось меня содержать – попасть в штат Эрмитажа было очень трудно. В-третьих, сама моя служба мне нравилась, очевидно, в моей крови сидит-таки чиновник. Казалось, что исполняю свой долг перед государством. Иногда, правда, завидовал Сергею Николаевичу (Тройницкому. – М. Г.), который поступал сюда сверх штата, т. е. без жалованья. Но у него было хоть небольшое, но собственное состояние… Так и вышло, что революция привела меня в эти стены, если хотите, содействовала осуществлению мечты. И дала звания выше моих заслуг. Ведь мне на дом ежемесячно приносят 250 рублей…
Рассказать мне осталось немногое, но очень памятное. Через кого-то из моих приятелей мне стало известно, что Доброклонские завели таксу, названную Манишкой, потом появилась еще Манжетка. Скоро было уже три поколения такс. Одного щенка, которого выпросили какие-то знакомые, Доброклонские выкупили назад, так как те с ним плохо обращались, и его едва удалось выходить витаминами, диетой и мазями. Завели еще кошек, которые отлично дружили с таксами.
В этом я сам как-то убедился. Зимой, в середине 1950-х годов, я зашел к Михаилу Васильевичу за какой-то книгой. Входная дверь в квартиру оказалась приотворенной. Я решил, что это сделано нарочно, чтобы мой звонок не обеспокоил отдыхающую Олимпиаду Дмитриевну. Я доложился по телефону, что зайду, совсем незадолго до этого, из вестибюля Центрального исторического архива.
Вошел в прихожую и навсегда запомнил открывшуюся картину. Перед открытыми дверцами топящейся печки на коврике лежала, правильнее всего сказать, «запеканка» из такс и кошек. Их было, верно, по пятку каждого народца, и они совсем перепутались. Где чьи лапы, где чьи хвосты, – разобрать при этом освещении я не мог. Услышав стук двери и мои шаги, одна из длинноухих головок поднялась и лениво тявкнула раз-другой, потом упала на прежнее, очевидно, удобное и нагретое место.
На этот звук вышел в прихожую Михаил Васильевич, осветил комнату, запер входные двери, просил меня снять пальто и пригласил в кабинет. Когда я сказал, какое сильное впечатление произвело на меня лежбище перед печкой, он ответил:
– Да, они живут так дружно, как немногие люди даже в Академии художеств и в Эрмитаже. Не говоря о коммунальных квартирах. У них точный рефлекс: если человек входит без звонка, они только подают знак: тут, мол, пришли. А если со звонком, то сразу весь табор рассыпается, и все псы хором лают, сгрудившись в грозную стаю. Есть, конечно, и тут вздорные характеры, но Манишка умеет навести порядок. Лучше, чем я в своем отделении на кафедре…
Когда Олимпиада Дмитриевна позвала нас пить чай, то таксы и кошки пришли и расселись вокруг стола, кто на стульях, кто на полу, а один кот на коленях у хозяйки, высовывал голову из-под ее руки.
Это было последнее благополучное впечатление от четы Доброклонских.
В это время Михаил Васильевич одновременно заведовал кафедрой и читал курс в институте Репина, почти ежедневно бывая в Эрмитаже. Сказал мне как-то, что на обе свои службы ходит только пешком. Из печати выходили его работы. Я храню одну из них – «Рисунки фламандской школы XVII–XVIII веков» – с его доброжелательной надписью. Когда я писал сценарий научно-популярного фильма «Рембрандт», то просил Михаила Васильевича быть консультантом моей работы. Фильм, правда, не поставили, поскольку была очередная кампания с приказом пропагандировать только советскую живопись.
В начале 1959 года умерла Олимпиада Дмитриевна. Это был рубеж, через который Михаил Васильевич переступил с трудом. Разом постарел лицом, стал небрежен в одежде, перестал ходить пешком. Даже от площади Труда до Института Репина или в Эрмитаж ездил трамваем, а то на такси, если подворачивалось. Стал часто опаздывать на лекции. Как мне передавали, говорил монотонно, с частыми паузами. Тогда в институте сложился шуточный, но показавшийся мне очень печальным рассказ, что, входя в аудиторию, Михаил Васильевич будто бы говорит: «Простите, что я опоздал, но мы и окончим сегодня пораньше».
В июле того же года покончил с собой Герман Германович Гримм. Когда гроб вынесли из здания Академии художеств, поставили в автобус, и толпа провожавших схлынула по машинам, мы оказались рядом с Михаилом Васильевичем, и он сказал мне:
– Какая нелепая и ранняя смерть. Я бы с радостью поменялся с Германом Германовичем, но я дал слово Липочке, что сам этого не сделаю. Она сказала, что это грех. А жить мне совсем нечем.
Я что-то сказал о том, что он приносит столько пользы своими знаниями. Он не спорил, но сказал:
– Это не занимает моего ума и не заполняет души. Я только повторяюсь и притом плохо. Я себя пережил.
Прошел год. В день смерти Германа Германовича на Серафимовском кладбище собралось несколько его друзей и сослуживцев. Покойный был тесно связан с работой нашего отдела, и меня попросили сказать что-нибудь. Я с трудом выдавил из себя стандартные слова о доброте, знаниях покойного и о том, как щедро он ими делился. И что нет дня, печальней дня смерти Германа Германовича, но говорить об этом так трудно. Когда заговорил следующий из присутствовавших, Михаил Васильевич взял меня под руку, вывел из группы и повел в сторону от памятника Гримму, вдоль канавки. Вскоре мы остановились около железной ограды, за которой я увидел две маленьких насыпи с одинаковыми крестами. На одном значилась, что под ним лежит Олимпиада Дмитриевна, и на могиле цвели анютины глазки и незабудки. На другой не было цветов, не было и надписи на кресте. Я поклонился могиле с именем, а затем довольно глупо спросил:
– А здесь кто же?
– Надеюсь, что скоро буду я. А вас привел потому, что Липочка к вам хорошо относилась, – ответил Михаил Васильевич и повел меня обратно к группе друзей Гримма.
В. М. Глинка среди работников охраны Эрмитажа. (Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург)
Г. Г. Гримм
В. М. Глинка, 1942
После этого я видел его всего один раз. То есть близко, лицом к лицу. В Эрмитаже-то мы, верно, хоть изредка, но встречались мимоходом. Я принес Михаилу Васильевичу в подарок свой исторический роман для юношества.
Меня впустила в квартиру неопрятная и неприветливая пожилая женщина, которая, как знал, ведет хозяйство. Она указала мне на дверь кабинета Михаила Васильевича, идя за мной следом. Он небыстро встал и просил простить, что не вышел встретить – не слышал звонка. Я присел на продавленный диван, так как кресло стояло под прямым углом к столу, к тому же его еще занимала старая такса. Большего сходства между хозяином и его животным я в жизни не видел. Я думаю, что Михаил Васильевич, любивший собак, не обиделся бы на меня за эти слова. Оба они были седые, серенькие – Михаил Васильевич в какой-тот вязаной кофте-куртке, и песик, посивевший волосом от возраста. У обоих выпирали старческие животики. Но пес, чуть потявкав, откровенно дремал, а хозяин его, силясь быть как всегда любезным, благодарил за книгу, спросил, что я сейчас делаю? Но я видел, что ему уже все безразлично. Он тоже будто дремал, действовало только хорошее воспитание, рефлекс прошлого. И еще я запомнил, что в комнате все было покрыто пылью. Видимо, здесь давно уже не убиралось. Я отклонил чаепитие и ушел, погладив лобик пса, который, кажется, не открыл даже глаз. Последним секундным видением этого кабинета была спинка кресла, на котором дремала собака – кожа была вся продрана кошачьими когтями на память о тех жильцах этого кабинета, которые уже ушли из жизни.
Уже после этого визита двое учеников Михаила Васильевича сказали мне, что он в последние два-три года пристрастился к снотворным. Хотел меньше бодрствовать, что же, это возможно. Видно, жить стало уже совсем нечем. Другое дело, если бы остался в живых хоть кто-то из сыновей.
На похоронах его я не был, куда-то уезжал. Но в следующее лето в годовщину смерти Гримма я побывал на Серафимовском кладбище, нашел дорожку вдоль канавки и поклонился двум могилам.
Мне сказали, что и последняя из такс умерла за полгода до хозяина на том самом ободранном кошками кресле.
Почему я написал эти воспоминания о Михаиле Васильевиче Доброклонском? Я не был с ним близок. Могу подсчитать наши сколько-нибудь подробные разговоры. Не был его учеником, не слушал его лекций. Сознаюсь, не читал его книг, кроме тех, в которых мог что-то прочесть о Рембрандте. Но он был одним из самых цельных людей, каких я знал. В нем привлекали не меня одного ныне очень редкие качества. Знания. Мужество в страданиях. Доброжелательность ко всем, кто с ним общался. Чувство собственного достоинства. Такт. Сдержанность. Скромность.
Я нарочно разделил все их точками. Может, так рельефнее покажутся тому, кто прочтет эти страницы, все семь оригинальных качеств этого, может быть, и не слишком яркого, но такого цельного и привлекательного человека. Особенно во времена, когда миллионы людей, не колеблясь, скажут: «Мы – беззаветные герои…» Или: «В своих дерзаниях всегда мы правы…» И так далее.
Июль—август 1979, Эльва
Страница «блокадной» рукописи В. М. Глинки
Комментарии составителя к тексту «Блокады»
Д. А. Толстой
Полагаю, что здесь у Владислава Михайловича совместились его воспоминания разных лет. Мите Толстому в описываемое время (год ареста Б. П. Позерна) должно было быть лет 14–15, так что едва ли В. М. при своем визите к Н. В. Крандиевской видел его в «коротких штанишках». Возможно, В. М. наблюдал Митю несколькими годами раньше, вероятно, будучи в гостях у С. Н. Тройницкого, с которым контактировал и отец Мити, писатель А. Н. Толстой, и память В. М. сохранила именно тот образ мальчика…
Мне довелось быть знакомым с композитором Дмитрием Алексеевичем Толстым с середины 1960-х. Нас разделяло менее полутора десятков лет, но в те годы мы совершенно отчетливо относились к разным поколениям – я дружил с его племянниками, и миром нашего досуга были мотоциклы, палатки и слаломные лыжи, в то время как у Дмитрия Алексеевича уже была тросточка, плащ через руку на случай дождя и, кажется, уже одышка. Потом наши возрасты стали сближаться, и чем дальше, тем быстрее.
Если мы встречались, то совершенно случайно (я, признаться, не знал его музыки, и абсолютно очевидно, что и он не читал ничего моего), и поэтому я бывал сильно удивлен, чтобы не сказать поражен, тем, как Дмитрий Алексеевич всякий раз помнил, на какой реплике остановилась наша прежняя беседа.
Так однажды, кажется, в годы семидесятые, чьи-то именины свели нас в квартире, где среди всей остальной, совершенно городской мебели стояла длинная деревенская лавка.
– Значит, так! Как мы с вами уже решили, чёрта нет! – сказал Дмитрий Алексеевич, садясь верхом на один конец лавки и приглашая меня оседлать другой. Это были первые его слова после того, как мы поздоровались.
В другой раз, это были уже девяностые годы, он подсел ко мне в машину около буддийского храма, чтобы проехать несколько сот метров до Елагина дворца, где богатая, но милая московская пара Смирновых устраивала ностальгический бал сословного характера. Из будки у перил моста кто-то, сверив наш номер со списком, крикнул охраннику, стоявшему у створки разводных трубчатых ворот, чтобы открывал.
– А куда едут?