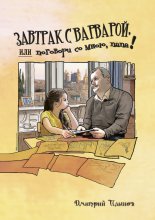Воспоминания о блокаде Глинка Владислав
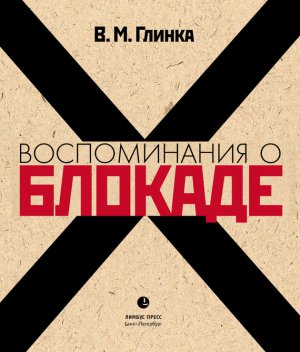
В. М. Глинка, 1920
Кавалерийские курсы. Петроград, Лерм. просп. 1920
В. М. Глинка (справа) с друзьями. Начало 1930-х гг.
В. М. Глинка. Худ. Е. П. Якунина, конец 1930-х гг.
Петергоф, 1929
Н. С. и М. П. Глинки, 1938
Блокадная лампочка В. М. Глинки
Старая Русса в начале ХХ века представляла собой очень своеобразный город. Центр его составлял курорт, солевые грязи которого пользовались громкой известностью не только из-за их целебности, но и потому, что находились всего в двухстах верстах от столицы. Каждое лето в Старую Руссу наезжали тысячи людей из Петербурга и Москвы, и среди них – художники, артисты, ученые. Михаил Павлович Глинка пользовался в городе репутацией опытнейшего врача, интересного собеседника и доброго, гостеприимного хозяина. В разные годы его пациентами были А. Г. Достоевская, художник Б. М. Кустодиев, известный путешественник П. К. Козлов, академик Н. С. Курнаков, профессор В. П. Семенов-Тян-Шанский, будущий маршал Ф. И. Толбухин, артисты театра Незлобина, приезжавшего в Старую Руссу много сезонов подряд.
Бревенчатый дом на тихой набережной реки Перерытицы (а в трехстах метрах от него по той же набережной дом, где Достоевский писал «Братьев Карамазовых»), за открытой верандой огромный сад, повсюду по переулкам заросшего яблонями и сливами уездного города кирпичные кладки древнейших в России церквей, неторопливый, чуть насмешливый, никогда не повышающий голоса отец, с отцом здоровается весь город, субботним вечером гости на веранде, и книги, книги, книги – вот атмосфера детских лет Владислава. Через тридцать лет, узнав в блокадном Ленинграде, что родительский дом сгорел от артиллерийского обстрела, музейный работник В. М. Глинка по памяти составляет список сгоревших в Старой Руссе книг. Кроме энциклопедий, многотомных классиков и четырехсот томов медицинских сочинений в этой домашней библиотеке были, оказывается, сочинения Спенсера, Ренана, Бокля, Смита, Гумбольдта, Бюффона.
В 1919 году шестнадцатилетний Владислав Глинка уходит добровольцем в Красную Армию. В таком шаге не было никакой идейной натяжки – оба деда были горячими сторонниками освобождения крестьян, гласного суда, уравнения всех сословий в правах и обязанностях, родители с раннего детства внушали своим сыновьям самые демократические идеалы, брат Владислава Сергей уже служил в Красной Армии. Было, впрочем, и еще одно немаловажное обстоятельство. «Большое значение в моем детстве и отрочестве, – писал В. М. Глинка уже на склоне своей жизни, – сыграла няня Елизавета Матвеевна – крестьянка приильменской деревни Буреги, умершая в 1970 году за 90 лет от роду и похороненная рядом с моим отцом и бабушкой в Старой Руссе. Ее вера в высшее начало добра и справедливости, вековое крестьянское поклонение любому труду, своеобразные афоризмы и поговорки, сама деревенская очень выразительная речь вошли в меня вместе с ее заботами о здоровье, сне, физической и нравственной чистоте и прилежании в ученье. Впрочем, речь и идеология красноармейцев, в среду которых я вступил в 1919 году, были также очень мало тронуты городским налетом. Все эти, за малым исключением, недавние крестьяне думали и говорили очень близко к моей няне, хотя многие из них прошли войну с немцами и в различной форме участвовали в революции…»
Однако война, которая идет, – это война гражданская, и как для Сергея с Владиславом естественно было вступить в Красную Армию, так для старшего их брата – Михаила столь же естественно было оказаться по другую сторону… Открытки от сыновей приходят в родительский дом с противоположных фронтов (поразительно, но почта работает и в таких условиях!). Михаил (он на пять лет старше Владислава), недавний студент-медик, служит на санитарном поезде в тылу белой армии, Владислав попадает с красными на Южный фронт, где идет борьба с Деникиным. Правда, ни одному, ни другому брату оружия применить не приходится. В начале ноября 1920 года, за несколько дней до знаменитого штурма Перекопа, врачебный персонал санитарного поезда, стоящего в ближнем врангелевском тылу, перебит ворвавшимися ночью неопознанными вооруженными людьми. Михаил убит ударом штыка в живот. Кто эти ночные убийцы? За что перебили врачей? Ответ один – гражданская война… В феврале 1921 года курсантов Петроградской кавалерийской школы, в которой учатся Сергей и Владислав, отправляют на подавление мятежного Кронштадта, но Бог миловал – стрелять в соотечественников им не выпало – Кронштадт подавлен, и с полдороги кавшколу отправляют обратно в казармы.
После окончания войны Владислав уходит из армии в запас. Затем недолгое посещение Старой Руссы, однако после фронтов юноше уже тесно в провинциальном городе, манит Петроград. Надо получать образование. Но родной провинциальный город продолжает притягивать к себе, и женой 23-летнего Владислава становится хотя и питерская студентка, но уроженка Старой Руссы – Лида Павлова… Совместной их жизни, однако, не суждено быть долгой – тиф, наследие гражданской войны, еще гуляет по стране, и Лидия умирает через четыре месяца после свадьбы… Этот удар судьбы – и случайный, и неслучайный. Что-то в жизни Владислава Глинки не только не ладится, но явно идет не по той дороге, к которой лежит душа. Он учится на юридическом факультете, сдает какие-то зачеты, что-то равнодушно штудирует, механически переходит с курса на курс, но все это происходит словно не с ним. К 1927 году В. М. Глинка оканчивает Ленинградский университет, получает диплом юриста, но с тем же отстраненным равнодушием, с каким учился юридическим наукам, он теперь смотрит на перспективы юридической практики.
И вдруг, будто что-то вспомнив, круто меняет судьбу.
История. Музейное дело. Вот что, оказывается, уже давно влечет его. Ведь уже много лет он буквально впивается в мемуары и исторические сочинения, именно эта область, этот род знаний – влечет его, сразу оживляя воображение, язык, память, чувства. Но хотя он и начитан, и история, особенно русская, и особенно военная, уже не неведомая страна, а давно его родной дом, но формального-то права претендовать на место в учреждении, занятом хранением истории, у него нет… Профиль диплома не тот. И Владислав начинает с самого низа – поступает дежурным в экспозиционный зал Музея Революции. Зал, в котором ему надлежит начинать свой долгий путь, посвящен декабристам.
В самом конце 1920-х годов В. М. Глинка становится экскурсоводом, а затем и научным сотрудником во дворцах-музеях. Петергоф, аракчеевское Грузино, Царское Село, Центральный исторический архив, Фонтанный дом Шереметевых (где размещался тогда Музей дворянско-помещичьего быта), Русский музей, Эрмитаж – вот многочисленные места службы В. М. Глинки в 1927–41 годах. По существу же адрес один – русская история. И. А. Орбели, Е. В. Тарле, В. Ф. Левинсон-Лессинг, С. Н. Тройницкий, М. В. Доброклонский – вот те люди, рядом с которыми В. М. Глинка теперь работает изо дня в день. Пока еще он только внимает, впитывает, копит. Возможно, это напоминает ему отчасти его роль молчаливого слушателя, когда в детстве появлялись на отцовской веранде А. Г. Достоевская, художник Кустодиев или профессор Тян-Шанский. «Около трех лет, – писал В. М. Глинка в письме академику Д. С. Лихачеву в 1970-х годах, – я работал научным сотрудником Центрального исторического архива (в бывшем Сенате), заведуя фондами министерства двора и уделов… Пишу здесь об этом потому, что возня с документами тоже дала мне кое-что… <…> дух и стиль времени в росчерках гусиных перьев, в следах песка на коричневых строках… А главное, ясные очертания социальной системы от Павла I до 1917 года, и вереницы чиновных людей – лжецов, льстецов, лицемеров и казнокрадов, работавших рядом с трудолюбивыми и честными, сберегавшими казне каждую копейку…<…> там есть не главы, а романы, несмотря на, казалось бы, чисто экономическую тематику заглавия».
К концу 1930-х годов имя В. М. Глинки становится в одном ряду с именами самых знающих музейных работников Ленинграда. В. М. Глинку начинают приглашать для историко-бытовых консультаций. Оказывается, в таких консультациях нуждаются люди множества профессий. В них, конечно же, нуждаются сценаристы и драматурги, режиссеры театра и кино – этим надо знать, какими могли или не могли быть отношения между людьми сто и двести лет назад, как могли или категорически не могли они между собой говорить, каковы бывали манеры, нравы, возможные привычки, обычаи, что могло считаться любезностью, а что дерзостью, что почиталось обычным, а что совершенно невозможным…
В таких консультациях нуждаются художники, иллюстраторы книг, скульпторы, театральные костюмеры и специалисты по реквизиту – этим необходимо знать в мельчайших деталях, как выглядели и как носились те или иные мундиры, ленты, ордена, аксельбанты, прически, зонтики, трости, ямщицкие кушаки, ночные чепцы, нижние юбки, онучи, оружие; какие были экипажи, детали упряжи, поддужные колокольчики, дорожные погребцы, мостовые, кузнечные мехи, дворцовая посуда, щипцы для снятия нагара, донышко цилиндра, женское седло…
В них нуждаются и сами музейщики, а также и искусствоведы… Казалось бы, этим-то что? Но вот частный пример необходимости в помощи особого специалиста – распознавание портретов неизвестных. Специфичность подобного рода задачи для особенностей нашего времени заключается в том, что таких портретов необыкновенно много именно по той причине, что страна испытала страшный разрыв исторической судьбы с изгнанием из своих пределов миллионов граждан, истории семей которых также были разорваны. В экспозициях больших и малых музеев, куда попадали портреты из реквизированных домов и усадьб, в музейных запасниках, где портреты десятилетиями стояли стопками, как бы все далее уходя в нераспознаваемость, этот жанр живописи напоминал уходящую под воду Атлантиду. Если уже пятьдесят лет назад не удалось определить, кто изображен на портрете, если не удается сделать этого и сейчас, то кто сможет это сделать после нас? Тут мало быть просто музейщиком…
К 1930-м годам относится дружеское сближение Владислава Михайловича с драматургом Е. Л. Шварцем, режиссером Н. П. Акимовым, историком Л. Л. Раковым – будущим основателем Музея обороны Ленинграда, а затем и директором Публичной библиотеки.
Как-то, будучи в гостях у друзей, Владислав Михайлович оказался в одной компании с Юрием Тыняновым, с которым до тех пор знаком не был. Улучив момент, он сказал Тынянову, что «восковая персона», которая у того в рассказе двигается, на самом деле двигаться не могла.
– Зачем говорить о том, чего не знаете? – сухо сказал Тынянов.
В. М. ответил, что работает в Эрмитаже, является хранителем «персоны», и ему приходилось не только переодевать манекен, но для этого даже отсоединять от деревянных рук восковые кисти, и потому он с полной определенностью утверждает, что никакого механизма в манекене нет. Тынянов резко повернулся, отошел и далее избегал Владислава Михайловича.
Начиная с конца тридцатых годов в ленинградских журналах появляется проза В. М. Глинки. Пока это небольшие рассказы и очерки из военного прошлого России. Публикация этих очерков продолжается в осажденном городе. Всю блокаду В. М. Глинка, не взятый в действующую армию из-за болезни сосудов ног, проводит в Ленинграде, в самые страшные месяцы 1942 года работая санитаром в эвакогоспитале, затем до 1944 года сохраняя коллекции музея Института русской литературы. В 1944 году он окончательно переходит в Государственный Эрмитаж, где становится главным хранителем Отдела истории русской культуры.
Центром и сердцем этого отдела в Эрмитаже является Военная галерея, со стен которой на посетителя смотрит, кажется, сам 1812-й год. Книга В. М. Глинки «Пушкин и Военная галерея Зимнего дворца» вышла в 1949 году в издательстве Государственного Эрмитажа. По поводу нее известный историк академик Е. В. Тарле так писал директору Эрмитажа И. А. Орбели: «Дорогой Иосиф Абгарович! Какую прекрасную, прекрасную, прекрасную книгу Вы издали! Книга В. Глинки и написана и издана превосходно! Честь и слава автору и Вам. Это настольная, вдохновляющая, перечитываемая книга!»
Многие годы Владислав Михайлович Глинка может писать лишь вечерами и ночами. Как уже упоминалось, во время войны им и его женой (Владислав Михайлович женился в 1931 году на Марианне Евгеньевне, урожденной Таубе) усыновлены малолетние дети погибшего на войне брата Сергея (один из них – автор этих строк), денег постоянно не хватает, и поэтому днем В. М. Глинка работает в музее и как работник музея он весь рабочий день должен участвовать в инвентаризации экспонатов, разборке архивов, подготовке научных сообщений. Для творческой работы остается ночь. Однако ни научный, ни научно-популярный жанр вскоре уже не могут удовлетворить историка. Его влечет художественная, свободная ткань повествования. Разведанный в архивах пунктир интересной человеческой судьбы, штрихи жизни, отразившиеся в немногих строках тех самых, написанных гусиными перьями казенных бумаг, беглое упоминание в чьих-нибудь мемуарах требуют затем огромной работы по реконструкции вероятных событий… Так, из небольшой гравюры, изображавшей офицера с боевыми орденами на мундире и прислонившего к плечу костыли, и из найденного через много лет после гравюры чертежа протеза ампутированной ноги, сконструированного изобретателем И. П. Кулибиным, родилась книга. Имя, стоявшее под изображением на гравюре, и имя того, для кого сконструировал искусственную ногу Кулибин, совпадали…
«Домик магистра», «Старосольская повесть», «Жизнь Лаврентия Серякова», «Повесть о Сергее Непейцыне», «Дорогой чести». «История унтера Иванова», «Судьба дворцового гренадера» – все эти книги являются образцом точности автора во всем, что касается истории, деталей прошлого, ушедшего навсегда быта. Но кому нужны такие скрупулезные, такие неподкупные строгость и точность? Так ли уж они обязательны? Ответ на это дают люди, связанные с необходимостью воссоздавать атмосферу ушедших времен. В послевоенные годы еще более упрочился авторитет Владислава Михайловича Глинки как консультанта по историко-бытовым вопросам. Когда ставился спектакль или снималась картина, действие которых происходило в российском прошлом, Н. П. Акимов, Г. М. Козинцев, С. Ф. Бондарчук, Г. А. Товстоногов, И. Е. Хейфиц приглашали В. М. Глинку для участия в работе над своими постановками. 34 театральных спектакля и 19 кинокартин проконсультировано историком за послевоенные годы, в том числе, как уже говорилось, и киноэпопея «Война и мир». Но так же, как работу в музеях, Владислав Михайлович всегда стремился дополнить трудом писательским, так и труд романиста он до самого конца жизни подкреплял чисто научной работой. На восьмидесятом, последнем году своей жизни он готовил к изданию обширный труд о русских военных формах и принимал участие в горячих полемиках в излюбленной своей области – распознавании неизвестных лиц на старых портретах…
Однажды дядя попросил меня свозить его в Пушкин. Кто-то из старых его знакомых, работавших в Екатерининском дворце, звал на такую именно консультацию – в запасниках музея сотрудники выставили к дядиному приезду множество портретов неизвестных и просили помочь определить – кто изображен.
– А ты пока посмотри что-нибудь здесь, – сказал дядя, оставив меня около стеклянных шкафов с мундирами Николая II и наследника.
Через какое-то время он возвратился в сопровождении нескольких сотрудников. Мне показалось, они просто не знали, что им делать от профессионального почтения. Видно, даже навскидку он им там столько всего наоткрывал, что они теперь говорили только робким полушепотом.
– Ну, что? – спросил он у меня. – Что-нибудь интересное углядел?
Отвечать было особенно нечего – ну мундиры… ну разные…
– А ничего не бросилось в глаза? – прищурившись, спросил он. – Не обратил внимания, что одни мундиры? А ни брюк, ни шаровар, ни чакчир? И обуви никакой? А знаешь, почему? Потому что в 20-е нам эти штаны и сапоги раздавали вместо зарплаты. Мундир не переделаешь, он все равно мундиром останется, а со штанами легче. Кант чернилами зачернил – и ходи… Купить-то ведь было нечего – промышленность стояла! Нам все и раздали. Вон только что осталось!
И он указал на один из шкафов, за стеклом которого стояли высокие кирасирские ботфорты.
– Будьте любезны, откройте-ка!
Кто-то тут же отомкнул ключиком шкаф.
Дядя взял сапог каким-то привычным жестом – так ветеринар берет в руки животное. Взял и опять-таки привычно, с уверенностью, что покажет именно то, что желает показать, перевернул ботфорт подошвой вверх. Подошва была цвета сливочного масла. Сапог если и был надеван, так раз-другой, не больше. И на подошве знакомая характерным своим шрифтом всякому ленинградцу, да, наверно, и не только ленинградцу, стояла надпись «Скороходъ», но только с твердым знаком на конце.
– Нет, мы все-таки идиоты, – сказал дядя. – Ведь такой сапог – это же какая реклама тому же «Скороходу»! Лучшая обувь! Поставщик двора его величества! Ну, ладно, поехали…
Дядя вел огромную переписку, писем остались ящики. С 1970-х начали приходить письма и из-за границы. Тем, кто интересуется русской военной формой, несомненно, известны имена Евгения Молло (Лондон); Георгия Иванова, который изготовлял в Стокгольме целые дивизии оловянных солдатиков в формах российской гвардии; жившего в предместье Парижа В. В. Звегинцева, оставившего толстые папки скрупулезнейших рисунков форменной одежды и справочных данных о русской армии…
В. М. написал за свою жизнь тысячи, вероятно, много тысяч писем. Сколько в этих письмах было дано неоценимых советов по поиску той или иной исторической подробности, того или иного персонажа российской истории! Сколько сообщено редких сведений, дано подсказок! И почти все эти письма писались от руки (его красивейшим, но совершенно кошмарным, если говорить о разборчивости, почерком), и почти все, к великому сожалению, – без оставления у себя копий. Лишь некоторые из них он надиктовывал жене, а она печатала на машинке, подкладывая под копирку второй листок. Это были особые письма, и теперь, расположив их копии, одну за другой, я пытаюсь определить, чем эти немногие объединены. Вот письмо троюродному брату в ссылку – со сведениями об общих прадедушках. Письмо Д. А. Гранину с деталями воспоминаний о разрушениях в освобожденной от немцев Старой Руссе. Письмо В. П. Катаеву с указанием несоответствий историческим реалиям в его повести «Кладбище в Скулянах». Вот копия письма А. И. Солженицыну и копия перечня тех мест в рукописи «Августа Четырнадцатого», которые, по мнению В. М. Глинки, можно было бы уточнить. Общее письмо, подписанное В. М. совместно с двумя историками, с критикой версии о том, что на Дантесе во время дуэли могла быть защитная кольчуга…
Что в этих письмах общего? Вероятно, лишь то, что каждое из них написано с каким-то особенным волнением. Обсуждаемым обстоятельством каждого из них является переплетение волокон большой, общей российской истории с волокнами чисто личными, а для дяди личным было многое – и история его предков, и история любимой Старой Руссы, и тонкости мундироведения, и вопросы чести (да, Дантес негодяй, но клеветать нельзя и на негодяя!)… А еще дядя, видимо, считал, что именно за те строки, которые написаны им с особенным волнением и чувством, он отвечает вдвойне, отвечает за каждое слово, и копией такого текста как бы дополнительно контролировал самого себя…
Категорически не принимая многого в новом порядке вещей, дядя при этом никогда не смотрел ни на кого свысока, и, бывало, одно его присутствие вдруг заставляло людей будто что-то вспомнить из давно забытого. Сотрудник музея-квартиры Пушкина уже через много лет после смерти дяди сказал мне, что когда женщины в музее видели в окна, выходящие во двор, что по двору идет со своей тросточкой Владислав Михайлович, они все, как по команде, бежали, розовея и прихорашиваясь, мыть руки – известно было, что дядя всем дамам, независимо от их служебного положения, говорит при встрече что-нибудь приятное и целует ручки.
Владислав Михайлович был не только хранителем, но и реставратором человеческих образов. Стершиеся за их неброскостью достойные имена, забытые историей трагические судьбы, исковерканные в угоду злободневной политике крупные фигуры прошлого; герои, могилы которых затоптали сапоги потомков, – вот то поле архивного поиска и литературной деятельности, на котором неустанно до самого последнего дня он работал. В. М. Глинке было свойственно еще одно, может быть, самое главное и ценное качество насыщенного редкостными знаниями специалиста – дар щедрой, бескорыстной и радостной их отдачи. И художники, писатели, артисты, режиссеры, музейные работники, наконец, просто читатели (знакомые и незнакомые), которым хотелось что-либо из прошлого узнать или уточнить, многие десятки лет писали, звонили, приходили к Владиславу Михайловичу Глинке. Число людей, которые пользовались его знаниями, как пользуются справочниками, книгами, архивами, – огромно. Однако справки эти никогда не были сухими. Получавший их всегда очень точно знал, как сам Владислав Михайлович относится к тому, что сообщает. Узнавая об ордене на каком-либо портрете, интересующийся узнавал не только об ордене, но и непременно о награжденном. Человеческое величие и низость, корыстолюбие и честь, льстивость и достоинство, ложь и правда – вот те полюса нравственного магнита, в которые заключал Владислав Михайлович любую из своих бесчисленных исторических справок…
Владислава Михайловича уже не стало, а письма с вопросами, благодарностями, просьбами все шли и шли на его имя: как найти? Куда обратиться? Где узнать?
М. Глинка
Историк и писатель Владислав Михайлович Глинка, один из лучших знатоков жизни и быта России XIX века, долгие годы работал в Государственном Эрмитаже. Про В. М. Глинку среди музейщиков рассказывали легенды. Говорили, что на старых черно-белых фотографиях он легко распознает цвета, в съемочной группе «Войны и мира» (Глинка консультировал съемки) утверждали, что он знает на память скрип рессор и колес всех типов старых экипажей, а знатокам портретной живописи известно, что методикой определения неизвестных лиц на старых портретах, разработанной В. М. Глинкой, – когда по отрывочным и косвенным признакам путем сопоставления удается определить, казалось бы, безвозвратно утерянные имена портретируемых, – сейчас сплошь и рядом пользуются музейные работники более молодых поколений.
В. М. Глинка написал несколько искусствоведческих и научно-популярных книг, а также целый ряд исторических повестей и романов, являющихся примером глубинного психологического осмысления того архивного и музейного материала, которым писатель занимался всю свою жизнь. Художественная проза В. М. Глинки обычно брала свое начало именно в архивах, и потому центральными фигурами его романов часто становились реально существовавшие люди…
…Из всех тем, которыми он занимался (а их было много: суворовские походы, 1812 год, аракчеевские военные поселения, солдатский быт времен Александра I и Николая I, декабристы), главной темой писателя-историка остается Отечественная война 1812 года. К ней, как к средоточию всего наиболее привлекавшего его в истории России XIX века, В. М. Глинка возвращался во все годы своего творчества. Взгляд на эту войну под тем или иным углом, прохождение тех или иных исторических лиц или вымышленных персонажей сквозь события 1812 года, влияние этой войны на русское общество – пути решения темы меняются, круг вопросов остается. Книга «Пушкин и Военная галерея Зимнего дворца» находится в том же кругу. Историко-патриотическая тема, столь близкая каждому из нас, здесь сплетена с другой вечной темой русской культуры XIX века – с пушкинистикой, то есть целым направлением, которое ныне включает в себя не только историю, литературу и критику, но множественные исследования в самых разных областях. Среди тем – «Пушкин и театр», «Пушкин и музыка», «Друзья Пушкина», «Пушкинский Петербург» – тема «Пушкин и Военная галерея Зимнего дворца» занимает полноправное место, поскольку в более многословном заглавии она могла быть обозначена как целый ряд экскурсов: «Пушкин и 1812 год», «Пушкин и его южная ссылка», «Пушкин и декабристы», «Генералы-друзья и генералы-враги» и т. д.
Кроме того следа, который оставил в жизни Пушкина каждый из тех конкретных людей, кому посвящены главы книги, на жизнь великого поэта, несомненно, повлияли и его отношения с Зимним дворцом, как с некоей собирательной «личностью». Зимний дворец привлекал и отталкивал Пушкина, от Зимнего дворца зависела издательская судьба его произведений, в Зимнем дворце блистала Наталья Николаевна… Наконец, Зимний дворец был главным зданием «военной столицы». Интерьеры огромного дворца, сохранись они в том виде, который был у них в первой трети XIX века, могли бы стать еще одной иллюстрацией к пушкинскому Петербургу. Но страшный пожар в декабре 1837 года уничтожил эти интерьеры. Примечательно, что именно Военная галерея (откуда, правда, успели вынести все портреты) была первым из помещений, погибших в огне. Пожар дворца, случившийся в год смерти поэта, не только символически, но и вполне реально завершил страницу жизни дворца, связанную с Пушкиным.
Академик Б. Б. Пиотровский, директор Государственного Эрмитажа в 1964–1990 гг. (предисловие ко второму изданию книги В. М. Глинки «Пушкин и Военная галерея Зимнего дворца», Лениздат, 1988).
Владислав Михайлович Глинка был неким символом Эрмитажа, разных сторон Эрмитажа, в первую очередь эрмитажной интеллигентности и учености. Кроме того, сама судьба Владислава Михайловича была символична, как судьба именно эрмитажная – в 1930-е годы он несколько лет путешествовал по разным музеям, сопровождая коллекции русской старины, пока наконец вместе с ними не пришел в Эрмитаж. И эти коллекции стали не просто гордостью Эрмитажа. Особенно важно, что русская история в том ее варианте, которым занимался Владислав Михайлович – красивом, торжественном, парадном, военном, – является характерной частью черт необыкновенного лица Эрмитажа, – ни у одного музея нет той государственной значимости, культурно-государственной значимости, которая есть у Эрмитажа. И роль, которую играл в Эрмитаже Владислав Михайлович, была великолепным олицетворением этой значимости.
Ну, а если говорить не об Эрмитаже, а о себе, то у нас всегда был праздник, когда Владислав Михайлович заходил к нам домой. Жили неподалеку, и когда он, гуляя, заходил к нам – это всегда был праздник, притом не только для родителей, но и для нас, детей, потому что каждый раз даже просто видеть его было и величайшим удовольствием, и величайшей школой – я никогда больше не встречал людей столь элегантных и элегантно-умных, как Владислав Михайлович…
М. Б. Пиотровский, директор Государственного Эрмитажа (предисловие к книге «Хранитель», изд. АРС, 2003).
В произведениях Владислава Михайловича Глинки я больше всего ценю их талантливую достоверность. Исторические произведения непременно должны быть достоверны в мелочах и в главном: в изображении быта и обычаев, интерьеров и всей окружающей обстановки, в изображении событий и расстановки исторических лиц. Но более всего они должны обладать достоверностью в изображении натуры людей той или иной эпохи – их характерной сути. Люди меняются больше, чем костюмы и формы, и для изображения достоверных людей той или иной эпохи еще недостаточно знаний, которыми обладал историк Владислав Михайлович Глинка, – к знаниям понадобилось приложить его большой талант понимания людей иного времени и различных социальных положений.
Владиславу Михайловичу Глинке веришь, как свидетелю, как мемуаристу, как человеку описываемой им эпохи. Он был старомоден в хорошем понимании этого слова: весь его облик, его манеры внушали совершенное доверие к его произведениям, невозможно себе вообразить, что он в чем-то мог недодумать или недоисследовать (извините за такое монструозное слово) изображенное им. Он был талантлив и добросовестен, не жертвовал одним в угоду другому.
Настоящий исторический писатель, писатель, которому веришь, – большая редкость и большая ценность в наши дни. Мы ведь годами стремились очернить наше прошлое и очень осовременить характеры своих исторических героев. Но тем ценнее, что и в те годы в нашем городе работал историк и писатель таких знаний и с такой совестью.
Д. С. Лихачев
Владислав Михайлович Глинка был одним из последних петербуржцев, которых я знал. Слово «петербуржец» для меня означает очень многое. Это культура России, ее литературные, академические и научные традиции, это отношение к жемчужине нашей страны – городу Петра, это, наконец, безукоризненное знание всего петербуржского – старого быта, нравов, истории и участие в ней. Владислав Михайлович был одним из немногих, кто мог ответить мне на самые разнообразные вопросы, если эти вопросы были связаны с прошлым. Написанное Владиславом Михайловичем Глинкой, в том числе и его исторические повести, отличается безукоризненной точностью всех подробностей быта, жизни и описываемых событий. Для него это было не вычитанное и выписанное из старых книг и журналов, а как бы нажитое за время его долгой работы в архивах и музеях. Он знал XIX, а отчасти и XVIII век так, как будто жил в те времена. И его рассказы, разъяснения, справки поражали не как набор книжных знаний, а просто как впечатление очевидца. Не случайно со всей страны к нему обращались люди, которым надо было что-то узнать, проверить о старой России…
Д. Гранин
С Владиславом Михайловичем Глинкой меня связала моя работа. Ставя тот или иной классический спектакль, я непременно приглашал в качестве консультанта именно его, так как он был единственным в своем роде специалистом по быту и культуре прошлого во всех его деталях. Его удивительная эрудиция поражала. Он мог на память описать пуговицу мундира какого-нибудь особого полка и, никуда не заглядывая, тут же нарисовать ее на бумажке. Помимо такого рода консультаций, он помогал в репетициях, подсказывая детали, которые могли придать театральному действию атмосферу того или иного времени, и детали эти мог знать только он. Владислав Михайлович консультировал в Большом Драматическом театре целый ряд постановок классического репертуара, и эти встречи нас очень сблизили, так что в дальнейшем мне посчастливилось встречаться с ним не только по делу и по работе. Даже просто беседовать с ним всегда доставляло мне особую радость, он был добрый, глубокий, интересный собеседник. Я горжусь своими отношениями с ним, и он всегда останется в моей памяти как высокий образец русского интеллигента, что проявлялось не только в его культуре и образовании, но и во всей его душевной структуре.
Г. А. Товстоногов
Мое знакомство с Владиславом Михайловичем состоялось в конце 1958 года, когда я готовился к постановке «Дамы с собачкой». На редкость простой и скромный в общении, он сразу же меня очаровал. Вот, подумал я, образец Интеллигентного человека – во всем: в облике, в общении, в чувстве такта, в полноте знаний предмета, которым он занимался многие годы. И, конечно же, в увлеченности.
По собственной практике знаю, что режиссеры обычно побаиваются консультантов. Вот, мол, сейчас начнет придираться к мелочам, к несущественным пустякам. Подумаешь – не там пуговица пришита. Кому до этого дело? Среди зрителей двадцатого века, да еще второй его половины, едва ли найдутся люди, которые заметят эту самую пуговицу на мундире сановника века девятнадцатого и обратят на нее внимание.
Первая наша беседа полностью рассеяла мои опасения и сразу же сделала меня внимательным слушателем и единомышленником Владислава Михайловича. Слушая советы и замечания его, я вдруг ловил себя на мысли совершенно фантастической. Передо мной сидел, разговаривал, шутил человек, не изучавший по книгам и архивам XIX век, а живший в нем. Мне казалось, что он в свои пятьдесят лет мог встречать Гурова в Ялте, бывать в гостях у Гуровых в Москве, интересоваться «новым лицом», появившимся на набережной Ялты, дамой с собачкой. И, находясь рядом с ними, в то же время с удивительной зоркостью наблюдать за их поведением, костюмом, привычками, манерами, мельчайшими деталями окружающей их обстановки. Это был удивительный дар – умение вживаться в эпоху, как бы поселяясь в ней, чувствовать ее всеми пятью чувствами. И тогда пресловутая пуговица оказывалась не такой уж мелочью, а обязательной для художника точностью не только в главном, но и в деталях.
Когда я вижу в наших фильмах нестриженых военных или высасывающих лимонный ломтик после выпитого чая «джентльменов», я вспоминаю Владислава Михайловича и представляю, как мучительно напряглось бы его лицо, и последовала бы негромко сказанная фраза – «какое невежество».
Беседы наши обогатили меня гораздо больше, чем это диктовалось темой консультаций. Каждое «вторжение» в эпоху становилось удивительно осязаемым, вещным, так сказать, материализованным. Он даже Чехова «поправлял», не стесняясь. «У Чехова написано, – говорил он, – «за нею бежал белый шпиц». И у вас в сценарии так же. Полагаю, что у Чехова это не точно. Хорошо выученная собака, а шпиц особенно, всегда бежит впереди или рядом с хозяином».
Я посмеялся, но позже решил проверить у известной в Ленинграде дрессировщицы: она сказала то же самое. А на съемках шпиц Джим окончательно подтвердил это своим собачьим поведением.
Вспоминаю, как мы беседовали с Владиславом Михайловичем по поводу тайной переписки Гурова и Анны Сергеевны.
«Приехав в Москву, она останавливалась в «Славянском базаре» и тотчас же посылала к Гурову человека в красной шапке». Про этого человека Владислав Михайлович рассказал мне так обстоятельно и подробно, будто сам носил красную шапку посыльного. И про возраст, и про костюм, и про профессиональное умение и особую дипломатию при выполнении поручений «секретного» свойства, даже про походку – полубег.
Я, помню, озадачил его вопросом: как же переписывались Анна Сергеевна и Гуров в периоды их разлуки? Очевидно, она писала ему «до востребования». Меня интересовало это и потому, что хотелось показать Гурова часто наведывающимся на почту, в надежде получить письмо. Наконец я убедил своего консультанта в правомерности такой версии. Согласившись, он с хитрым прищуром спросил меня: «А вы-то знаете, как получали письма до востребования в то время?» – «Предъявляли паспорт», – не задумываясь, ответил я. «А вот и нет! – возразил мне Владислав Михайлович. – Паспорт мог раскрыть тайну переписки. Предъявляли почтовому чиновнику ассигнацию, а на ней был номер. Единственный и не повторяющийся. Получатель предъявлял ассигнацию, к тому времени уже аннулированную законом и, следовательно, ставшую редкостью». И сразу обычное действие как бы окуналось в эпоху, становилось ее характерным штрихом, частицей ее неповторимой атмосферы.
Я бережно храню запись наших бесед, как память о человеке, который в своей области был примером честности и высокой профессиональной ответственности, о человеке интеллигентном в самом высоком смысле этого понятия.
И. Хейфиц
Каждый вспоминающий о Владиславе Михайловиче Глинке приводит примеры его феноменальных познаний. Так оно и было – познания его были необыкновенны, а то, что о них помнят, говорит, слава богу, не только о наших малых знаниях, но и о том, что мы хотели бы знать побольше, а раз так, то традиция будет продолжена.
Владислав Михайлович Глинка был одним из самых интересных людей, которых я встречал. Он был писателем, автором прекрасных сочинений о людях конца XVIII – начала XIX века («Повесть о Сергее Непейцыне», «Повесть об унтере Иванове» и другие). Кроме того, что они написаны умно, благородно, художественно, – кроме этого, их отличает щедрость точного знания. Если речь идет, например, об эполетах или о ступеньках Зимнего дворца, о жалованье инвалида, состоящего при шлагбауме, или деталях конской сбруи 1810-х годов, – все точно, все так и было, и ничуть не иначе.
Удивляться этому не следует, ибо писатель В. М. Глинка – это и крупный ученый В. М. Глинка, работавший во многих музеях, являвшийся главным хранителем Отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа и великолепно знавший прошлое…
Приносят ему, например, предполагаемый портрет молодого декабриста-гвардейца, – Глинка с нежностью глянет на юношу прадедовских времен и вздохнет:
– Да, как приятно, декабрист-гвардеец; правда, шитья на воротнике нет, значит, не гвардеец, но ничего… Какой славный улан (уж не тот ли, кто обвенчался с Ольгой Лариной, – «улан умел ее пленить»); хороший мальчик, уланский корнет, одна звездочка на эполете – звездочка, правда, была введена только в 1827 году, то есть через два года после восстания декабристов, – значит, этот молодец не был офицером в момент восстания. Конечно, бывало, что кое-кто из осужденных возвращал себе солдатскою службою на Кавказе офицерские чины – но эдак годам к тридцати пяти – сорока, а ваш мальчик лет двадцати… да и прическа лермонтовская, такого зачеса в 1820–30-х еще не носили… Ах, жаль, пуговицы на портрете неразборчивы, а то бы мы определили и полк и год.
Так что не получается декабрист никак – а вообще славный мальчик…
Говорят, будто Владислав Михайлович осердился на одного автора, упомянувшего в своем вообще талантливом романе, что Лермонтов «расстегнул доломан на два костылька», в то время как («кто ж не знает!») «костыльки» – особые застежки на гусарском жилете-доломане – были введены в 1846 году, через пять лет после гибели Лермонтова: «Мы с женой целый вечер смеялись…»
Вот такому удивительному человеку автор этих строк поведал свои сомнения и рассуждения по поводу одной небольшой детали из биографии прадеда Пушкина Абрама Петровича Ганнибала. Дело в том, что известный историк Дмитрий Бантыш-Каменский записал о Ганнибале со слов Пушкина, что тот в опальном уединении занялся описанием истории своей жизни, но однажды, услышав звук колокольчика, вообразил, что за ним приехал нарочный из Петербурга, и поспешил сжечь интересную рукопись.
– Не слышу колокольчика, – сказал Владислав Михайлович.
– То есть где не слышите?
– В восемнадцатом веке не слышу и не вижу: на рисунках и картинах той поры не помню колокольчиков под дугою, да и в литературе, по-моему, раньше Пушкина и его современника Федора Глинки никто колокольчик, «дар Валдая», не воспевал…
Не помнил Владислав Михайлович в XVIII столетии колокольчика и предложил справиться точнее у лучшего специалиста по всем колоколам и колокольчикам Юрия Васильевича Пухначева. Отыскиваю Юрия Васильевича, он очень любезен и тут же присоединяется к Глинке – не слышит, не видит колокольчика в Ганнибаловы времена: «Часто на колокольчике стоит год изготовления… Самый старый из всех известных – 1802-й, в начале XIX столетия…»
Оказалось, что по разным воспоминаниям и косвенным данным время появления ямщицкого колокольчика под дугою относится к 1770–80-м годам, при Екатерине II.
Выходит, Ганнибал если и мог услышать пугавший его звон, то лишь а самые поздние годы, когда был очень стар, находился в высшем генеральском чине и жил при совсем не страшном для него правлении «матушки Екатерины II».
Но вот – колокольчик…
Колокольчика боялся, конечно, сам Пушкин!
Не зная точно, когда его ввели, он невольно подставляет в биографию прадеда свои собственные переживания.
Но даже не об этих удивительных познаниях Владислава Михайловича хочется сказать, когда его вспоминаешь… Не только о них… Владислав Михайлович был красивый, стройный, добрый человек с огромным положительным полем. Я считаю его существенной, если можно так выразиться, достопримечательностью Ленинграда. Это не просто комплимент и не только уважение к личности. Я считаю, что именно это обстоятельство – особенность его личности – позволяло ему быть на «ты» с прошлым. Прошлое не всякому открывается. Я помню, как об одном специалисте сказали: «все знает – ничего не понимает». Знания большие, а чувства духа нет – и прошлое не дает себя явить, – это лишь склад знаний. Все знания Владислава Михайловича были оживлены его личностью, его духом, его улыбкой, его сарказмом, его добротой, и он был конгениален своим положительным героям, во всяком случае таким, как декабристы, Пушкин, герои 1812 года, и вполне на уровне многознающих мудрецов XVIII и XIX столетий даже при обсуждении общих с ними вопросов. Благодаря особенностям своей личности он вступал в разговор с прошлым, и прошлое ему отвечало. Я думаю, что одним из главных заветов Владислава Михайловича может считаться мысль о значении хорошего человека в истории и в изучении истории. Мы не всегда об этом вспоминаем, а ведь надо быть хорошим человеком, чтобы разговориться с историей. Плохой человек, даже вводя в обиход новые факты, окрашивает их своей дурной личностью – и эти факты почти погибают. У меня есть ощущение, что Владислав Михайлович, разумеется, объективно передавая факты 1812 года, занимаясь атрибуцией старинных портретов, размышляя о декабристах, в то же время давал тому, о чем писал и говорил, некоторую окраску своей личности, – казалось бы, что тут хорошего, и как это инородное явление, привнесенное из нашего столетия, может быть полезно сведениям о старине? Но вот странный химический эффект; еле заметное прикосновение личности Владислава Михайловича – и эти давно ушедшие люди как будто особо и заново освещались, становились виднее, ярче, реальнее как люди именно XIX века, а отнюдь не как выдуманные люди ХХ-го. Хороший, прекрасный человек, Владислав Михайлович знакомил нас с ними, представлял нам целую галерею лиц, ситуаций, персонажей того века, и мы, читая его романы, читая его книжки для детей и юношей, читая его строгие научные исследования, не только познаем, а познаем, одновременно получая эмоциональный заряд. При этом мы, я надеюсь. становимся лучше, а это, может быть, даже главнее, важнее, чем некая сумма знаний…
Н. Эйдельман
В. М. Глинка
Вспоминая В. М. Глинку
Г. В. Вилинбахов
Заместитель директора Государственного Эрмитажа, Главный Герольдмейстер РФ
Придя в Эрмитаж…
(записано на магнитофон М. Глинкой)
Про Владислава Михайловича мне трудно говорить, как про В. М. Глинку, потому что всю мою сознательную жизнь он был для меня «дядей Владей». И тут, конечно, дело двоякое – с одной стороны, раннее знакомство с ним и дружба – это удача, даже счастье, но с другой стороны, я был лишен той неожиданности, которая подстерегала других молодых сотрудников, когда они, придя работать в Эрмитаж, впервые встречали Владислава Михайловича. Это, мне кажется, можно сравнить с тем, как еще задолго до того, как подошел к берегу моря, ты ощущаешь какой-то звуковой фон, гул какой-то. Никогда не видевший моря, ты не знаешь, что это такое, и, лишь выйдя на берег, понимаешь – это прибой… Я думаю, что те, кто тогда приходил работать в Эрмитаж, если не в первый день, то на второй наверняка, еще ни разу Владислава Михайловича не видя, уже о нем слышали – в музее нельзя было о нем не услышать, и особенно, конечно, если речь заходила о Русском отделе. Новый сотрудник невольно ощущал предвкушение встречи – что же это за человек, о котором столько говорят, с мнением которого так считаются? С кем придется столкнуться? А потом происходила эта встреча, и оказывалось, что ожидание – это одно, а реальность – совсем другое. При этом начиналось с самого первого впечатления, с того, как дядя Владя выглядел, какая у него была походка, как он здоровался, как знакомился с молодыми сотрудниками, как он моментально овладевал вниманием и как, в свою очередь, умел слушать собеседника… Собеседник даже не замечал, как попадал в плен, и потом уже не мог понять, отчего это произошло – от содержания ли тех историй, которые Владислав Михайлович рассказывал, от уровня и стиля обсуждения профессиональных вопросов, который сразу обнаруживался, или от увлекательности, с которой обсуждалась повседневная работа, будь то исследование портрета, анализ проектируемой экспозиции, история отдельных предметов или целых коллекций. Я помню, как все и всегда поражались, как ему удается держать в памяти мельчайшие детали и приметы вещей предметного мира, а также и нюансы мира отношений, а дядя Владя объяснял, что совсем не надо пытаться все запоминать или заучивать, это ничего не дает, а просто надо любить, интересоваться и тогда все укладывается в памяти само собой. Но главное даже и не в этом – вовсе не надо запоминать кто там с кем, в каком родстве – надо просто знать, где это можно найти, где посмотреть. И вовсе не надо держать в голове всю эту махину – просто надо взять справочник. Не скажу, что это рисовка, это был, конечно, психологический прием доброжелательного мэтра, который на самом-то деле, вопреки своим словам, обладал огромным объемом знаний, позволявшим ему во множестве случаев обходиться без справочников. Однако мэтр прежде всего считал необходимым дать надежду каждому. Надежду, что даже тогда, когда распутать какую-то загадку, связанную с прошлым, кажется уже безнадежным и невозможным, следует вспомнить, что существует пара десятков справочников. Поскольку, когда дело касается портретов, мундиров, знамен – голова закружится у любого. А надо лишь помнить – об этом посмотреть здесь, а вот о том – там. Владислав Михайлович никогда не давал почувствовать свое превосходство над собеседником, которое порой бывало невероятным, а как бы говорил, вот до моего возраста дорастешь и будешь знать столько же. И нет тут, мол, ничего необычного.
Что же касается воспоминаний о старых сотрудниках блокадного периода и доблокадного времени, то никто, казалось, не может обрисовать их точнее и характерней, чем он. И еще он был, конечно, связующим звеном с миром тех людей.
Я помню, для меня это было особенно важным, как, мне кажется, и для всей атмосферы в музее, что среди работавших в Эрмитаже были люди, являвшиеся не только крупными учеными, но и личностями, пользовавшимися огромным уважением, независимо от должностей, ими занимаемых. Для каждого эрмитажника это имена, на которых до сих пор зиждется понимание того, что такое наш музей. Могу навскидку назвать несколько таких имен. Это Алиса Владимировна Банк, это Иван Георгиевич Спасский, ну, и естественно, тут место и Владиславу Михайловичу Глинке. Можно упомянуть еще очень многих, но я специально, не в обиду никому, не продолжаю список.
Присутствие этих людей было чрезвычайно важным, потому что именно их авторитет и нравственная репутация устанавливали некую шкалу, по которой можно было определять – что такое хорошо, а что такое плохо. Это важно в жизни всегда, но особенно важно в такие времена, когда происходит сбой понятий и представление о том, что можно, а чего нельзя, исчезает. И когда некоторым начинает казаться, что нет никаких ограничений и можно делать все.
В связи с этим для меня, с того времени, как я себя помню, очень важна была существовавшая в нашем доме легенда о дяде Владе, с семьей которого наша семья дружит очень давно, еще со времен детства и молодости дедушки и бабушки в Старой Руссе. И он работает в Эрмитаже, и появление его книжек – это всегда общая радость и гордость. А еще с детства же запало в память случайно услышанное мной в гостях в одном доме, что Глинка перестал подавать руку одному из старых своих знакомых в связи с тем, как тот вел себя во время «ленинградского дела». И это тоже было значимо, об этом говорили, но не как о проходном обстоятельстве или о ссоре двух людей, а как о том, что дает ориентиры. И мне, еще мальчику, становилось понятным, что раз это связано с таким именем, как «дядя Владя», то это вовсе не обычная ссора, а нечто значащее гораздо больше. Это – сигнал. Мол, есть вещи, которые нельзя делать. А если ты этого не понимаешь, то тебе могут перестать подавать руку. Ну, и для меня, повторяю, мальчика еще, было очень важно понять, что же это за вещи.
И предметный урок на данную тему, правда много позже, я получил лично. Это случилось уже после того, как я был дяде Владе представлен, и уже прошло какое-то время, и между нами уже сложились очень теплые отношения. Настолько теплые, что кроме встреч в Эрмитаже я, как минимум, раз в неделю, а то и чаще, бывал у него дома: либо приносил какие-нибудь книжки, либо так просто – это уже было как бы само собой. И мы, конечно, много разговаривали. Об эрмитажных делах, ну и, конечно, о людях. Иногда один на один, иногда в присутствии еще кого-нибудь. И в связи с этими разговорами урок, и прямо скажу, неожиданный, я и получил. Не буду называть фамилии человека, которого это касалось, его уже давно нет, да дело и не в нем.
В один из понедельников дядя Владя пришел в отдел и, посмотрев что-то ему нужное, попросил меня его проводить. Мы прошли несколько залов, и вдруг он каким-то очень строгим голосом спросил меня, помню ли я тот разговор, который возник у нас, когда в последний раз я у него был. Тон, которым он произнес эти слова, был таким для меня необычным, что я до сих пор помню даже место, где их услышал, – это был Малахитовый зал. Я ответил, что помню, он кивнул и опять достаточно строго сказал, что все-таки напомнит мне, что говорили мы об одном общем знакомом (гораздо старше меня) и я позволил себе высказаться об этом человеке без должного уважения и даже несколько пренебрежительно. Дядя Владя сказал, что это его старый знакомый, а потому он просит меня объяснить, почему я говорил о нем именно так. Основания у меня были. И хотя не могу сказать, что мне было приятно их излагать, изложить их я был вынужден. И поскольку я рассказывал дяде Владе то, что в действительности имело место и чему сам был свидетелем, а также что это могло быть подтверждено и другими людьми, то впоследствии дядя Владя от него отдалился, и отношения с этим человеком у него прекратились.
Это был важный для меня урок – и дело не в том, что я оказался прав и ко мне прислушался человек старшего возраста, а было важно то, что, когда дяде Владе показалось, будто я несправедлив к кому-то, он не прошел мимо, мол, его ли дело отношения между другими людьми? Нет, человек, о котором отозвались без уважения, был из его круга, и Владислав Михайлович не считал возможным остаться в стороне. Это было его дело и, поскольку я был для него уже не чужой (чужого, вероятно, он бы поставил на место сразу и еще резче), то он потребовал от меня неких объяснений. Это был очень важный для меня воспитательный момент – с одной стороны, урок того, что нельзя о людях без оснований говорить с неуважением, с другой стороны, мне был преподан урок защиты человека своего круга. А то, что в данном случае защищать было особенно нечего – это уже другая история. Тут важно то, что – хоп! – Владислав Михайлович зафиксировал мою реплику и по поводу ее счел необходимым специально со мной проговорить. Это было важно для него, и это было важно для меня. Он дал мне понять, что раз у нас уже такие близкие отношения, то я должен знать и запомнить, что подобное никогда не будет проходить незамеченным. И, произнося, что бы то ни было, я должен быть готов объяснить, что имею в виду.
Делил ли он людей в зависимости от объема и качества их знаний? Нет, тут, пожалуй, зависимости не было – относился он ко всем одинаково ровно. Это если говорить о том, насколько уважительно он к тому или другому относился. Другое дело, что глубина общения, та уже определялась интересом к этому человеку и к тому, чем он занимался, но я думаю, что и тут, прежде всего, играло роль то, порядочным ли был в глазах дяди Влади этот человек или непорядочным. А еще у него и у круга близких ему людей была такая формула – приличный это человек или неприличный. И я помню, что при встречах с Петром Андреевичем Зайончковским или Юрием Михайловичем Лотманом, когда речь заходила о каком-то еще незнакомом человеке, то один из вопросов был таким: ну, а как этот человек – приличный? И им не надо было объяснять друг другу, о чем идет речь. Это была некая, давно взятая ими за основу определения образа человека формула. И означала она, что нравственные законы, определяющие, что можно, а что нельзя, никто не отменял.
И помню, что некие неписаные обязательства, из которых вытекала ответственность, я испытывал перед дядей Владей всегда. И когда передо мной вставали какие-то трудности нравственного порядка, у кого этого не бывает, то мнение ВМ по этому поводу было для меня всегда чрезвычайно важным.
Для специалистов по русской военной истории одними из наиболее высоко ценимых справочных книг предреволюционного времени были справочники Императорской главной квартиры, изданные под редакцией Шенка. Каждый из томов был посвящен конкретному роду войск. Были тома – «Гвардия», «Армейская пехота», «Армейская кавалерия», «Инженерные войска» и так далее. И Владислав Михайлович тщательно их подбирал. Эти справочники издавались не одним изданием, более позднее было, естественно, более полным, исправленным, и если дядя Владя доставал второе издание, то первое он передавал моему деду – автографы на книгах нашей семейной библиотеки свидетельствуют о неоднократности таких передач. Таким образом, библиотеки, которые составляли себе дядя Владя и мой дед Борис Афанасьевич в некоторые моменты отчасти напоминали сообщающиеся сосуды. Справочная литература, особенно по вопросам русской военной истории, была для обоих предметом особенного внимания и особенного поиска. И когда после смерти дяди Влади ко мне перешли справочники Шенка из глинковского дома, то, совмещенные с дедовскими, они составили комплект практически полный или почти полный. Говорю «почти», потому что одной книги из этого комплекта, как я ее ни искал, найти нигде и никогда я все же так и не смог.
Отсутствие в комплекте этой единственной книги казалось странным, почти необъяснимым. Поскольку постоянное пользование справочниками Шенка было в течение многих лет обычным делом для В. М., а теперь пользование ими сопровождает и мою работу, и тоже много лет, то я терялся в догадках. Книга не просто отсутствовала. То, что ее нет, невольно воспринималось, как пропажа тома из полного собрания сочинений или даже как вырванные страницы из любимой книги. Ну не могло так быть, думал я, чтобы на богатейших книжных развалах 1920-х годов дядя Владя, профессионально высматривая книгу за книгой, не нашел бы ее… Ну не могло так быть. Куда же она потом делась? Зачитали? Но так тоже не могло быть. Каждая книга Шенка – это узкопрофессиональный справочник, а на момент издания наиболее полная энциклопедия сведений по данному роду войск. Такая книга для человека, к которому ежедневно, если не ежечасно обращаются за справками по военной истории (а В. М. был именно таким человеком), это не просто книга, а что-то вроде профессионального инструмента консультанта, своего рода камертон. Дядя Владя, при всей его широте и доброте, дать такое на вынос не мог… Значит, «зачитать» не могли. Так где же эта книга?
И название этой недостающей книги, можно сказать, бросилось мне в глаза, когда в «Блокаде» Владислава Михайловича я прочел об эпизоде, связанном с капитаном Меснянкиным. Историю исчезновения книги с голубым корешком, на котором стояла надпись: «Казаки» – мне суждено было узнать именно там…
Имя ленинградского художника Александра Александровича Труханова (1880–1942), превосходного графика, обладающего, кроме основательных познаний в истории, еще и замечательным вкусом, было хорошо известным в 1920–30-е годы в кругу ленинградских музейщиков и библиофилов. Это имя упоминается в нескольких каталогах и справочниках, изданных в первой половине 1930-х годов.
Детали эпизода, связанного с посещением Владиславом Михайловичем и Натальей Михайловной Шарой разгромленной квартиры Трухановых в 1942 году в устном рассказе дяди Влади (он мне как-то сам об этом рассказывал), несколько отличаются от описанного им в «Блокаде». Мне запомнилось, что библиотека и столовая в квартире Трухановых будто бы были разными комнатами, и в столовую В. М. с Натальей Михайловной сразу войти не могли – вход был заклинен этим громадным столом, на котором были видны обколы, надпилы и удары топором, видимо бессильные… А вот помещение библиотеки, где был кабинет Александра Александровича, – это, насколько я помню по рассказу, была уже другая комната… Они вошли туда и ахнули, потому что там уже, как описано, не было ни одного шкафа, а все бумаги и книги сброшены в груду на середину комнаты, и все пропитано этими жидкими дистрофическими испражнениями… И хотя, как уже говорилось, там ничего вроде нельзя было подобрать, но, кроме указанной тетрадки с письмами «Из кругосветного плавания», все же незапачканными еще удалось обнаружить письмо Н. Ф. Труханова к Т. Н. Трухановой от 29 мая 1864 года и два рисунка «а ля рюс» наподобие васнецовских… Один из них изображает великого князя Ярослава Мудрого, второй – ладью, подплывающую к древнерусскому городу. Оба рисунка незавершенные. Эти рисунки дядя Владя с собой унес, а потом, зная, что у меня собирается по крохам то, что относится к Трухановым, мне впоследствии вместе с тетрадкой писем «Из кругосветного плавания» и передал…
И раз уж зашла речь о работах А. А. Труханова, то необходимо добавить, что в Эрмитаже хранятся три таблицы, изображающие обмундирование и схему организации русской армии XVII–XVIII вв. Они были исполнены в 1930-е годы для того самого ИБО, о котором написано несколько страниц в начале «Блокады», об этих таблицах дядя Владя упоминает. И одна из них – «Вооруженные силы России в 1725 году», составителем которой был он сам, несомненно, зрительным образом стояла у него в памяти, когда он читал свои лекции в палате для раненых зимой 1941/42 г. в Мечниковской больнице. И когда один из раненых («на костыле») говорит после лекции В. М., что теперь он знает, чем отличаются теперешние ружья и пушки от тех, что были в Северную войну, так и видишь таблицу, выполненную А. А. Трухановым…
Отдельного внимания заслуживают экслибрисы работы А. А. Труханова. В начале 1930-х годов им было исполнено несколько экслибрисов, рисунки двух из которых – для собрания книг сотрудника Эрмитажа Андрея Ивановича Корсуна и для библиотеки моего деда коллекционера Бориса Афанасьевича Вилинбахова (дед собирал и систематизировал экслибрисы военных библиотек) – имеются в моем собрании. Оба эти экслибриса художественные с изображением гербов владельцев и композиционными деталями, ясно говорящими о происхождении владельцев. Щитодержатели – запорожские казаки, насека, гербы, трофейные знамена и бунчук вводят нас в мир украинской геральдики. Таков сюжет книжного знака А. И. Корсуна, исполненного в 1932 году. Готический орнамент, шрифт, изображение рыцаря, читающего книгу, – на экслибрисе Б. А. Вилинбахова (1933).
И еще в связи с именем А. А. Труханова хочу упомянуть об одной книжке. Она тоже прошла через руки В. М. и попала ко мне после его смерти. Это «Очерк по истории военного искусства в России XVIII–XIX веков» А. Верховского. На ней надписи: «А. Труханова» – это наискосок (почерком не В. М.) и «В. М. Глинка, 1942. Мечниковск больница» – почерком дяди Влади. Но какая связь между этими надписями? Получил ли В. М. ее из рук А. А. Труханова или она пришла к нему позже?
Еще к рассказанному Владиславом Михайловичем в «Блокаде» теперь следует добавить, что между тем днем или теми днями, когда не осталось в живых обитателей квартиры Трухановых, и моментом, когда Н. М. Шарая и В. М. Глинка увидели то, что с этой квартирой произошло, кто-то все же (а, может быть, и не один человек) побывал там с целями совершенно иными, нежели цели тех соседей, что оставили после себя столь выразительные следы.
Прошли еще годы, и уже не было на свете дяди Влади, когда один из моих знакомых, услышав случайно от меня фамилию «Труханов», вспомнил, что купил как-то по случаю в букинистическом магазине папку со страницами, заполненными рукописным текстом, где мелькала эта фамилия – «Труханов». Ему эта папка была не очень нужна, цена, за которую он ее купил, была совершенно незначительной, и раз, мол, для меня это имя что-то значит… Одним словом, папку эту я получил в подарок.
В папке большого формата оказалась великолепная с графической точки зрения иллюстрированная рукописная история рода Трухановых… Это огромная, многолетняя, хотя и незавершенная работа – она содержит более сотни листов (соответствующих современному размеру А3) текстов, исполненных от руки, с многочисленными, рисованными тушью и акварелью заставками, концовками и иллюстрациями. В рукописи масса изображений гербов, родословных росписей, грамот, патентов, дипломов, исследования и своды данных об отдельных представителях рода от конца XVIII века до начала XX. Но эта работа – огромная и уникальная – требует отдельного не только описания, но и «показа», графические ее достоинства таковы, что только словесным образом дать о ней достаточное представление не представляется возможным.
Быть может, не лишним будет добавить здесь только то, что в предреволюционных адрес-календарях в Петербурге значатся лишь двое Трухановых мужского рода. Это, очевидно, отец и сын – отставной генерал-майор Александр Демидович (или Дементьевич) и коллежский асессор Александр Александрович.
По работам, которые остались от Александра Александровича Труханова, и по тому, что пишет о нем дядя Владя, мы, вероятно, хотя бы отчасти можем представить себе внутренний образ этого художника и человека. И судя по всему – погруженность в русскую военную историю, несомненное ощущение конца своей семейной цепочки, совпавшее с изломом всего привычного, – все это могло породить в такого рода человеке потребность соткать свой индивидуальный способ ухода от действительности, ухода в свою – «рукописно-графическую» страну.
Такая страна и хранится в той папке. Это прошлое, дорисованное воображением. Прошлое, заменяющее будущее.
Это было в начале 70-х. Мне позвонил Владислав Михайлович – то ли он был в Доме творчества в Комарове, то ли прихварывал, но, как бы там ни было, позвонив, он сказал мне, что из Москвы приехал Петр Андреевич Зайончковский со своим аспирантом и им надо бы показать в Эрмитажном хранилище мундиры Милорадовича и Николая I, в которых те были 14 декабря на Сенатской площади. Мол, Петр Андреевич, считает, что это будет очень полезно для его ученика, который занимается декабристами. И что он, В. М., договорился о таком показе с заведующим русского отдела (В. М. тогда уже не работал), хранителем, а меня просит просто чисто технически встретить Зайончковского на Малом подъезде, оформить пропуск, а затем провести в хранилище и показать эти мундиры, поскольку Коршуновой, которая занимается их хранением, тоже почему-то в этот день не было.
Я вышел, как было условлено, на Малый подъезд, Петр Андреевич познакомил меня со своим учеником, это был Сергей Мироненко (с которым мы с тех пор дружим), и мы пошли смотреть мундиры. По дороге к хранилищу у нас с Сергеем возник разговор, который иначе, нежели разговором двух молодых петухов, и назвать-то нельзя. Мы в какие-то считанные минуты сошлись во мнении об относительности подвига декабристов, мол, как ни говори, рассуждали мы, а декабристы – это люди, которые нарушили присягу, и тому подобное. Реакция Петра Андреевича при этом была реакцией старого льва или тигра, когда тот лежит, а около него резвится молодняк. И лев когда хвостом, а когда и лапой отодвигает этих котят в сторону. Петр Андреевич так же миролюбиво, не вдаваясь с нами в споры, что-то нам отвечал, а мы, явно еще друг перед другом рисуясь, рассуждали, в восторге от своей прогрессивности, – вот, мол, все эти офицеры, которые давали присягу, вместо того… и т. п.
А потом мы пришли в хранилище тканей, где по штангам на вешалках висят мундиры, и достали эти два, которые, кажется, уже были заранее приготовлены. Мундир Милорадовича общегенеральский, темно-темно-зеленого цвета, почти черного. Верхней одежды офицеры в строю тогда не надевали, то есть на Милорадовиче, несмотря на середину декабря, никакой шинели не было, лишь мундир, и, поскольку Милорадович в нем был и убит, все внимание гостей на этом мундире и сфокусировалось. И по расположению отверстия от пули и пятну крови сразу становилось понятно, что в Милорадовича стреляли сзади. Это обоих гостей поразило.
Вот в чем сила и убедительность подлинных вещей. Повторяю, что поражен был не только Мироненко, но и сам Зайончковский, всю долгую жизнь занимавшийся русской историей XIX века. То, что Каховский выстрелил в Милорадовича, знают все. Выстрел есть выстрел. Но что выстрел был сделан сзади, в спину, чисто психологически создает совершенно иную картину, нежели та, что нам привычна, совершенно иной сюжет. И этот мундир с залитой кровью левой частью спины вызывал крайне неприятное ощущение, которое, надо сказать, впрямую подверсталось к нашему предшествующему разговору.
И еще я припоминаю, что на дореволюционном рисунке, изображающем сцену с выстрелом Каховского, так это и изображалось – Каховский стреляет сзади, в спину Милорадовича, и тот откидывается назад… Это потом, когда декабристов у нас канонизировали, Каховского переместили, чтобы он стоял перед Милорадовичем, а не за спиной…
Однако некоторые музейные экспонаты порой превращается в вещественные доказательства.
Для меня же главное из того дня было то, что мы познакомились тогда с Сергеем, с которым так наивно, но очень горячо и согласно принялись рассуждать об этике, чести и других высоких чувствах… Мы были страшно довольны собой, довольны друг другом, обоюдно довольны своими неподкупными суждениями. Петр Андреевич, повторяю, нас окорачивал, видимо отлично при этом понимая, что всякому возрасту свойственны свои особенности… Мы же с Сережей Мироненко, который сейчас возглавляет Государственный архив Российской Федерации, с тех пор и дружим, этому уже тридцать лет.
А Петр Андреевич Зайончковский в тот раз, вероятно, меня запомнил не вполне, во всяком случае, не более чем одного из людей моего возраста, которых, наверно, и в Москве около него крутилось достаточно. Быть представленным ему, фактически, заново мне еще предстояло.
С. В. Мироненко
Директор Государственного архива Российской Федерации
«Исторический» брудершафт
С Владиславом Михайловичем Глинкой меня познакомил мой учитель, профессор исторического факультета Московского университета Петр Андреевич Зайончковский. Возможно, это было осенью 1974 года, когда Петр Андреевич приехал в Ленинград, чтобы отметить свое семидесятилетие. Ему хотелось встретить юбилей среди друзей, которых он любил и которые отвечали ему тем же. А может быть, это было в другой раз. В семидесятые годы Петр Андреевич часто бывал в Ленинграде. Он много работал в Центральном государственном историческом архиве, собирая материал для своей очередной книги, посвященной истории российской бюрократии XIX века. Одновременно разворачивалась работа над библиографией «История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях современников», грандиозный труд, вокруг которого Петру Андреевичу удалось сплотить замечательный коллектив библиографов, в том числе и сотрудников «Публички», как для краткости называли Ленинградскую Государственную публичную библиотеку имени М. Е. Салтыкова-Щедрина. Я же в то время, окончив в 1973 году исторический факультет и поступив в аспирантуру к Петру Андреевичу, тоже часто бывал в Ленинграде, собирая материал для своей кандидатской диссертации.
Те, кто близко знал Петра Андреевича, наверняка помнят, как он любил знакомить своих учеников с коллегами и друзьями, которых он ценил и уважал за их профессиональные и человеческие качества. Он был свято убежден, что, поскольку порядочных людей на свете, особенно среди гуманитариев, не так уж много (а в том, что его ученики люди порядочные, сомнений у него не было), они непременно должны знать друг друга. Хорошо помню тот вечер, когда я впервые вместе с Петром Андреевичем переступил порог квартиры Владислава Михайловича на улице Халтурина. Свернув с улицы в ворота дома № 11 и пройдя дворами, мы попали в большую квартиру, расположенную на первом этаже. Не помню уже деталей обстановки, но обаяние старой петербургской квартиры осталось у меня в памяти на всю жизнь. Как и облик хозяина, который поразил меня своей простой и в то же время совершенно завораживающей манерой общаться, великолепным русским языком, наконец, стройной фигурой, не потерявшей, несмотря на возраст, военной выправки и статности. Разговор, естественно, касался исторических сюжетов. Владислав Михайлович рассказывал о своих встречах с В. В. Шульгиным, который, вернувшись из эмиграции,[2] хотя и жил во Владимире, но бывал и в Ленинграде в этой самой квартире. Сейчас уже трудно себе представить, как чудно мне было слышать рассказы о человеке, который был, скажем, свидетелем отречения Николая II и всего несколько лет назад сидел в кресле хозяина дома. Шульгин был уже очень пожилым человеком, и, как рассказывал Владислав Михайлович, несколько раз попросив прощения, на десять минут засыпал, накрыв лицо платком, а затем, проснувшись, продолжал как ни в чем не бывало свой рассказ. Именно от Владислава Михайловича я впервые узнал, что отречение брата Николая II, великого князя Михаила от трона до решения Учредительного собрания было подписано на той же Миллионной улице в доме князя Путятина. Нужно ли говорить, насколько все эти сюжеты были далеки от магистрального направления советской исторической науки. Глинка рассказывал о том, как он работал до войны в Грузине, имении Аракчеева. Говорил о каменных домах, которые Аракчеев строил для военных поселенцев, сохранившихся до наших дней, хотя само имение было разрушено во время войны.
Словом, мой исторический кругозор неимоверно расширился за эти несколько часов. Но оказалось, что самое интересное было еще впереди. Через какое-то время жена Владислава Михайловича Марианна Евгеньевна пригласила нас за стол. Начался ужин. Выпили по стопке водки. И тут вдруг возник разговор, что получается как-то нехорошо – Петр Андреевич и Владислав Михайлович примерно одного возраста, знают друг друга много лет, а все еще никак не могут перейти на «ты». Слово за слово, решено было немедленно исправить упущение и выпить на брудершафт. Однако оказалось, что сделать это не так просто. Как объяснил Владислав Михайлович, существует целый ритуал, который нужно непременно соблюсти. Вначале полагается выпить на брудершафт, затем обругать друг друга и только потом, помирившись, перейти на «ты». Полушутя, полусерьезно все было проделано, как полагается, и после этого один стал говорить другому «Петя», а тот отвечать «Владя». Можно сказать – ну что ж, милая шутка пожилых людей. И да, и нет. Как мне кажется, за этим стояло нечто большее, отличающее Владислава Михайловича и Петра Андреевича от многих других историков, строящих глобальные концепции, но не интересующихся историческими деталями. Прежде всего, это внимание на первый взгляд к мелочам, а на самом деле – уважение к традиции, к факту, стремление и в мельчайших деталях не погрешить против истины. Оба они питали великое почтение к историческому прошлому.
После этого я не один раз встречался с Владиславом Михайловичем. Никогда не забуду, как несколько часов подряд он водил меня по Эрмитажу, рассказывая историю дворца и его обитателей. Вот комната, где умерла императрица Екатерина Великая, а вот другая, в которой расстался с жизнью император Николай I, вот окно, на стекле которого нацарапал надпись император Николай II, а вот след от осколка, который попал в дверь во время блокады Ленинграда. Глинка познакомил меня со своим учеником Георгием Вадимовичем Вилинбаховым, тогда хранителем знамен Эрмитажа. По просьбе Владислава Михайловича Юра показал нам с Петром Андреевичем хранилища русского отдела, в том числе мундир Милорадовича, бывший на генерале в день 14 декабря 1825 года, и неопровержимо доказывающий, что Каховский стрелял ему в спину. А кто, кроме нас, мог увидеть тогда мундир, брюки и сапоги, которые были на императоре Александре II первого марта 1881 года?
Идут годы, а у меня перед глазами стоит элегантная фигура Владислава Михайловича. Помню, как Юра Вилинбахов только что приехал домой после защиты кандидатской диссертации. В Ленинграде разыгралась стихия, наводнение. Появляется в белом шерстяном пиджаке Владислав Михайлович, поздравляет Юру и делает ему царский подарок – Георгиевский крест.
С. М. Некрасов
Директор Всероссийского музея А. С. Пушкина
О Владиславе Михайловиче Глинке
Весной 1972 года после завершения срочной службы в армии я поступил на работу в Музей истории религии. К этому времени я уже несколько лет занимался изучением русского масонства и его роли в культуре России XVIII–XIX веков. Сегодня на эту тему написано несметное количество статей и книг, да и сама тема стала весьма модной, а в связи с появлением в стране в начале 1990-х годов масонских лож даже по-своему актуальной.
Но в начале 1970-х годов библиография по масонству ограничивалась единичными публикациями, а сама тема была полузапретной, что еще более подогревало мой интерес. И поэтому, получив предложение описать коллекцию экспонатов музея, связанных с масонством, я с готовностью это предложение принял. Особенно интересны были предметы масонских ритуалов рубежа XVIII–XIX веков, о которых вскоре мною было написано две статьи. Важно было не ошибиться в датировке этих предметов, на что обратил внимание ученый секретарь музея В. Б. Вилинбахов, когда я передавал ему эти статьи для публикации. Но оставалось лишь посетовать – специалистов именно по масонству, к которым можно было бы обратиться за консультацией, я не встречал. Неизвестны они были и Вадиму Борисовичу, однако он заметил, что в нашем городе есть В. М. Глинка, который может дать самую точную и обстоятельную характеристику любому предмету рубежа веков, и предложил к нему обратиться. Я сказал, что с радостью сделал бы это, но, к сожалению, Глинке не представлен.
– Это поправимо, – сказал Вадим Борисович и тотчас набрал телефонный номер.
– Дядя Владя, у нас работает молодой специалист, который только что систематизировал масонскую коллекцию. Я сейчас передам ему трубку…
Так состоялся наш первый разговор. Владислав Михайлович сразу же согласился посмотреть и уточнить датировки интересующих нас музейных предметов. В ту пору Музей истории религии размещался в Казанском соборе, и мы договорились наутро встретиться у памятника Барклаю де Толли. На следующий день ровно в одиннадцать утра я подошел к памятнику, у постамента которого, опершись на трость, стоял В. М. Глинка. Я представился. Одно из первых моих впечатлений о Владиславе Михайловиче – его приветливость. Когда он начал расспрашивать меня о сфере моих научных интересов, все то напряжение, в котором я был, ожидая встречи, исчезло. С ним сразу было легко. Помню, он сказал, что музейная работа – занятие очень увлекательное. Что в молодости он хоть и собирался стать военным (даже учился на командных курсах), а потом получил юридическое образование, но вот как пошел работать в музей, так вся жизнь в музеях и прошла…
Мы поднялись в помещение фондов, размещавшихся в куполе Казанского собора. Здесь в богатейшей коллекции музея было собрано немало интересного: от дарохранительниц и мощей русских святых до предметов масонской коллекции, которая только что была систематизирована. Слух о том, что в фонды пришел Глинка, быстро распространился среди сотрудников, и уже многие из них стояли рядом с главным хранителем музея, умоляя разрешить присутствовать при разговоре с Владиславом Михайловичем. В самом деле в то утро музейщики услышали немало интересного и просто засыпали Глинку вопросами. Отвечал он с готовностью. Затем, взглянув на часы, извинился, сказав, что более не может задерживаться. Я вызвался проводить гостя. Спустившись в первый этаж, мы прошли через зал основной экспозиции, где Владислав Михайлович на минуту остановился у одной из картин современного художника, изображавшей эпизод из времени Первой Мировой войны.
– Вот, смотрите, сразу видно, что художник не знает того, что изображает. Шинель в ту пору не была такой длины, да и подобные знаки различия совершенно непонятно откуда появились…
Сказав это мимоходом, он направился к выходу. Мы дошли до Невского проспекта, и на прощание В. М. Глинка предложил обращаться к нему по любым вопросам, сказав, что всегда будет рад оказать посильную помощь.
Прошло несколько месяцев, и однажды осенью он сам неожиданно позвонил мне и предложил зайти к нему домой, так как хотел бы со мной посоветоваться по поводу двух портретов, которые его интересуют. От этих слов я просто оторопел.
– Простите, Владислав Михайлович, – в полном недоумении спросил я, – но разве есть что-то такое, что вы не знаете?
– В масонстве, представьте, ничего не понимаю, а на этих портретах помимо известных орденов есть еще какие-то непонятные знаки, так вот не масонские ли? Вы же, систематизируя коллекцию, их сейчас столько насмотрелись, что, может быть, узнаете нечто похожее…
Я поблагодарил В. М. Глинку за доверие и ответил, что с радостью выполню его просьбу. Не скрою, то, что сам Глинка обращается ко мне за консультацией, казалось мне просто невероятным. С другой стороны, меня поразило, насколько серьезно и вдумчиво этот великий знаток своего дела относится к предмету своего интереса, если не отвергает мнения даже совсем молодого музейного сотрудника. В назначенный день и час я отправился по известному адресу на Миллионную улицу. Дверь открыл сам хозяин. В руках у него была половая щетка. Оказывается, он подметал прихожую. Извинившись, что не может сразу подать руку, он пригласил меня войти, а пока мыл руки, в прихожую вышла его жена. Руки хозяина были вымыты, я был представлен Марианне Евгеньевне, и после взаимных приветствий мы перешли в гостиную, где Глинка взял со стола две большие черно-белые фотографии портретов, о которых говорил мне по телефону, и которые, как было понятно, в тот момент его особенно интересовали. Знаки, представленные на мундирах двух неизвестных, никакого отношения к масонству не имели, о чем я и сказал Владиславу Михайловичу.
– Да, я, признаться, тоже так думал, но хотелось еще раз уточнить, – сказал он.
За чаем, узнав, что мой любимый поэт не только Пушкин, но и Державин, Владислав Михайлович немало удивился и спросил, читал ли я державинскую биографию, написанную Ходасевичем. Пришлось признаться, что эта книга, созданная автором в эмиграции, мне не попадалась, хотя, конечно, я о ней слышал и очень бы хотел ее прочесть.
Приближалась очередная лицейская годовщина, и мы вспомнили о знаменитой встрече Державина и Пушкина в Лицее. Глинка сказал, что собирается приехать на лицейский вечер, куда его пригласил Эйдельман, который обещал рассказать о новых архивных находках. Я заметил, что тоже собираюсь в Лицей в этот вечер.
– Тогда до встречи в Царском Селе, – сказал Владислав Михайлович.
В день лицейского праздника я немного опоздал к началу, однако, как выяснилось, Эйдельман был еще в пути. Зал был полон, я занял место в проходе. Вскоре увидел Глинку в первом ряду. Он встал и вышел на площадку лестницы. Воспользовавшись этим, я подошел к нему поздороваться. Мы вновь заговорили о Державине, тем более что за день до этого мне удалось купить в «Старой книге» два роскошных тома знаменитого издания произведений Державина под редакцией Я. Грота. Показав свои покупки, я сказал, что в магазине было еще и полное гротовское собрание сочинений поэта.
– Лишь однажды видел его у букиниста, – сказал Владислав Михайлович, и тут же позвонил Наталье Ивановне Никулиной, она всю жизнь занималась Львовым, а значит, и Державиным, и спросил, не нужно ли ей полное гротовское издание. Она сказала, что просто необходимо.
В этот момент на лестнице появился Эйдельман. Поздоровавшись, Натан Яковлевич расцеловался с Глинкой, извинился за опоздание, сославшись на трудности в дороге, и ринулся в зал, где его давно уже ждали.
Полное гротовское издание я в тот же день по просьбе Натальи Ивановны для нее купил.
Вскоре после этого вечера мой знакомый Володя Хршановский, который был вхож в дом Глинки, сообщил, что у Владислава Михайловича появился экземпляр книги о Державине В. Ходасевича, и он предлагает сделать несколько копий для тех, кому эта книга нужна и интересна. Разумеется, мне это было весьма интересно, и именно в этой копии я впервые прочел замечательную книгу Ходасевича о своем любимом поэте.
Когда-то в разговорах с Глинкой мы сожалели о том, что державинский особняк безнадежно испорчен поздними перестройками. Горевала об этом и Н. И. Никулина, ставшая после смерти Марианны Евгеньевны женой В. М. Глинки и написавшая интересную книгу о Державине в Петербурге, в которой немало страниц посвятила державинскому особняку на Фонтанке. Она никак не могла поверить, что мы когда-нибудь сможем создать музей в этом аварийном здании и хоть сколько-нибудь возродить бывшее великолепие державинского дома. Сомневалась, даже когда мы начали работы по реконструкции дома.
Увы, ни Владиславу Михайловичу, ни Наталье Ивановне не довелось дожить до открытия Державинского музея. Но когда в одном из залов этого музея появился портрет седовласого адмирала Шишкова, мне показалось, что он удивительно напоминает В. М. Глинку.
В последний раз я видел Владислава Михайловича неспешно идущим вдоль Эрмитажа и опирающимся на свою трость. Я шел по набережной, и мне захотелось перейти дорогу ему навстречу, я даже почти собрался это сделать, но Глинка шел, думая о чем-то своем, и я не решился ему мешать.
В. М. Файбисович
Заведующий сектором новых поступлений Государственного Эрмитажа
Урок в школе Глинки
В 1970-х и в начале 1980-х гг. в печати появилось несколько статей В. М. Глинки, посвященных «методике определения личностей, изображенных на портретах, и датировки произведений искусства по форме одежды и орденским знакам». Их публикация ознаменовала собою становление историко-предметного метода атрибуции иконографических памятников, позволяющего по мундиру и орденам «вычислять» изображенного с математической точностью. Теперь, когда этот метод в той или иной степени входит в научный арсенал едва ли не каждого искусствоведа (и сам стал уже темой диссертаций), трудно представить себе, что четверть века назад В. М. Глинке приходилось доказывать его действенность. Добавим, что подобно изящному решению сложного шахматного этюда, оценить которое способен лишь опытный шахматист, идентификация портрета по мундиру и орденам могла быть по достоинству оценена лишь горсткой «посвященных». Впрочем, тогда удивительным это не казалось: советская литература по русскому военному костюму и императорским наградам была крайне скудна, а дореволюционная – труднодоступна. Даже А. З. Крейн, выдающийся музейный деятель,[3] полагал, что овладение этим методом требует слишком больших затрат времени и сил, и потому он должен остаться уделом узких специалистов-консультантов. Более того, весьма приблизительные представления о реалиях дореволюционной России, воцарившиеся в советском искусствоведении, обусловили возникновение традиции чрезвычайно ненадежной идентификации «по внешнему сходству»… Яркий пример такой идентификации явила статья И. Н. Бочарова и Ю. П. Глушаковой «Разгадка тайны старой акварели» в «Литературной России».[4] Сопровождая свою публикацию воспроизведением акварели, изображающей, по их убеждению, М. Ю. Лермонтова и А. Н. Карамзина, И. Н. Бочаров и Ю. П. Глушакова писали в этой статье: «Правда, изучая военную одежду, мы обнаружили, что живописцы не всегда точно передавали цвета и формы отдельных аксессуаров военного обмундирования, следуя при этом законам колористической гармонии, а не предписаниям устава. Поэтому атрибуции, основанные только на соответствиях уставным требованиям цветов мундиров, кантов, пуговиц и эполет, при всей важности этих деталей, страдают существенным недостатком, поскольку не учитывают специфики художественного творчества».
Эта статья вызвала резкую отповедь Владислава Михайловича («Нет, не Лермонтов»).[5] «Из опыта более чем пятидесятилетней музейной работы, – писал он, – мне известно, что акварельные портреты, являвшиеся в то время наиболее точными иконографическими документами, изображали то, что видел художник. А теперь о самой репродукции…» И В. М. Глинка привел целый ряд неопровержимых доказательств поспешности заключения Бочарова и Глушаковой.[6] Ответом на краткую реплику Владислава Михайловича стала пространная статья с безапелляционным заглавием: «Нет, это Лермонтов! (Еще раз о новом прижизненном портрете поэта)». «Главное при иконографических атрибуциях, – без колебаний заявили своему оппоненту Бочаров и Глушакова, – это лицо, а не одежда модели».[7] На этом «Литературная газета» дискуссию закрыла…
В музейном мире эта полемика вызвала сильнейший резонанс. Хотя последнее слово «ЛГ» оставила за Бочаровым и Глушаковой, правота Глинки не внушала никаких сомнений. Г. В. Вилинбахов пригласил Владислава Михайловича на очередное заседание Эрмитажного геральдического семинара. Оно состоялось в Библиотеке Николая II; яблоку упасть было негде. Владислав Михайлович казался моложе своих лет; его возраст выдавала лишь седина – он был элегантен и энергичен. Его блестящее выступление, посвященное проблемам атрибуции иконографических памятников XVIII и XIX столетий, прозвучало в тишине почти благоговейной. Это был единственный в своем роде мастер-класс, и подобного слышать мне уже не доводилось – это был урок в школе Глинки.
Министр двора
(Реставрация одного из эпизодов молодости В. М. Глинки силами трех лиц: друга его юности, соавтора по написанию книг и племянника)
Однажды весною, в час небывало жаркого заката…
Михаил Булгаков
В. М. Глинка
А. В. Помарнацкий
М. П. Муров
В середине 1920-х годов под вечер теплого весеннего дня на скамейке Летнего сада сидел, заглядывая в конспект, студент университета, а вскоре на ту же скамейку подсел очень старый сухощавый господин. Во всех движениях старого господина чувствовалась неторопливая изысканность, он был в поношенном чистом платье, а на панталонах у него были следы споротых генеральских лампасов. Через какое-то время студент достал пачку папирос, это были «Сафо» (двадцать шесть копеек пачка) и, закуривая, предложил папиросу и нечаянному соседу.
Старому господину «Сафо» явно были не по карману, он с удовольствием выкурил папиросу, похвалил ее, поговорил, как водится, с предложившим ее о вещах безразличных и, уходя, подал студенту холеную руку. Студент пожал руку, отчетисто щелкнул каблуками, к чему, как несостоявшийся кавалерист, всю жизнь был привержен, и веско при этом произнес вполголоса: Глинка.
На это старый господин, очевидным образом всю жизнь носивший шпоры, почел себя обязанным также прищелкнуть каблуками и произнесть при этом вполголоса: Фредерикс, также сделав некоторое ударение на первом слоге.
Так, по словам мемуариста, выглядела сцена нечаянной встречи бывшего министра Императорского двора и Уделов графа В. Б. Фредерикса с будущим историком, а тогда студентом юрфака В. М. Глинкой.
Слова, отмеченные курсивом, цитируются из некоей неизданной еще хроники, двухстраничная главка которой так и называется: «Граф Фредерикс». Автор этой хроники – многолетний друг и соавтор В. М. Глинки по музейным трудам – Андрей Валентинович Помарнацкий. Однако тут нельзя не добавить, что в дань краткости, которую замечательный историк и изысканный стилист А. В. Помарнацкий справедливо почитал важнейшим качеством таланта, были принесены здесь некоторые детали эпизода, который по воле автора фокусировался на чертах образа именно министра двора. Устному же варианту рассказа об эпизоде в Летнем саду А. В. Помарнацкий позволил быть не столь лапидарным, и в нем, помнится, присутствовала еще одна сюжетная линия. Владислав Глинка, оказывается, сидел на скамейке в Летнем саду не один, а с приятелем (от кого, собственно, и стали известны добавочные подробности), и, кроме того, отношения студента и бывшего министра двора после того, как оба они прищелкнули каблуками, еще несколько минут продолжались.
Так, услышав фамилию собеседника, студент Владислав Глинка якобы пришел на мгновение в полное замешательство. И замешательство это, как можно было понять, объяснялось именно тем, что того, с кем говорит, он не узнал сразу. Но теперь, когда узнал, то пробормотал вполголоса, что оплошность свою он готов исправить.
Фредерикс был человек светский. Молодой человек, не узнав его, смутился? Да полноте, усмехнувшись, сказал Фредерикс, он теперь и сам себя не узнает. Виноваты, видимо, усы, вернее, их отсутствие. Всю жизнь носил, а теперь вот не носит, и стал неузнаваем.
– Я готов исправить свою оплошность… – пробормотал студент, глядя в выцветшие голубые глаза Фредерикса, и добавил, что в компенсацию за оплошность берется перечислить на память все бывшие должности и все награды министра двора. Фредерикс опять тепло усмехнулся. По-прежнему, нисколько не впадая в серьезность, он сказал, что, пожалуй и даже наверняка, сделать этого не смог бы и он сам, молодому же человеку, расположение к которому он все живее ощущает, не удастся тем более. И дело вовсе не в его, Фредерикса, личных заслугах, добавил граф. Список наград, занимавший, если ему не изменяет память, несколько страниц «Придворного календаря», отмечал вовсе не Фредерикса, как такового, а некий пост, оказать внимание которому было всего-навсего обязательным ритуалом и данью правилам дипломатического этикета. Так что если кое-какие из должностей он бы и сам смог припомнить, то, что касается попыток перечислить его регалии, – три четверти из которых, он повторяет, были и в момент получения сущими побрякушками, – то предприятие это вполне безнадежное…
– Да и вообще при нынешних обстоятельствах едва ли уместное… – с мягкой усмешкой произнес Фредерикс. Но что-то в выражении лица молодого человека заставило старого графа прервать свои возражения. – Впрочем, любопытно… – добавил он. – Готов вас выслушать.
Последовавший вслед за этим монолог единственный его сторонний свидетель Михаил Петрович Муров, друг Владислава Глинки по кавалерийским курсам, в дальнейшем полярник, а в конце жизни и директор Дома творчества художников, дословно передать не брался. Муров утверждал, что Владислав говорил вполголоса много минут непрерывно, при этом, если при перечислении российских его орденов бывший граф с усмешкой лишь слегка кивал головой, то когда Владислав после орденов австрийских, датских, итальянских, великобританских, греческих, турецких, китайских принялся перечислять ордена Черногории, Виртемберга, Сиама, Абиссинии, Гессена, отдельно называя Саксен-Веймарские и Саксен-Кобург-Готские награды, то старик, глядя в лицо студенту, стал медленно садиться, вернее, оседать на скамейку.
– Еще приравнен к ордену может быть портрет Шаха Персидского, украшенный бриллиантами, – интонационно заканчивая тираду, сказал студент. – Остались медали – кажется, три бронзовых и четыре серебряных… Теперь должности…
Старый министр молча сидел на скамейке, слегка покачивая головой. «Фредерикс – сухой, крепко сделанное лицо, палка, до сих пор держится, – писал Александр Блок летом 1917 года. – Шведский граф. Изящнейшие руки, благороднейший говор и манеры. Пленителен, – старые времена. Одна из лучших и характерных фигур. Изящество».
Составителем данной книги настоящий эпизод приводится, как пример одного из первых известных ему случаев, когда В. М. приоткрыл страничку своей феноменальной памяти.
А лет тридцать или сорок спустя после описанного опыты распознавания портретов неизвестных, основанные на скрупулезнейшем анализе деталей экипировки и формы, нагрудных знаков, пуговиц, шитья и, особенно, набора наград портретируемого лягут в основу стройной методики, разработанной В. М. Глинкой. В некоторых случаях, утверждала эта методика, даже сам мундир без владельца может совершенно точно указать, кто был его хозяином. Вероятно, парадный мундир министра двора мог бы служить тут идеальным пособием…
Однако в монологе, произнесенном при Фредериксе, В. М. коснулся только наград и должностей… Почему? Ну, во-первых, сам Владислав был тогда еще молод и, конечно, еще не был тем всеведущим историком, которым стал позже, а, во-вторых, четверть века, проведенные бывшим кавалерийским генералом на высших придворных постах, до такой степени лишили этого достойного человека собственной биографии, что, кроме как об официальных штрихах его службы, собственно, и говорить было не о чем. Впрочем, почтенный старик и сам об этом сказал первым. Добавим к тому же, что Фредерикс, еще за десяток лет до 1917 года, если выпадала такая возможность, старался не надевать не только что свои бесчисленные регалии, но даже и вообще военную форму… Что, впрочем, не помешало старому графу, которому было уже за 85, с удовольствием услышать монолог студента в Летнем саду…
Переписка с А. И. Солженицыным
В начале 1971 года В. М. Глинка через общих знакомых получает рукопись «Августа Четырнадцатого», сопровождаемую устной просьбой автора прочесть ее и высказать свои замечания и соображения.
Список того, на что В. М. Глинка при чтении рукописи хотел бы обратить внимание автора, он озаглавил как «Ответы на некоторые вопросы». В отличие от обычного для него, написанного от руки отзыва В. М. посылает автору «Августа» свои замечания в виде машинописном. Более того (вероятно, в этом случае вспомнив, что у него за почерк), оставляет машинописную копию «замечаний» в своем архиве. Итак:
Стр. 1. Дворцовый мост начат постройкою в 1912 году, но война 1914 года помешала завершению его отделки. Движение по мосту открыто 23 декабря 1916 г. с временными деревянными перилами и будками. Только в 1956–57 гг. появились гранитные парапеты и т. д.
2. Кн. Павел Павлович Путятин родился 17/VI 1872 г., окончил Пажеский корпус, откуда выпущен в Кавалергардский полк, в котором служил до 1907 г. Вышел в отставку с чином полковника, после чего состоял «в должности шталмейстера двора е. в.» вплоть до 1917 г. Женат с 1898 г. на Ольге Павловне Зеленой. У них дочь Наталья род. 1903 г. Портрет П. П. П. см. «Биография кавалергардов», т. IV, стр. 366.
3. Квартира П. П. П. во втором этаже дома 10 по Миллионной улице занимала половину парадного этажа и состояла из 9–10 комнат (точнее определить за перепланировкой невозможно), выходивших на Миллионную улицу и на широкий двор. На последний выходили также людские и кухня, расположенные под прямым углом к Миллионной.
4. Хорошая фотография М. А. Романова (в шинели и фуражке), относящаяся к январю 1917 г., помещена в журнале «Нива», 1917 г., № 3, стр. 47.
5. Солдаты запасных батальонов гвардейских частей, составлявших основную часть петроградского гарнизона в феврале 1917 г., зачастую носили некоторые элементы формы мирного времени, а именно цветные петлицы на шинелях и красные погоны, а также белые или черные пояса с медными бляхами (белые – в 1-х, 2-х и 3-х полках пехотных дивизий, черные – в 4-х полках и артбригадах). В белых поясах были оркестры 2-го марта при похоронах жертв революции. Иногда «в город» носили даже цветные бескозырки, какую видим на фотографии известного в то время унтер-офицера л-гв. Волынского полка Тимофея Ивановича Кирпичникова, награжденного командующим Петроградским военным округом ген. Л. Г. Корниловым солдатским Георгием IV-ой степени за то, что «первым поднял знамя восстания среди солдат Петроградского гарнизона».
8. Через три недели после начала войны на всех жел. дорогах шло движение множества эшелонов, перевозивших команды запасных ниж. чинов к месту формирования второочередных полков. Везли лошадей, повозки, кухни и другие виды военного имущества. От фронта в тыл уже двигались поезда, набитые легкоранеными, от которых разгружали прифронтовую полосу.
12. Станция тогда называлась не Ясная Поляна, а Козлова Засека.
19. В те время словом «трельяж» никто не называл тройное зеркало, а только стенку-решетку для вьющихся растений.
21. Солдат «двадцатипятилетник» – не совсем точно. С 1834 года действительная служба продолжалась пятнадцать лет, а последующие десять строевые нижние чины находились в запасе, призываясь на один месяц в году на сборы.
4. Почему Ксения закрывает дверь своей комнаты на ключ, будучи в родительском доме, где нет никого, кроме своей семьи и испытанной прислуги.
6. Почему Роман входит к ней в кепке? Даже безбожник, он с молоком матери всосал необходимость, входя в дом, снимать головной убор.
29. Либо балет, – либо – босоножки. Это два противоположных, враждующих течения.
32. Таких цен на золото не бывало. Золотой портсигар стоил 200–300 рублей. Для такой цены, как у Вас, он должен быть осыпан бриллиантами, иметь платиновые украшения и т. д.
64. «Шофер виноградарский сынок, научился в армии…» Чему? – автомобильному делу? Весьма мало вероятно. В начале войны 1914 года в Русской армии существовало всего две автороты. А ведь, очевидно, он отбывал воинскую невинность в году 1909–10.
58–59. В гимназиях не было семестров, а были четверти.