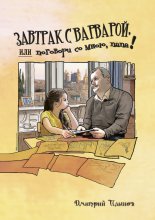Воспоминания о блокаде Глинка Владислав
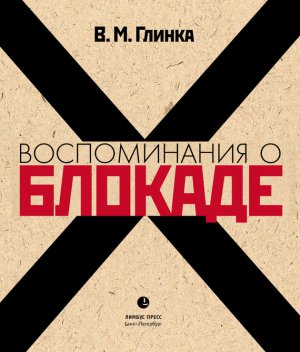
– На что без начала-то? – возразил моряк. – А романы переводные? Про любовь? Но чтобы с приключениями?
Букинист предложил «Анну Каренину». Переводного у него явно ничего не было. При этом он все время смотрел на сумку моряка.
– Да, нет… – откликнулся моряк. – Позабористей надо. Ну хоть о Шерлоке Холмсе?
Но не было и Шерлока Холмса. В это время второй моряк подошел к продавцу, протягивая томик Пушкина с иллюстрациями Билибина, вынул бумажник и расплатился.
– Ребятам в эвакуацию пошлю, – сказал он удовлетворенно, – красивое издание…
– У меня есть дома несколько романов, переводы с французского и с английского, – отважился сказать я.
– Далеко живете? – спросил тот, что с сумкой. – У нас времени в обрез.
– Совсем близко. Два квартала по Некрасовой.
– Съездим, Валя, – сказал купивший стихи. – Садитесь живо в машину.
Когда сели и тронулись, моряк спросил:
– А сами чем занимаетесь?
Я соврал, что служу научным сотрудником Эрмитажа. Но месяц назад я еще был таковым, а что такое Эрмитаж, никому объяснять было не нужно.
– Что же не уехали с коллекциями? – спросил тот, что с сумкой – Нам в части говорили, что все ценное вывезли.
Я ответил, что надо же кому-то и здание сберегать, поскольку оно само по себе великая ценность. Да и коллекции увезены далеко не все. Самое ценное увезли, но остальное-то в подвалах… Два этажа кирпичных сводов никакая бомба не пробьет. А потом, кто знал, что таким голодом все обернется…
Когда мы вошли в нашу полутемную комнату, Ольга Филипповна и Ляля лежали, закрытые одеялом и пледами. Марианна Евгеньевна возилась с полупустой кастрюлькой на печурке. Рядом с кастрюлькой подсушивался маленький квадратик хлеба.
Я пригласил моряков присесть к моему столу и стал доставать с полок книги – Джека Лондона, Уэллса и другие, которые, мне казалось, им понравятся. Моряк сидел, сняв шапку, но глядел не на книги, что я клал перед ним, а осматривался и качал головой.
– Почему вы до сих пор не увезли девочку? – почти сурово спросил он.
– Ждем машину от знакомых военных, – ответила Марианна Евгеньевна. – Если дождемся…
– А сколько девочке лет?
– Девять, – ответила сама Ляля, высунув из-под одеяла бледное личико.
Моряки переглянулись и тот, у которого была сумка, стал выгружать из нее и класть на стол буханку хлеба и одну, две, три банки мясных консервов, потом горсть кусков сахара, потом оба встали и, как по команде, надели шапки.
– Вот, чтобы дождалась. Подкрепите девочку до отъезда, – сказал тот, что опорожнил сумку. – Пошли, капитан!
– Но вот же книги, книги-то вы не взяли…
– Не надо. Обменяйте их на что-нибудь, а нам, вообще-то, и читать на батарее некогда… Пошли, комиссар… Девочку поскорее увозите.
– Ну хоть по одной-то книжке возьмите на память, – взмолился я.
– На память? Это можно… – Капитан оглядел стеллаж. – Вот эта, синий корешок, на котором серебром «Казаки»…
Это был справочник казачьим частям перед войной 1914 года. В нем же имелись исторические справки про время образования каждой из частей, краткая их история.
– Подходит, – сказал капитан. – Мы ведь оба из донских казачьих мест. – Он взял вынутую мной книгу и сунул ее в опустевшую сумку. – Счастливо вам оставаться и скоро уехать.
Когда они были в дверях, лежащая под пледом Ольга Филипповна, подала голос:
– Скажите хоть, как вас зовут, господин моряк?
Капитан назвал фамилию.
– Поминайте нас обоих, мамаша, если вы, как моя бабушка, верующая, – добавил он и с этим вышел.
Когда я возвратился в нашу комнату, все втроем плакали.
– Как его фамилия? – спросил я. От того, что произошло, я еще не совсем опомнился.
– Веснянкин, – ответила лежащая Ольга Филипповна.
Ляля стояла у стола и считала кусочки сахара.
В один из дней, когда я устроился на новую работу и, возвращаясь с нее, входил в ворота нашего дома, меня окликнула управдом Бехова.
– А вы рази не уехали? А к вам тут командир приходил. Так я сказала, что уехали. На большую землю. Это, значит, не вы вчера грузились? А он загрустил… Не уехали, значит? А я сказала, уехали…
– Ничего не передавал? – спросил я.
– Так я же думала, что уехали… – Бехова хитро смотрела на меня.
– Как же мог я уехать, когда моя жена вам говорила, что уедет только она одна. И вы это знаете… Справку же выдавали?
– Да рази всех упомнишь… Много вас тут прописано. Напишут, что уедут, а сами…
Добавлю, что сколько я ни просил двоих своих школьных друзей, ставших в конце войны контр-адмиралами12, помочь мне в поиске офицера береговой обороны по фамилии Веснянкин, они оба со временем отозвались, что по их каналам найти его не удается. После войны, уже в 1947 году, я просил навести подобные справки вице-адмирала Юрия Федоровича Ралля. Обязательный и точный Юрий Федорович записал в блокнот все, что я мог сообщить, но и ему через месяц ответили, что такого офицера в Балтийском Флоте во время войны не значилось. И тогда у меня вкралось предположение, что из скромности добрый человек наскоро придумал себе псевдоним, соответствующий времени года.
Такое предположение находилось в соответствии с тем радостным и благодарным, что внесли оба моряка в нашу жизнь своим поведением, своей добротой. Но много лет спустя мне в руки попал изданный в 1962 году сборник статей «Воины Балтики», и я встретил упоминание о командире батареи капитане Меснянкине. Тотчас я послал в архив Министерства обороны запрос о командире с такой фамилией и вскоре получил ответ, что Меснянкин Всеволод Николаевич ушел в запас в 1953 году в звании подполковника и после демобилизации куда-то уехал. Но куда? Как хотелось бы мне увидеть его снова и узнать хоть что-нибудь о дальнейшей жизни этого человека, навсегда оставшегося в памяти нашей семьи…
Когда разбирая по фразам, а то и по отдельным словам рукопись дяди, я добрался до страниц, посвященных капитану Меснянкину, то как только прочел его фамилию, вспомнил, что в папке с фотографиями, оставшимися от В. М., на глаза неоднократно попадался снимок морского командира, в кителе еще без погон (значит, до 1943 года), на обороте которого, почерком, правда, не В. М., а его вдовы, Натальи Ивановны, написано – «Мяснянкин». Видел ли этот снимок В. М.? Едва ли. Скорее всего снимок этот уже после его смерти случайно обнаружила в каком-нибудь архиве сама Наталья Ивановна и, видимо, помня устный рассказ дяди (он писал «Блокаду», когда они были вместе в Эльве), запомнила эту фамилию. Но спросить – точно ли так? – уже поздно…
В 2004 году вышла толстая книга большого формата В. К. Красавкина и Ф. С. Смуглина «Здесь град Петра и флот навеки слиты», История морских частей в городе на Неве (1703–2003). «БЛИЦ» СПБ, 2004. В алфавитном списке в конце этой книги я нашел В. Н. Меснянкина. Командовал он «19-й отдельной железнодорожной артиллерийской 180-мм батареей», а транспортеры его стояли первой блокадной зимой на станциях Охта-товарная, Московская-сортировочная и Шоссейная. На странице 314 В. Н. Меснянкин значится как капитан (январь 1942 года), на странице 319 – уже как майор (май 1942).
Еще из книги можно узнать, что тяжелые орудия 19-й железнодорожной батареи 1 мая 1942 года принимали участие в мощном артобстреле полутора десятками подобных батарей вражеских прифронтовых гарнизонов. Обстрелу тогда подверглись Слуцк, Пушкин, Урицк, Красное Село, Константиновка, Стрельна, Новый Петергоф, Знаменка, Володарский, Немецкая колония, железнодорожный узел Мга.
Таким образом, реальность существования этого человека, которого так хотел разыскать В. М., подтвердилась. Как жаль, что они так больше и не встретились! Как жаль! Это ведь был, судя по всему, тот самый тип человека, которого В. М. все время искал и в реальной жизни, и среди архивных бумаг.
Зная дядю, уверен, что если бы он разыскал Меснянкина, то нашел бы такую форму дружбы с ним, которая позволила бы им быть близкими людьми до конца дней.
12 АПРЕЛЯ 1942. Ледовая трасса через Ладожское озеро, названная позднее “Дорогой жизни”, была единственной магистралью, соединяющей осажденный город с “Большой землей”. По ней в 1942 году было эвакуировано несколько сот тысяч горожан. Фото Р. Мазелева
В. Н. Меснянкин
23
За несколько дней до отъезда моих близких, когда мы находились в напряженном ожидании прихода машины из Тихвина и в тысячный раз обсуждали вопрос, ехать ли мне с ними или не ехать, к нам неожиданно пришел случайно встреченный мной на улице огромный и страшный в своей устрашающей худобе некий мой товарищ по средней школе.
До сих пор недоумеваю, почему ему пришла в голову мысль приобщить именно меня к этому источнику питания. До войны мы виделись очень редко и всегда не у меня, а у его сестры, бывшей замужем за моим близким другом. Но, так или иначе, он пришел и сказал мне, что идет к некоему лицу, начальнику гужевого обоза, развозящего хлеб по торговым точкам, у которого за ценные вещи можно выменять хлеб и конину. На вопрос, какие ценности идут в ход, мой знакомый ответил, что хорошо идут золото и серебро, а также отрезы на пальто или костюмы. Он сам несет серебряные ложки и стаканчики.
Ворота, в которые мы вошли, были на Обводном канале. Из будки выглянул привратник, и мой спутник сказал:
– К Олейникову. К Роману Артемьевичу.
Мы шли через двор, на двор выходили однотипные сараи, за растворенными дверями которых стояли ломовые телеги. Дальше следовали конюшни. Мы подошли к какому-то деревянному строению в глубине двора, и мой вожатый постучал костяшкой пальца в дверь.
– Войдите! – крикнули изнутри басовым голосом. – А! (Роман назвал моего товарища по имени-отчеству) С чем пришли? Хорошо…
Быстро, но тщательно Роман осмотрел принесенное моим приятелем.
– Три кило конины, два кило хлеба. Идет?
– Мало, Роман Артемьевич…
Они торговались, а я рассматривал Романа Артемьевича. Ему было лет под пятьдесят, он был не то чтобы очень толстый, но круглый и широкий в плечах, в отличном теле не без брюшка, лицо круглое, черты бесформенные, взгляд черных глаз самоуверенный и острый. Движения неторопливые, но твердые. Одет в защитный суконный китель, в такие же галифе и хромовые командирские сапоги, как бы в униформу ответработника.
Я принес Олейникову отрез бостона на костюм, купленный перед войной на гонорар за первую мою книжку «Бородино», и золотые часы моей бабушки Анны Алексеевны, очень изящные, правда стародавней конструкции с ключиком, но на ходу. Осмотрев принесенное мной, Олейников сказал:
– Два кило хлеба и два конины.
Я не спорил. Это было богатство. Роман Артемьевич вынул из тумбочки письменного стола две буханки хлеба и передал нам, после чего, не торопясь, позвонил в настольный звонок с пружинкой. Только мы успели спрятать свой хлеб, как явился некто с бородой и в белом фартуке и застыл на пороге.
– Евсеич, отвесь мяса… Упакуй и принеси сюда.
Пока Евсеич ходил за кониной, Роман спросил меня, чем я занимаюсь. Я ответил, что работал в Эрмитаже, а сейчас в госпитале для рабочей карточки. Он уловил то, что я сказал о карточке, и добавил, что готов помочь с продовольствием. Когда, неся свои пакеты, мы вышли из калитки, я спросил товарища, откуда у Романа столько съестного? Мой приятель пожал плечами.
– Чудак. Очень просто. Он – начальник гужевого обоза…
И мой приятель рассказал, что с каждого возчика, а их в обозе Олейникова до тридцати, тот получает в день килограммовую буханку хлеба, а раз в неделю в обозе забивают коня, т. е., как говорит сам Олейников, «режут лошадь». Составляют акт о том, что пала от истощения, и требуют из воинских частей новую, взамен.
Принесенное мной показалось нам с Марианной Евгеньевной богатством. Это подкрепление мы экономно растягивали до самого отъезда в Тихвин моих близких. Часть они взяли в дорогу через озеро, часть оставили мне.
Через несколько дней после отъезда моих близких до меня дошла страшная весть. Некто лейтенант Белаш сообщал в открытке, что 13 марта погиб мой брат Сергей. Он был убит наповал снайпером.
Сергей был перед этим ранен и после перевязки, не надев каски на перебинтованную голову, вышел на крыльцо домика в Колпине, где был медсанбат. Снайпер, совершенно очевидно, поймал в прицел белую повязку.
Белаш нашел мой адрес в полевой сумке брата и написал открытку. По интересам и возрастам мы с Сергеем никогда не были особенно близки, но я любил его, как брата, и глубоко уважал за прямоту, стойкость и мужество и за благородство характера. Просидев три года под следствием в 1937–40 годах, он, несмотря на то что ему переломали три ребра и выбили почти все зубы, не подписал ни одного протокола против кого бы то ни было, и тем спас от приговора своих «подельников», многие из которых сразу во всем «сознались». При смене Ежова Берией был краткий период, когда часть незаконченных дел было приказано считать вредительски организованными Ежовым, и потому «пересматривались». Брата освободили, как и его соучастников, с предложением этому полуживому человеку возглавить прерванную ответственную работу. Предложение было смехотворным – человек действительно был полуживым. Едва-едва за год, проведенный в Старой Руссе, он начал было приходить в себя от трехлетнего заключения и следствия, и тут началась война. Его призвали в армию, хотя со всеми своими травмами он был, конечно, годен к службе лишь ограниченно.
4 ДЕКАБРЯ 1941. Порожний обоз направляется за продуктами по льду Ладожского озера. Фото В. Федосеева
С. М. Глинка
И вот он убит.
Впрочем, я знал, что перенесенное им в 1937–40 годах притупило его волю к жизни. И я понимал, что жить в таком состоянии духа, как у него, – это сознательно идти к гибели. Но одно дело – прийти к такому выводу, другое – узнать о гибели близкого человека.
Несколько дней я маялся мыслями о нем, припоминая тысячу детских происшествий, я слышал его голос, видел его жесты. Сергей был на четыре года старше меня, но в какие-то периоды мы вдруг словно становились ровесниками: так в 1920–21 годах мы оказались одновременно на кавалерийских курсах, потом, еще через несколько лет, – студентами… Несколько дней я не мог думать ни о чем, кроме его гибели. Я плохо спал, и, сознавая, что надо, хотя бы через силу, ходить, я топтался в своей полутемной комнате, но в госпитале в передышке между перетаскиванием носилок лежал, обессилев, ничком или сидел неподвижно в приемном покое. Мои сослуживцы, узнав о случившемся, относились ко мне очень бережно – старшая сестра приемного покоя Анна Анатольевна крепко приструнила Ваньку, и тот на какое-то время перестал понукать и тиранить меня. А я ощущал, что силы мои на исходе, протяну я недолго, и, конечно, если хотел жить, надо было уезжать вместе с моими. Да и город был полуживым. Но в то же время теперь, после гибели Сергея, я понимал, что мое присутствие тут – это единственное, что может сберечь место, куда всех – не только Марианну Евгеньевну и Лялю, но и семью брата – можно будет взять после войны из Кологрива. Ведь в Старую Руссу13 без Сергея, как хозяина, не к кому будет возвращаться – я-то навеки связан с Ленинградом.
И еще я думал о том, что вот-вот известие о гибели Сережи дойдет до Кологрива, до мамы и Екатерины Александровны14. Из нас, троих братьев, Сергей был мамин любимец – как-то выходило, что ему всегда доставалось больнее других в жизни. В детстве он больше всех болел, в юности и зрелости при его прямом и бескомпромиссном характере «шишки» доставались ему отовсюду. И вот мама узнает, что его уже нет. Я даже не мог себе представить, как она это переживет. Разве что дети его помогут. А вот как Катя? Я знал, как тяжко она переживала его заключение и как ожила, когда он вернулся… А теперь что с ней будет?
В шестидесятых-семидесятых мы с женой ездили в Колпино, где было небольшое военное кладбище, тщетно пытаясь добиться в местном военкомате разрешения написать на одной из пирамидок, где стояла надпись: «65 стрелковый полк», имя моего отца. В начале восьмидесятых кладбище срыли, на его месте сразу что-то выстроили, и было сообщено, что все останки перенесены в Красный Бор, где будет общий мемориал.
Услыхав это, дядя зло махнул рукой, а в очередной раз, когда я сказал, что мы собираемся в Красный Бор добиваться того же, что не удалось в Колпине, рассказал мне следующее.
Однажды он был приглашен участвовать в комиссии по перенесению прахов знаменитых людей с разных городских кладбищ в некрополь мастеров искусств Александро-Невской Лавры. Не помню, говорил ли он, в каком виде были доставленные в некрополь останки, но сохранилось в памяти, что речь шла не об одном, а о несколькихпрахах. И около каждого праха лежала придавленная камешком бумажка с именем. Дядя их называл. Имена сейчас не помню, но ведь перезахороненных в разное время было много. И Дельвиг, и Куинджи, и Шишкин, и Крамской, и Витали до революции покоились отнюдь не в Лавре, а кто на Смоленском, кто на лютеранском Волковом, кто еще где… Процедура перезахоронения была совершена, комиссия при этом присутствовала, но через какое-то время одна из служащих музея в Лавре конфиденциально рассказала дяде, что бумажки, которые к прибытию комиссии были прижаты камешками, перед этим носило налетевшим ветром между могил, удалось их разыскать не все и пришлось спешно дописывать недостающие по имеющемуся списку, что едва успели к прибытию комиссии. А уж чтобы разбираться, где какая до этого лежала, было не до того…
– Да кабы только это… – сказал В. М.
И предложил мне сравнить старый и новый планы того же кладбища. Почему некоторые надгробия даже из тех, что там исконно и были, переехали впоследствии с места на место? Группировались по профессиям? Или поступил приказ выпрямить дорожки к очередному приезду начальства? Как я думаю, зная нашу жизнь, спросил он, прахи при этом переносили?
– И это, заметь, еще самое знаменитое кладбище города, – сказал он. – А ты говоришь – Красный Бор! У них там что? Другое государство? Нет там праха Сергея…
24
За неделю после получения открытки лейтенанта Белаша я извелся. А тут еще поранил руку. Поздно вечером перед сном при попытке отрезать горбушку хлеба, нож у меня как-то сорвался, и я угодил острым концом в какой-то большой сосуд на ладони. Кровь забила буквально фонтаном. Она приостанавливалась только тогда, когда я зажимал артерию у локтя, и вновь била, как только отпускал. Стол оказался обильно политым кровью. При этом я сам не мог даже перетянуть руку – одной рукой узел не сделать, а из второй буквально хлестала кровь, едва отпускал. Была половина второго ночи, после одиннадцати ходить по улице воспрещалось. Я стоял над окровавленным столом и растерянно думал, что же делать? Потом сообразил – в соседнем доме, на Басковом, 16, помещался какой-то штаб. Попробую добежать туда – может быть, там случайно дежурит врач. Как был, без пиджака, в одной рубахе и брюках на подтяжках, не запирая входной двери в квартиру (где я был один – соседка жила на казарменном положении), я выбежал на улицу к соседнему подъезду. На мое счастье, он оказался отперт. И встретил двоих дежурных. Один из них, увидев мою руку, спросил:
– Под обстрел, что ли, попал, гражданин?
Я ответил, что сам случайно поранился, и спросил, нет ли у них дежурного врача? Руку отпустить не могу… Оказалось, что подсменный доктор в штабе есть, и через десять минут я сидел на белой табуретке в перевязочной, и пожилой врач, умело и ловко обняв мою руку, зашивал ее шелком. Потом забинтовывал, одновременно расспрашивая, кто я и как вышло пораниться. Выйдя в соседнюю комнату, где стояла его койка и столик, он написал мне медицинскую справку, а затем угостил чаем с сахаром и куском полубелого хлеба. Хлеб был с маслом.
Вовек не забуду доктора (тут пропуск, и затем написано: «имя, отчество и фамилия доктора – в моей записной книжке 1942 года». – М. Г.)
В самые тяжелые для меня дни после известия о гибели брата Сережи к нам в приемный покой пришло второе такое же горе… В другой смене, не в той, где я работал, была сестра – имени ее не помню – моложавая, лет 35, не больше, проворная и быстрая, несмотря на исхудание. И вот вышло так, что утром, когда я пришел и сменил усталого санитара, она, эта сестра, задержалась за разговором с Анной Анатольевной. Вот она уже сняла халат, надела пальто и шапку. И тут рассыльный из канцелярии принес письма и бандероли и подал Анне Анатольевне пачку конвертов. Та как-то странно глянула на одевающуюся, хотела что-то спрятать под другие конверты, но та уже поймала этот взгляд и застыла, глядя в лицо Анны Анатольевны. Затем бросилась к ней и вырвала конверт у нее из рук. Да та уже и не сопротивлялась. А потом раздался какой-то нечеловеческий, невероятный почти звериный крик.
– Вадичек! Вадичек!
Мы все к ней бросились. Кто-то уложил ее, вскрикивающую, на деревянную скамейку, кто-то поднял сползшее с ее плеч пальто…
На другой день я пошел в госпиталь, чтобы представить справку и получить освобождение от работы. В справке доктора было указано, что это необходимо, пока ладонь заживает, в течение недели. Добрая старшая сестра, отпуская меня, только сказала:
– Идите, отдыхайте, да, может, где выменяете на рынке чем подкрепиться. Вам надо компенсировать потерю крови. Вот возьмите четыре бульонных кубика. Больше ничего не могу дать.
После отъезда моих домашних у меня вдруг образовалось какое-то наполненное мыслями о еде свободное не то время, не то пространство, и я понимал, что падаю духом.
Вот тут-то я и пошел снова к Роману Артемьевичу.
При втором своем визите я видел, как в его кабинет, деликатно постучав, вошел здоровенный бородач и безмолвно положил на стол начальника буханку, которую тот, не спеша, убрал в ящик письменного стола. Очевидно, частью своих «богатств» он делился с теми, кто принимал от него отчетность об исправной работе обоза. Несомненно, что и возчики, и прочие подчиненные тоже не оставались внакладе. Откуда же брали тот излишек хлеба, который, очевидно, выдавался хлебозаводами, но не доходил до прилавков? Видимо, он отпускался по заявкам булочных или, еще вернее, районного начальства, а число получавших по карточкам столь быстро уменьшалось, что излишков оказывалось достаточно и для возчиков и для работников прилавка. Но ведь при серьезном учете смертности, т. е. уменьшения числа едоков и тем самым расхода хлеба, можно бы поднимать паек еще живым. Однако такой гибкостью система снабжения не обладала, да, несомненно, заинтересованных в том, чтобы она сохранялась именно такой, хватало. Очевидно, те, кто планировал расход хлеба на рядовое городское население, сами были сыты, да и управхозы, на обязанностях которых было сдавать в соответствующие органы карточки умерших, задерживали их, сколько могли, чтобы получать лишние продукты.
На этот раз я снес Роману Артемьевичу золотой футлярчик для плоского карандаша, украшенный двумя альмандинами, и висевшую у нас без всякого почета прикрепленную к медной дощечке рамку полированного черного дерева с маленькой акварелькой Айвазовского. Черно-белым были лихо избражены волны с пенистым гребнем и кораблем, круто кренящимся на борт. Таких рисунков маринист, говорят, «нашлепал» сотни для подарков поклонникам и поклонницам.
Роман Артемьевич – я навек запомнил имя и отчество «благодетеля» – сразу узнал меня, пригласил присесть, взял картинку, подошел к окну и стал рассматривать с видом знатока, приблизив рисунок к глазам поближе.
А я рассматривал его. На вид он был отставной военный немалого чина. Он и был отставной военный, правда, с чином не все было ясно. В ожидании, пока Евсеич принесет мне конину, Роман Артемьевич сообщил мне, что служил унтер-офицером в лейб-гвардии конногренадерском полку и делал революцию 1917 года в октябре в Луге. И верно, там стоял запасной эскадрон 2-й лейб-гвардии кавалерийской дивизии, и с февраля по октябрь многие петроградские офицеры и унтер-офицеры дивизию покинули.
К своему удивлению, я получил на буханку больше, чем в первый раз. Олейников оказался «ценителем» изобразительного искусства, полюбовался Айвазовским, поставил акварель на своем столе, оперев на какие-то книги в тисненных золотом переплетах – тоже, очевидно, трофеи этого дня.
Об этом образце нравов блокады, во время которой безнаказанно наживались персонажи вроде Олейникова, я рассказал здесь потому, что в дни, следовавшие за короткой встречей с капитаном Веснянкиным-Меснянкиным и его комиссаром и последовавшим затем проявлением их заботы, я много раз мысленно возвращался к ним, как к острову бескорыстного добра. Да, кругом кипел обман, воровство, спекуляция и цинизм, но существует тут же рядом и бескорыстная помощь, и способность раскрыть свое сердце для неизвестных тебе, но крайне истощенных людей. И если иногда внутренний голос тех страшных месяцев и шептал мне, что ведь капитан и комиссар, вероятно, сами-то были сыты и потому им не так трудно было пожертвовать тем, что отдали, то я вспоминал сытое рыло Олейникова, у которого наверняка дом ломился от золотых вещиц, столового серебра – мой сотоварищ при мне отдал ему дюжину массивных ложек – и, черт знает, чего еще, а он все драл и драл с людей, что только мог, и остался безнаказанным да еще занимал ответственные посты.
Тот же сорт людей, на более низком, но гораздо более многочисленном уровне, представляла уже упомянутая мной управхоз Ксения Алексеевна Бехова, полуграмотная баба, нисколько не похудевшая за блокаду, таскавшая все, что хотела, из квартир умерших жильцов. Между другими делами наживы она весной 1942 года оформила усыновление 8-летнего мальчика Левы из соседней с нами квартиры, где умерли с голоду все отдававшие этому ребенку его родители-инженеры и его бабушка. На основании усыновления Бехова начисто опустошила их квартиру, таская куда-то на глазах у соседей, посуду, одежду, картины, чемоданы с чем-то тяжелым.
Я никогда не забуду этого худенького мальчика с предельно бледным лицом и большими черными глазами, которого Бехова в то время всюду таскала с собой. В домконторе, где она принимала жильцов, и куда я заглянул за какой-то справкой, Лева стоял у окна, на широкий подоконник которого были в беспорядке вывалены из какой-то сумки части детского конструктора, кукольная мебель и посуда. Он не трогал этих предметов, а неотступно смотрел на двор, в ту сторону, где был подъезд квартиры его родителей. Заметив, что я смотрю на Леву, Бехова произнесла фальшивым ласковым голосом:
– Играет в игрушечки Левушка…
Осенью она сдала Леву в детдом. И если Олейниковых были сотни, то Беховых были тысячи – упитанных, циничных, наглых, а впоследствии, конечно, «героев блокады».
Кстати, вот, картинка, свидетельствующая о своеобразном экономическом следствии блокады. Весной 1945 года в Ленинград приехала из Тбилиси группа кинематографистов, чтобы снять фильм о Давиде Гурамишвили. Был в XVIII веке такой поэт, служивший офицером в русских войсках и участвовавший в Семилетней войне. Тбилисцам нужны были Нева, Петропавловская крепость и Зимний дворец, его «золотая» парадная лестница да пара его громадных зал. Нужды нет, что при Елизавете дворец только строился, а отделка зал относится к самому концу 1830-х годов. Я был приглашен консультировать этот фильм, главным героем которого являлся Давид и… красавица Елизавета Петровна. Ее играла актриса… (пропуск. – М. Г.), вскоре исчезнувшая с экрана и, кажется, из жизни. Но не о них речь. Один из режиссеров фильма – Николай Санишвили – попросил меня сходить с ним в комиссионный магазин в начале Невского. Боже мой! Чего там только не было! Какая бронза, фарфор, мебель, какие картины – чисто музейные, и все это буквально «навалом». Тогда я не слышал этого слова, но оно очень подходит к тому, что мы, пораженные этим зрелищем, увидели. Впрочем, я подозреваю, что, прежде чем пригласить меня, Санишвили побывал в этом магазине уже раньше. Вот уж истинно как наводнение выплеснулось это наворованное имущество! И цены! Разве только в 1935 году, когда ссылали после убийства Кирова «чуждые элементы», бывали такие низкие цены. Словом, я раза три побывал там с режиссером, и он увез из Ленинграда не только кадры будущей картины, но и два вагона антикварного товара. Что же, пусть так, может, это и хорошо, все-таки эта мебель уцелела, и сейчас она где-то в Тбилиси, а не сгорела в буржуйках блокады…
Свидетельство В. М. Файбисовича, заведующего сектором новых поступлений Гос. Эрмитажа, октябрь 2005 года.
ЭПИЗОД ПЕРВЫЙ.
В 1982 году, когда в Выставочном зале дирекциии Объединения музеев Ленинградской области на Литейном проспекте, 57, закрылась выставка «Приютино – усадьба пушкинской поры», одним из устроителей которой я был, мы с Л. Г. Агамалян, моей коллегой, явились к Марии Елизаровне Ф***, вдове известного коллекционера, чтобы возвратить принадлежавшие ей произведения живописи, экспонировавшиеся на выставке.
М. Е. Ф*** жила в доме № 4 по Малой Морской (тогда улица Гоголя). Лариса Георгиевна пришла к ней впервые; ее поразило, что дверь в квартиру Ф*** на лестничной площадке была единственной. Действительно, квартира имела впечатляющие размеры; фешенебельную обстановку дополняли картины, собранные покойным мужем хозяйки.
Марии Елизаровне перевалило за семьдесят; она была простовата и словоохотлива, но обладала манерами гранд-дамы. Приняла нас она гостеприимно. На рояле стояла хрустальная ваза с конфетами; Мария Елизаровна подала их к чаю. Конфеты были необыкновенно вкусными; хозяйка называла их «кремлевскими» и обронила походя, что со времен войны состоит в кремлевском распределителе…
Муж М. Е. Ф*** был главным модельером или главным художником знаменитого дамского ателье «Смерть мужьям» на Невском проспекте, 12. Когда кольцо блокады замкнулось, поведала Мария Елизаровна, в Ленинграде остались неиспользованными целые залежи превосходных тканей. Тогда со всего города собрали лучших мастериц, и ателье «Смерть мужьям», обосновавшееся, кажется, в Апраксином дворе, продолжило свою деятельность по изготовлению вечерних туалетов и стильного дамского белья. Демонстрация этих изделий была доверена Марии Елизаровне; по ее словам, с чемоданами, набитыми роскошными платьями и бельем, ее регулярно доставляли на самолете в Москву, где она представляла продукцию «Смерти мужьям» кремлевским дамам. Несколько раз с той же целью она выезжала на позиции наших войск на Ленинградских рубежах, где у нее заказывали туалеты «боевые подруги» крупных командиров. Мария Елизаровна рассказывала об этом с достоинством ветерана великой битвы; по ее убеждению, вероятно вполне основательному, «Смерть мужьям» позволила сохранить жизнь множеству мастериц, получавших, очевидно, неплохой паек. Благодаря «Смерти мужьям» блокаду успешно пережила и чета Ф***.
– Ну, масло-то у нас всегда было, – как бы подводя итог, добавила она…
(Невольно вспомнилось, что в пятнадцати метрах от витрин магазина «Смерть мужьям» – на Невском, 14, на стене дома оставлена навсегда памятная надпись о том, что «эта сторона улицы наиболее опасна при обстреле». Довольно символично, что мастериц, работающих на таком ответственном участке обороны, как описанный, переместили в более безопасное место. – М. Г.)
ЭПИЗОД ВТОРОЙ.
Генуэффа Владимировна Г***, преподававшая иностранные языки в Педагогическом институте им. А. И. Герцена и принадлежавшая к древнему дворянскому роду, известному со времен крестовых походов, во время блокады участвовала в строительстве оборонительных сооружений в ленинградском предместье (если не ошибаюсь, где-то около Стрельны). Ездили туда на трамвае; трамвайный маршрут на одном из участков был параллелен железнодорожной ветке, на насыпь которой из эшелонов, везших раненых в госпитали, поутру выкладывали трупы умерших ночью. Генуэффа Владимировна рассказывала мне, что, возвращаясь с работ, видела некоторые из этих трупов изуродованными: из них были вырезаны куски.
Ручаюсь – она не могла этого выдумать…
Я больше не ходил к Олейникову. Но видел еще не раз. Где? Когда? На Невском встречал в конце сороковых – начале пятидесятых. Он ступал не спеша – такой не пропадет, – крепкий, в фуражке и гимнастерке защитного сукна, в галифе и хромовых сапогах. В середине 1950-х годов я оказался рядом с ним в очереди в кассу фирменного колбасного магазина на углу 8-й линии и Большого проспекта Васильевского острова. И, к моему крайнему удивлению, он не только не постеснялся узнать меня и назвать по фамилии, но и пытался возобновить знакомство. Он был одет в серый габардин с орденской планкой. Сообщив, что заведует теперь отделом снабжения какого-то большого завода, он приглашал к себе в гости. Я едва спасся от него почти бегством.
Еще раз скажу, что не утверждаю, будто Олейниковых было множество. Но то, что после блокады появилось достаточное число людей из самых разных слоев населения, владеющих ценными вещами, происхождение которых они затруднились бы объяснить, – несомненный факт.
И еще раз повторяю, островком спасения среди этих, почти не таившихся беховых и олейниковых, которых доводилось тогда видеть, были капитан Меснянкин и его комиссар вместе с другими, пусть немногими, но все же, слава Создателю, встречавшимися бескорыстными людьми. Они были тогда и навсегда останутся для меня опорой веры в человека, даже в страшных условиях блокады Ленинграда.
ФЕВРАЛЬ 1942. Фото В. Федосеева
ФЕВРАЛЬ 1942. В солнечную погоду улицы города становятся оживленными. Фото В. Федосеева
21 СЕНТЯБРЯ 1941. Дети из интерната № 7 на прогулке. Фото П. Машковцева
ИЮНЬ 1942. Новая столовая. Фото В. Федосеева
1944. Автор не установлен
25
Как-то уже ближе к весне меня застала дома добрый друг нашей семьи Наталья Михайловна Шарая, долголетняя сотрудница ИБО, а в это время – Эрмитажа. Посидели, вспоминая ушедших друзей и товарищей.
Наталья Михайловна Шарая (1896–1989) была дочерью управляющего гербовым казначейством министерства финансов М. Н. Шарого. Владела французским, немецким и английским. В 1917–1918 гг., находясь в Дании по линии Датского Общества Красного Креста, более года работала медсестрой в лагере интернированных военнопленных (в архивной справке место лагеря обозначено как «Хельсинор»).
В 1920-х и 30-х годах работала в Ленинградских музеях, сопровождая коллекцию, которая стала впоследствии основой Русского отдела в Эрмитаже. В ведении Н. М. Шарой были ткани с украшением из золота и серебра.
С июля 1937 по июль 1939, как дочь крупного чиновника царского времени (хотя он умер в 1914 году), выслана в Красноярский край и была чернорабочей на лесозаготовках. В 1939 восстановлена в качестве научного сотрудника Музея этнографии. С апреля 1941 – в Эрмитаже.
В 1956-м в Эрмитаже отмечали 60-летие Натальи Михайловны. Судя по сохранившимся фотографиям – это многолюдный праздник – как официально разрешенный, так и отмеченный явной теплотой: музыкальный, костюмированный, В. М. Глинка и А. В. Помарнацкий для чтения поздравительных адресов облачились в камергерские мундиры. Наталью Михайловну не только уважали в Отделе, все ее знавшие очень ее любили. Она всегда была приветлива, всегда с улыбкой, всегда в хорошем настроении, никогда ни при каких обстоятельствах не нагружала никого своими проблемами… Впрочем, тут же готов оговориться – одна небольшая проблема все же существовала. Еще в молодости Н. М. слегка повредила веко, внешне это было незаметным, но одна из ресниц, подрастая, раздражала время от времени глаз. Выдернуть эту ресничку специальным пинцетиком доверялось только Владиславу Михайловичу, который при всей своей близорукости славился в музее феноменальной способностью разглядеть самое мельчайшее.
В 1950-х тетя Наташа жила в том же доме, что и мы, на Дворцовой набережной, 32, только по другой лестнице. По стилю отношений с нашей семьей она была кем-то между близким другом и родственницей. Начиная с сороковых годов она постоянно фигурирует на групповых снимках – как на служебных, связанных с Эрмитажем, так и на наших семейных.
По анкете отдела кадров (хранится в архиве Эрмитажа) семейное положение Н. М. Шарой обозначено жестоким словом – одинокая. Оно, конечно, так и было. И хотя с тетей Наташей вместе жила ее сестра (тоже одинокая), это жестокое слово, витавшее в нашей стране над огромным числом женщин, так жесточайшим и остается. Почему эта нежная, заботливая, несомненно привлекательная, замечательно образованная, безукоризненно воспитанная женщина была одинокой? Кто может это объяснить? Время, на которое пришлась ее молодость, тасовало людей, разлучало, раскидывало по миру… Погибали целые пласты людей – без различия возраста и пола, но, конечно, в особенности мужчины. Какой вопрос можно задать теперь прошлому – тому водовороту, в котором, начиная с 1914 года, перемалывались человеческие жизни и судьбы? Что можно спросить с того времени, когда какой-нибудь старший лейтенант НКВД не только мог, но (если хотел остаться следователем) должен был отправить женщину с нежными пальцами, так заботливо в молодости перевязывавшую раненых, а теперь заведовавшую в музее хранением уникальных тканей, чернорабочей на лесоповал…
Я давно не был в Эрмитаже и не знал, что в убежище скончалась заведовавшая у нас отделом костюмов и тканей Александра Яковлевна Труханова. Это была дама грассирующая, картавящая, вставляющая в речь французские слова и поговорки (не заботясь о том, поймет ли их собеседник), – словом, с претензией на светскость, любившая напомнить тем, кто это мог стерпеть, что отец ее, Яков Александрович Гребенщиков, был полным генералом и членом Военного совета. При этом она упорно называла его «военным писателем». Ведала Александра Яковлевна хранением большого количества предметов гардероба нескольких поколений княгинь Юсуповых, кое-чем из гардеробов графинь Шереметевых и последних двух цариц. И мне казалось, что постоянное «общение» с этими предметами как-то поддерживало ее манеры и вкусы. Я был весьма равнодушен к этой даме, но почитал ее мужа – Александра Александровича Труханова, скромнейшего и добрейшего человека, смотревшего на жену, как на существо высшее. Не знаю, что и когда окончил А. А., но до революции он был небольшим человеком в каком-то министерстве, а после 1917 служил тоже на мелких должностях, но был отменный художник-график, работавший в духе то С. В. Чехонина, то И. А. Шарлеманя. Не имея художественного образования, он, однако, по-моему, немного уступал столь знаменитому Г. И. Нарбуту. В манере своих акварелей, по тушевке и контуру он был подражателен, но обладал, несомненно, хорошим вкусом. Наш отдел постоянно заказывал А. А. художественное оформление диаграмм и досок. Ему же для выставки были заказаны Эрмитажем три большие таблицы, посвященные вооруженным силам России начала XVIII века, Петровского и Екатерининского времен, которые он выполнил так, что они с успехом могли бы быть напечатаны как наглядные пособия. Работал он, повторяю, с огромным вкусом, трудолюбием и брал за свою работу смехотворно мало.
Празднование юбилея Н. М. Шарой в Эрмитаже. 1956 год. (Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург)
Н. М. Шарая
Жили супруги Трухановы и сестра Александры Яковлевны – Наталья Яковлевна Гребенщикова в части переделанной после революции квартиры генерала Гребенщикова на Преображенской (ныне Радищевой, Бог знает почему?) улице. Характерно, что всегда скромненькая Наталья Яковлевна преклонялась перед ученостью сестры. Сама она работала медсестрой с тех пор, как во время войны 1914–17 годов окончила курсы какой-то общины.
И вот все трое умерли, не дождавшись весны, когда продовольственное положение сотрудников Эрмитажа было немного улучшено. Улучшено же оно было, благодаря хлопотам Михаила Васильевича Доброклонского, которого поддерживал в каких-то верхних сферах заведующий отделом искусства Гослитиздата образованный и добросовестный Борис Иванович Загурский.
По словам Натальи Михайловны, последние слова Александра Александровича были о том, что теперь пропадут его рисунки и их книги. Что хотя он и не сотрудник Эрмитажа, но много работал для Александры Яковлевны и для отдела ИБО. Словом, корил себя за то, что, умирая, чего-то главного не успел. Этот скромный и достойнейший человек ничего не просил, но только намекал, как было бы хорошо Эрмитажу взять под свое ведение их библиотеку и его рисунки. С этим и пришла ко мне Наталья Михайловна. Не сходить ли нам вместе на улицу Радищева? Это ведь так близко. А она потом оповестит Михаила Васильевича (Доброклонского. – М. Г.), и можно будет принять меры к охране и перевозу. Вот и ключи от квартиры, которые остались от умерших. Ну, что ж. Я надел пальто, и мы пошли.
Я бывал в этой квартире всего раза два-три. Заходил посмотреть в карандаше многофигурную композицию-диаграмму армии Петра I и еще, помню, заходил по просьбе Михаила Захаровича, заказывавшего работу Александру Александровичу в связи с какими-то работами для отдела. И как-то приносил книги, поскольку жил к Трухановым ближе всех сотрудников в отделе, а Александра Яковлевна говорила, что не может носить тяжелые тома. Визит мой продолжался не более 15–20 минут, в течение которых Александр Александрович показывал сделанное, а также и что-нибудь свое, не заказанное.
Проходить в комнату Александра Александровича надо было через столовую, превращенную в библиотеку. В этой комнате метров, вероятно, не менее сорока, стоял (явно от старой генеральской обстановки) очень большой овальный обеденный стол, накрытый скатертью и обставленный стульями в «русском» стиле, и большой буфет с верхней частью вроде «терема» с крышей и резным карнизом. Все остальные стены и простенки были заполнены стеллажами и застекленными шкафами с книгами. Как я понял, эта библиотека была «приданым» Александра Александровича – страстного и осведомленного библиофила. Запомнились стройные ряды комплектов «Русской старины», «Исторического вестника», истории искусств, полков, царской свиты. А также – Соловьев, Ключевский, Шильдер, Татищев… Все в отличных переплетах. И, конечно, русские классики, энциклопедические словари, справочники типа «Весь Петербург», «Вся Москва». Видно было, что собирал любитель и знаток книги.
Однако Александр Александрович должен был показать мне работу, посмотреть которую я пришел, и для этого надо было разложить на столе большую, около метра длиной, диаграмму. Со стола сняли скатерть. И я увидел, что стол этот не в стиле «рюс», а старинный, видимо, конца, если не середины XVIII века с неразбирающейся верхней доской цельного красного дерева, с такими же основательными, как столешница, чуть изогнутыми ногами, соединенными низко лежащими толстыми брусьями, сильно потертыми многими поколениями ног, которые на них становились. Не стол, а броненосец какой-то, а лучше сказать – фрегат без мачт.
Диаграмма была очень хороша, хотя среди фигурок я узнавал заимствованные у Висковатова, Самокиша, Кордовского, но отлично скомпонованные в красивую и осмысленную панораму. Мне оставалось только ее одобрить и посоветовать Александру Александровичу взять за нее цену, какие, я знал, берут за гораздо менее трудоемкие работы другие художники. Он в непритворном ужасе замахал руками.
На второй раз я пришел к Трухановым теплым осенним вечером, кажется, в сентябре 1939 года. Вежливейший Александр Александрович просил меня зайти, но я увидел, что огромный стол парадно сервирован. В доме ждали гостей.
Я быстро выполнил свое дело, Александра Яковлевна любезно, однако не очень настойчиво приглашала меня остаться, но я, естественно, ушел.
Запомнились мне не крахмальная скатерть, фарфор, хрусталь, серебро – это я видывал множество раз, а то, что по белоснежной скатерти между приборами и посередине были необыкновенно живописно разложены красные, желтые, коричневые кленовые листья… Это, очевидно, была изысканная затея Александры Яковлевны, воплощенная в материальность Александром Александровичем.
Вот единственное яркое зрительное воспоминание о квартире Трухановых на Преображенской, осмотреть которую с целью перевоза библиотеки Александра Александровича в Эрмитаж мы шли теперь с Натальей Михайловной Шарой. Да и хороший старый фарфор – в основном гарднеровский – мог бы пополнить коллекции русского отдела.
Ключи не понадобились. Дом казался покинутым. Двери квартир первого этажа открыты настежь, так же и на втором этаже. Дверь квартиры № 5 оказалась незапертой и не до конца прикрытой. Я помнил, что после прихожей надо было пройти кухню и уже оттуда в большую столовую, по сторонам которой стояли стеллажи с книгами.
– Жаль, если библиотеку уже растащили, – сказала Наталья Михайловна.
Мы вошли в совершенно пустую прихожую, потом в кухню. От дверей в столовую, очевидно выломанных топором, остались лишь висевшие на медных петлях придверные бруски. Мы шагнули на порог и буквально застыли на миг. Ни буфета в виде терема, ни одного книжного стеллажа, и ни одного стула в комнате не было. Оставался только знакомый мне огромный стол красного дерева. Он был несколько сдвинут к дверям, вероятно, поначалу его пытались вытащить из квартиры, но когда это не удалось, то его стали разделывать на дрова прямо здесь, и теперь он стоял без медных накладок, с обломанными, отколотыми топором частями кромки, со следами запилов ножовкой, довести которые до конца, очевидно, не хватило сил.
Но не это поразило нас и остановило на пороге. Весь пол сорокаметровой комнаты был устлан толстым слоем растерзанных книг. Их не только сбросили со стеллажей, которые, очевидно, пошли на топливо, но с них были отодраны картонные переплеты, которые могли гореть более стойко, чем бумага страниц. А страницы эти как будто нарочно рвали, кромсали, расшвыривали, топтали. И, мало того, на них неделями испражнялись, при этом совершенно явно не один и не двое, а много людей. Следы того, как на книги отправляли нужду, были здесь столь повсюду, что ничего нельзя было даже подумать взять в руки. Кое-где поблескивали осколки стекол от стеллажей.
Тянул сквозняк через выбитые окна.
Но где же рисунки? Мы принялись осматривать то, что было у нас под ногами. Из папки, лежавшей у двери, я попытался вынуть что-нибудь из акварелей Александра Александровича. Среди них были и те, что были мне знакомы. Между разбросанных акварелей были листки с рисунками, вроде васнецовских, но все было испачкано, измято, разорвано. Однако под папкой я увидел чудом не запачканную тетрадку и поднял ее. На обложке тетрадки был наклеен ярлычок с надписью, каллиграфически стилизованной под почерк начала XIX века: «Письма отца из кругосветного плавания к деду. 1874–75 г.». Тут же были письма и конверты к ним из путешествия в Лиссабон, Рио-де-Жанейро и еще в какие-то порты. И карточки с видами берегов и коралловых рифов. Вот все, что мы вынесли из этой, когда-то столь фешенебельной квартиры. Наталья Михайловна утирала слезы.
На нижнем марше лестницы мы встретили пожилую женщину. Она неприветливо спросила, что мы тут ищем? Наталья Михайловна ответила, зачем приходили и что увидели, а я добавил, что за такое надо судить.
– Судить-то… – без выражения сказала женщина. – А кого?
Глядя мимо нас, она медленно двинулась по лестнице, куда-то на верхний этаж этого, как казалось, уже полностью вымершего дома.
И тогда я задавал себе этот вопрос, задаю его и сейчас – что заставило тех людей так обойтись с книгами? Если замерзаешь, то превратить в топливо все, что способно гореть, еще понятно, но остальное-то, что мы увидели в той квартире, как понять это? Забыл упомянуть, что заглянул и в две комнаты, соседствующие со столовой-библиотекой, но увидел лишь железные остовы кроватей и битую посуду. Гадить жильцы дома приходили только на книги.
Так чему же мы с Натальей Михайловной стали свидетелями? Ненависти к обитателям именно этой квартиры? Но за что? Может быть, они чинились, «задавались», вообще вели себя высокомерно? Но это маловероятно, а уж если говорить о сестре Александры Яковлевны, а тем более об Александре Александровиче, то такого просто быть не могло. Но тогда что же? Почему, погибая от голодного поноса, люди приходили гадить именно на книги? Пока я жив, я буду возвращаться к вопросу, пытаясь понять, что же именно они ненавидели в этих книгах? Может быть, старорежимный их вид, олицетворяющий для какого-то полубезумного от голода пролетария ненавистный ему царский строй? Или, наоборот, символ знаний, приведших к революции, а она, мол, к этой войне, блокаде и голоду? И тогда, мол, пусть будут прокляты эти знания… Или так просто, так впрямую выразилась ненависть к интеллигенции? И к книге, как символу ее…
Пока буду жив, этот вопрос будет стоять передо мной.
26
Валентина Борисовича Хольцова я встретил уже в мае. Выбритый, подстриженный, в чистом, хотя и мягком воротничке. Даже голос у него посвежел. Шел со службы домой, а я в Эрмитаж, в гости к Наталье Михайловне Шарой. Обнялись, расцеловались, он спросил про мою семью, я ответил, что отправил всех в эвакуацию, рассказал про смерть брата, про то, что в Руссе, наверно, все давно сгорело, что там осталась моя няня. Когда спросил о его семье, голос Валечки задрожал.
– Нина Алексеевна скончалась в феврале, – сказал он. – Мы с Алешей одни во всей квартире… Но держимся, он такой молодец… Так, ничего, кое-что меняем, а паек все-таки прибавляют понемногу… Вот Ниночка-то не дожила… Одно мне трудно – с табаком. Тебе хорошо, что не куришь…
Через неделю он умер. Он упал на Литейном по пути со службы, чуть не на углу Бассейной улицы, где мы в последний раз встретились.
Позже Наталья Михайловна зашла ко мне и, не застав дома, оставила записку с сообщением, что тело Валентина Борисовича находится в Куйбышевской больнице, на Литейном. Об этом же в Эрмитаж позвонили из Музея этнографии.
Тотчас я пошел в больницу, хотелось проститься с другом, пока его тело не отвезли в очередную братскую могилу. В приемном покое мне сказали, чтобы шел в прозекторскую, где тело Вали уже вскрывали.
Действительно, в пустом зале на цементном полу лежало у стола совсем обнаженное, предельно исхудавшее желтое тело моего друга. На лице его застыло спокойное выражение. Правая рука лежала вдоль тела, левая прижата к груди как раз над тем местом, от которого вниз шел разрез анатома, грубо зашитый стежками сурового цвета ниткой. Я встал на колени, поцеловал холодный лоб. Он был так сиротлив и одинок в этом зале, что я заплакал.
– Вы родственник?
За моей спиной стоял пожилой мужчина в белом халате, стоял и дымил папиросой.
Я ответил, что я друг покойного и его товарищ по работе в музее и спросил, какая нужда была в анатомировании, ведь и так ясно, что причина смерти – дистрофия.
– Сейчас больше стали умирать от сердца, оно отказывает. Инфаркт миокарда, по-старому разрыв сердца. Он, – врач кивнул на тело Валентина Борисовича, – не родственник был профессору Хольцову, знаменитому урологу?
– Сын, притом единственный. И, вероятно, что придет проститься с отцом внук известного и знаменитого Бориса Николаевича. И увидит отца в таком виде. И на полу.
– Ладно, – сказал прозектор, – скажу, чтобы одели.
Он вышел. Я решил, было, что его слова все равно некому выполнять, но пришли две усталые женщины неопределенного возраста с белой, беззвучно двигавшейся каталкой. Я помог положить на нее тело Вали, подержав его голову и холодные пальцы.
Они, не сказав ни слова, увезли тело, а я вышел из больницы и сел на скамейку около скульптурного символа медицины, на том месте, с которого убрали фигуру принца Ольденбургского. И вдруг страшно захотелось курить. Я не курил три с половиной года, а тут вдруг захотелось, и чуть не до тошноты. Я вспоминал бесчисленные часы работы бок о бок с Хольцовым и Крутиковым, наши мечты о создании отдела, наши неудачи и разочарования и, наконец, начало, как нам казалось, победы – включение отдела в Эрмитаж. Вспомнил, как предполагали вместе написать книгу. И вот нет ни Михаила Захаровича, ни Валентина. Да и я уже не научный сотрудник, а просто санитар эвакогоспиталя…
Алеша Хольцов выжил. Его спасли забота и добрые руки сестры Валентина, а потом он был определен в детский дом для сирот. Я слышал, что он очень хорошо учился и стал инженером-конструктором. Говорили еще, что он хотел быть похожим на отца, но был ли он похож на него душой и стал ли похожим на моего доброго, благодарного и кроткого друга, я не знаю. К сожалению, я больше его не видел.
Дистрофия, если она не убивала, то на некоторое время становилась стабильным состоянием физического существования. Характеризовалась давящим сознанием голода, дистрофия настигала практически всех «иждивенцев» и «служащих» ленинградцев, у которых не было, что менять на еду летом 1942 года. Общим было раздражение своей слабостью, у людей же эгоистических и нетерпеливых это раздражение переносилось на окружающих. Дистрофик, бессильный сам, почти с раздражением, а порой чуть не с бешенством отмечал, как другой не может что-то поднять, нести, сделать несколько быстрых шагов. Дистрофики с трудом двигались, но с пеной у рта бранились, а порой и яростно толкались. А уж как пораженных дистрофией раздражали люди физически здоровые и явно не испытывавшие голода, об этом и говорить нечего. Можно даже сказать, что те попросту вызывали ненависть. Их ругали и громко, и про себя, в зависимости от их положения и возможностей, и горячо желали возмездия. Наверно, не отличался от других и я: я ведь тоже почти умирал от голода. К тому же у меня отказывали ноги, больные еще до войны, – они плохо сгибались в коленях. Это было тоже следствием дистрофии, и от этого я тоже был в раздраженном состоянии… Справедливо ли это? Резкие стычки, которые я не раз видел на рынке, на остановках трамвая, где затрудненная подвижность одних мешала входить и выходить другим, были обычным делом. Кто-то смог, а кто-то не смог… Дотянуться, подвинуться, дать дорогу… Как ужасны эти всепонимающие глаза дистрофика, которому нужно время, чтобы собраться встать, шагнуть, поднять руку! Пораженный дистрофией понимает все, но у него нет сил даже пытаться жить в нормальном ритме. Как унизительна собственная телесная немощь!
Особенно запомнилось мне одно происшествие в бане на улице Чайковского, которое произошло в апреле 1942 года.
27
Как ни далеки мы, мелкая научная братия, были в эти блокадные месяцы от ленинградских «отцов города», да и вообще от всякого начальства, но все же косвенные сведения об их жизни, столь отличной от нашей, нет-нет да и доходили до нас разнообразными путями.
Многие ленинградцы по три-четыре месяца не мылись горячей водой. Вшивость была явлением общим. Я принужден был дважды обриться наголо, первый раз сразу по приходе в Мечниковскую и второй раз при поступлении в санитары. Раненые, привезенные с фронта, которых мы выносили из автобусов, часто имели на себе «зверей».
В апреле по приказу горисполкома было отремонтировано и открыто несколько общественных бань в разных частях города, о чем нас оповестили по радио, так же как о том, что в банях каждому моющемуся выдают кусок мыла. Подарок этот представлял собой небольшой кубик серого стирального вещества, которым, как им ни мыться, мало что можно было помыть. Настоящее же мыло на рынке стоило почти наравне с хлебом.
Будучи санитаром, я мог, разумеется, мыться в душе своего приемного покоя, если выдавались подходящие минуты. Но какое же может быть сравнение поспешного обливания в душе, где тебя понукает Ванька – «А, ну, давай, давай, образованный!» – с неторопливым отогреванием себя на теплой мраморной скамье, где сидишь рядом с шайкой горячей воды сколько душе и телу угодно!
Как трудно рассказать о наслаждении этой баней… Там можно было сидеть, можно становиться под душ, садиться в ванну… Но смотреть на тех, кто был рядом, было почти невозможно, хоть я и понимал, что отличаюсь от остальных разве что совсем незначительно. А кругом царили предельность худобы, изможденность грудных клеток и спин, выпирающие ребра, конечности с отсутствием мышц – одни какие-то связки, без которых, казалось, все бы это распалось. Мне невольно мерещилось, что ожило увиденное мной у морга на Чайковской, а также почему-то и то, как упаковывал мертвое деревянное тело «восковой персоны». Может быть, эта разборка манекена вспомнилась тут именно потому, что у живых, двигавшихся в банном пару фигур как-то особенно выпирали сочленения локтей и колен, словно узлы шарниров. И еще очень странными были шевелюры дистрофиков. Отраставшие бобрики были какие-то сухие, что ли, они стояли дыбом, нимбами над страдальческими или злобными лицами. Это были нимбы мучеников… Потом, после войны, на фотографиях освобожденных из лагерей смерти я увидел изображения таких же людей и вспомнил эту толпу голых дистрофиков в бане на Чайковской.
Сам-то я всемерно благодарил свою практику санитара и пильщика, а также и то, что теперь, благодаря хлебу и конине, вымененной у Романа Артемовича, сохранил кое-какие силы. В то первое посещение бани я насмотрелся немощных, помогал им садиться и вылезать из ванны. Сами дистрофики с трудом могли влезть в ванну, ноги плохо слушались, скользили, но еще труднее было им подняться самим из полулежачего положения.
Побывал я в этой бане три раза, потом в нее угодил не то снаряд, не то бомба, и ее закрыли уже до 1946 года. Зато открылась другая баня, поближе к Баскову переулку – на Некрасовой.
Но особенно памятно мне все-таки первое посещение бани на Чайковской, когда впечатлению ада помогал продолжавший мучить голод. И потому впечатления эти были особенно острыми.
В то время как все мы, дистрофики, плескали на себя горячую воду и – нехватало сил – больше обтирались, чем терли себя мочалками, один вошедший в мыльную человек как-то сразу обратил на себя общее внимание.
Это был коротко стриженный молодой человек или, скорее, парень с челкой спереди. Но даже по меркам мирного, обычного времени он был толстоват. А еще он был нежно розовый. Зрелище это оказалось для всех в мыльной не только неожиданным, оно было невероятным. Бренчанье тазов смолкло, прекратился плеск воды, впустую шуршали лишь струйки душа.
Вошедший, еще не понимая ситуации, слегка помявшись, скромненько взял тазик, налил в него немного воды, несколько полил из него на пустую скамейку неподалеку от меня, положил мочалку и мыло – не серое, как у всех, а, как и он сам, круглое, розовое. И пошел к крану набирать воду для мытья. Набрал шайку и, уже идя с нею к тому месту, где оставил свои принадлежности, видимо, почуял недоброе. А почувствовать было что. Со всех сторон мыльной к розовому упитанному человеку начали придвигаться, неотрывно глядя на него, серо-зеленые призраки. Он хотел поставить шайку, даже нагнулся слегка над скамьей, держа шайку с водой в руках, да так, полусогнувшись, и замер. Дистрофики, тихо бормоча и по-прежнему не отрывая от него глаз, обступили его со всех сторон.
– Ты откуда такой? – наконец спросил кто-то.
Стоя уже в кругу, он, мне показалось, с надеждой на что-то или на кого-то, так и не отпуская из рук набранной шайки, стал озираться. Кого он искал? Кого хотел высмотреть? Может быть, хоть кого-то, подобного себе? Но таких больше не было.
Может, если бы он соврал, что командирован с большой земли или что переброшен откуда-то армейским приказом, одним словом, доказал бы, что провел последние месяцы не здесь, не вместе с нами в блокаде, то последующие реакции были бы другие.
Но он, то ли с перепугу, то ли по наивности, не сообразил. И на повторный вопрос, кто он, стал испуганно и сбивчиво объяснять, что он никакой не начальник, а рядовой красноармеец, при этом добавил зачем-то – «необученный», и что он служит поваром в некой столовой – что за столовая было неясно, ее название скрывалось за несколько раз повторенной им невнятной аббревиатурой.
Того, что окружившие повара дистрофики начали кричать ему в лицо, повторить не возьмусь.
– Товарищи! – взмолился розовый повар. – Я подневольный, я в столовой, как все, работаю… Как все… У нас просто душ вчера испортился. А мы по рабочему положению в чистоте должны содержаться… Мне приказали… Я бы сам не пришел… Мы по положению… У меня тоже паек…
Этого слова ему произносить не следовало. Но он был повар, просто упитанный розовый неумный повар.
– Паек у него! – заорал в ответ кто-то. – Паек?! Да?!
Толпа угрожающе сомкнулась. Дело пахло самосудом. Все бешено кричали, взлетел чей-то голос: