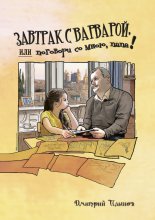Воспоминания о блокаде Глинка Владислав
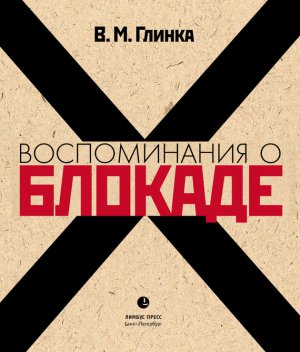
– Спросил, тогда слушай, – сказал подполковник милиции.
И рассказал, что когда за несколько лет до того в кладке стены Гостиного двора бригада ремонтных рабочих обнаружила шестнадцать кирпичей золота, то с самим золотом проблем не было, – обернутые в газету его бруски отвезли на Литейный, 4, при этом просто-напросто на трамвае – а некоторые проблемы возникли лишь с бригадой рабочих. По закону (1970-е годы) нашедшие имели право на четверть клада, но отдать четыре кирпича золота в частные руки?! Милиция гоготала. Задача заключалась лишь в том, как несоблюдение закона, который никто и никогда не думал соблюдать, обставить законно. В действиях рабочих следовало найти криминал. Его, конечно же, нашли: на уголке одного из брусков были обнаружены следы ножовки… Виновника посадили, остальных припугнули, и те были счастливы, что удалось так отделаться.
– Вопросы есть? – спросил подполковник.
Лет через десять после того, как не стало дяди, меня потянуло раскапывать историю семьи, и я разыскал своего четвероюродного брата, внука Константина Викторовича Маркова и тоже Константина. Как дед и отец, он тоже был горняком. Более того, он и жил в том самом доме и даже в той самой квартире (точнее, в малой ее части), где жил еще его дед и в которой в середине 1920-х годов В. М. участвовал в неудачных поисках.
Узнал я и подробности жизни Константина Викторовича. Это был, несомненно, яркий представитель того поколения российских деятелей, удивительную генерацию которых породило время великих реформ царствования Александра II. Россия как государство вся еще была в родимых пятнах крепостного права, но к концу XIX века уже появился целый слой людей (при этом из всех сословий), ощущающих себя европейцами. Характерной их чертой было то, что они стремительно взрослели, быстро реализовались как профессионалы, а по тому, что умели и чего достигали еще в ранние годы, уверенно превращались в деятелей значительного масштаба.
Старая дворянская фамилия Марковых, среди представителей которой во второй половине XIX века выдвинулись литераторы, художники, военные деятели, а также известные ученые (математики братья А. А. и В. А. Марковы), не осталась в стороне от этого процесса. И, несомненно, к числу тех, кем фамилия вправе гордиться, принадлежал и Константин Викторович. Он родился в 1871 году, окончил Горный институт и уже вскоре стал одним из самых видных инженеров горного дела и основателей геологоразведки, как научной дисциплины. Причем сам он видел эту дисциплину, если позволительно так выразиться, как научно-художественную. Места его работы можно было бы назвать горячими точками добычи полезных ископаемых. Это Средний и Южный Урал, Кашгар, Донбасс, Закавказье, Дагестан, в последние годы жизни – Чиатура. Был он и директором казенного акционерного общества (геологоразведка на Урале), и управителем железнорудных предприятий бывших графа Шувалова, а после 1917 года стал выборным (при этом первым из выбранных) членом Геологического комитета, который выполнял тогда функции высшей государственной инстанции в геологии. Но самым главным делом К. В. Маркова, конечно, было создание и преподавание в Горном институте курса под названием «Разведочное искусство». Слово «искусство» сейчас у геологов не в ходу, его заменило обыденное слово «дело», но умение разыскать таящиеся в земле богатства Константин Викторович равнял с искусством… И на коллекцию, которую, тратя немалые деньги, всю жизнь собирал, он смотрел, без сомнения, глазами отнюдь не коммерсанта. Состоятельным человеком он был и без того.
– Коллекцию-то так и не нашли? – спросил я четвероюродного брата.
– Да нашли, нашли ее потом, – сказал Константин Андреевич.
И он рассказал, как все было. Свою коллекцию его дед все же из квартиры вынес. В Петрограде, отапливавшемся дровами, у каждого жильца был свой дровяник. Дровяник Марковых, роскошная квартира которых, выходила сразу на две парадных лестницы, был не маленьким и находился в двухэтажном хозяйственном флигеле, отделявшем со стороны двора дом № 42 от территории университетского химфака. В разное время во флигеле размещались каретные сараи, прачечная, помещения ЖАКТа, пищевые склады магазина, но в 1920-х, о которых идет речь, по большей части дровяники. Здесь, вынув из стены какие-то кирпичи, а затем снова все замуровав, Константин Викторович и укрыл свою коллекцию.
Хозяйственный флигель снесли во время капитального ремонта дома, в середине 1970-х. И коллекцию, пролежавшую в тайнике пятьдесят лет, нашли. Никаких официальных сообщений об этом не было, к Марковым, переселенным на время ремонта во временный фонд, никто не обращался, но между бывшими жильцами волнами прошел слух. Найдены драгоценные камни, золото, платина… Да еще сколько! Марковы сочли благоразумным ничего не разузнавать.
Пересказывая подобный сюжет в книге, посвященной Владиславу Михайловичу Глинке, хочется дать этому обоснование, более убедительное, нежели то, что он заполняет паузу в ожидании прихода такси…
Но разве одна из магистральных нитей жизни старого горного инженера не является словно бы специально протянутой к самому смыслу нашей книги? Разве подобно В. М. Глинке, который был хранителем в музее, в другой сфере и другой плоскости задачу подобного рода добровольно не взял на себя и К. В. Марков? Ведь не может быть никакого сомнения, что, будучи высоким профессионалом и десятилетиями создавая собрание редчайших ископаемых, должных иллюстрировать привлекательность любимой профессии, Константин Викторович передал бы свою коллекцию в музей Горного института. Специальный курс, который он разработал для обучения своей профессии, был назван им «Искусством геологоразведки». Словом «искусство», которое должно было указать отличие от прежнего взгляда на эту профессию, как на «ремесло», «дело», «обыденное занятие», он все, что хотел сказать о любимом деле, то и сказал.
Константин Викторович Марков умер в марте 1925 года.
За несколько месяцев до того местом его трудов и консультаций был Чиатурский марганцевый район. То было недолгое время разрешения в РСФСР иностранных концессий. К выгодным месторождениям приценивались англичане, вокруг Чиатуры кружились представители американского банка Гарримана. Незадолго до того Гарриман уже приобрел контрольный пакет акций на разработку свинцовых и цинковых руд в Верхней Силезии. Чиатура же давала в те годы около 40 % мировой добычи марганца. Лакомого куска подобной привлекательности на рынке рудных разработок, вероятно, тогда в мире не существовало. Константин Викторович был опытнейший специалист, эксперт, именно его уполномочивали контактировать с иностранцами. Страна, так считалось в эти годы промежутка между военным коммунизмом и коллективизацией, остро нуждалась в концессионных договорах с иностранцами. Какова была роль К. В. Маркова в том, что банк Гарримана в 1925 году заключил концессионный договор на Чиатуру? Теперь этого уже никто не скажет хотя бы потому, что договор, заключенный на 20 лет, был разорван через три года, и иностранные горнодобытчики опрометью побежали из России. Начиналось «шахтинское дело», завершившееся десятком расстрельных приговоров… Если бы Константин Викторович Марков был к 1928 году жив, привлечения по этому процессу ему было бы не избежать.
Урал, 1910-е гг. К. В. Марков среди геологов
К. В. Марков
П. А. Глинка
А. К. Марков
Полностью ли понимал старый горный инженер, куда неудержимо поворачивается хозяйственный организм огромного и становящегося все более тоталитарным государства? Ощущал ли тревогу? Но если не понимал и не ощущал, то по какой причине, уже пережив голод, разгул грабежей и бессудных расправ 1918–1920 годов, он в 1925 году вдруг замуровывает в тайник свою любимую и явно предназначенную для педагогических целей коллекцию? Хочет передать ее сыну, тоже горному инженеру и, добавим, впоследствии также преподавателю Горного института? Но почему не прямо, а в виде клада? Хочет, чтобы сын что-то переждал, дождался иных времен?
Силы у Константина Викторовича, видимо, были на исходе… Платина и золото, гранаты и бериллы доехали только до дровяника, чтобы через полвека исчезнуть в мутном растворе ремонтников дома и тех органов, которые занимались, в частности, дальнейшей судьбой кирпичей золота, найденных в кладке Гостиного двора.
Всех этих подробностей дядя Владислав Михайлович не знал. Знал он лишь о том, что старый горняк перед смертью отвел беду от семьи.
И уезжая на такси от памятного ему дома, дядя, которому было к восьмидесяти, не исключено, вспоминал и о том, что нечто подобное поступку старого горняка пришлось в свое время совершить и ему. Должно быть, это произошло в конце тридцатых. Вероятно, повторялось и потом, уже после войны, когда стала свиваться и развиваться спираль «Ленинградского дела».
В дядином архиве нет дневников, записных и адресных книжек тридцатых и сороковых годов. Нет и писем к нему, написанных до середины пятидесятых. Писем, относящимся к годам последующим – многие сотни, если не тысячи. Связки, коробки, пачки… Это – вал. От предшествующих лет – отдельные конверты, единичные листочки, да и то лишь от тех, кого уже не было к 1950-му в живых. От тех, кому уже не навредишь.
На камнях и слитках не было написано ни имен, ни адресов. Если бы в 1920-х до драгоценностей докопались, опасность грозила лишь владельцу дровяника. И потому он счел возможным их только спрятать.
Роль огромного углового дома на углу 9-й линии и Среднего проспекта, как поставщика сюжетов, так или иначе связанных с жизнью родственников и близких к ним людей, на сказанном не заканчивается.
Лет пятнадцать назад, разбирая оставшиеся ненапечатанными воспоминания дяди, я наткнулся на страницы, посвященные невеселому финалу жизни крестного отца В. М., председателя Старорусской земской управы восьмидесятилетнего Владислава Владиславовича Карцева, который в конце 1920-х годов переселился из Старой Руссы в Ленинград. Комнату Карцеву «со всей обстановкой» предоставил в своей большой квартире один из его дальних родственников – инженер Грюнман. Всего же братьев Грюнманов, по словам В. М., было трое, все были инженерами, и до революции у них были свои дачи на Рижском взморье. Того из Грюнманов, который приютил В. В. Карцева, звали Павлом Ивановичем. С женой и сыном Павликом он жил (мемуары дяди характерны точными привязками) на углу Среднего пр. В. О. и 9-й линии. Стоп! Это же тот дом, где жила семья Марковых, подумал я (другой-то угол – табачная фабрика). Совпадение? Да как это может быть! Я позвонил четвероюродному брату, Косте Маркову. Не говорит ли ему что-нибудь фамилия Грюнманов, в квартире которых в 1936 году умер Карцев?
– А то, как же! Квартира напротив нашей по второй лестнице… К бабушке Ляле (Елена Алексеевна Маркова) эти Грюнманы часто заходили…
И я услышал еще одну блокадную историю. Ее, конечно, следовало бы поместить как дополнение к «Блокаде» В. М.…
Васильевский Остров, поздняя осень 1941 года (видимо, ноябрь, электричество, хоть и с перебоями, но в дома еще подают). Во время воздушного налета огромная бомба попадает в многоэтажный дом на 6-й линии. Взрыв был такой, сказал Константин Андреевич, что даже их огромный дом – от места падения бомбы метров триста – словно подкинуло. От этого сотрясения с окон квартиры Грюнманов сорвались и упали светонепроницаемые шторы. Но свет в комнатах продолжал гореть, и Грюнманов тут же арестовали.
О том, что они арестованы, стало известно от соседки Грюнманов, которая наведывалась в их квартиру, оставшуюся не закрытой. Марковы, к тому времени занимавшие часть своей бывшей квартиры, жили через стенку с семьей гидробиолога Поллона. Хлеб, сказал Костя, кажется, уже выдавали по низшей норме, и соседка Грюнманов принесла детям Поллонов и ему (было ему 11 лет) жареные мясные котлеты. Позже Костя узнал, что котлеты были приготовлены из жирного кота, оставшегося после Грюнманов.
– Сколько лет прошло – не могу слышать запах даже крольчатины, – сказал Константин Андреевич.
Я спросил у него, инженером какой специальности был Грюнман.
– До революции, кажется, в какой-то телефонной компании, потом тоже вроде был связан с телефонией…
Фамилия немецкого происхождения, профессионал-связист, подавал световые сигналы во время вражеского налета… Дачи в остзейских дюнах, которыми до революции владели Грюнманы, кажутся в настоящем сюжете уже перехлестом. Такого набора улик могло хватить не на одну семью. О судьбе братьев Павла Ивановича – Иване Ивановиче и Викторе Ивановиче Грюнманах, которые жили, судя по справочнику, около Князь-Владимирского собора, ничего узнать не удалось.
Ни одного человека с фамилией Грюнман в списке жителей Петербурга сейчас не числится.
Последние прогулки
1
В последние годы жизни дяди мне случалось время от времени сопровождать его на вечерней прогулке, и несколько раз мы заходили к Пиотровским, которые жили совсем поблизости. Заходили мы всегда ненадолго, и, хотя визиты эти никакой деловой нагрузки не несли, всякий раз Владислав Михайлович и Борис Борисович друг к другу, можно сказать, прилипали. Предметом их разговора было, конечно, что-нибудь, касающееся Эрмитажа. В том, что исключительно об Эрмитаже говорил действующий его директор, ничего удивительного нет, но я, признаться, всякий раз удивлялся, что дядя, который к тому времени уже более полутора десятков лет не работал в Эрмитаже, продолжал быть в курсе всего, чем жил его Русский отдел. Территориальная близость к Эрмитажу – дядя жил на Миллионной, 11, – такой контакт, конечно, отчасти объясняла. Но и позже, когда он переселился на улицу Чайковского, ничего не изменилось. Впрочем, особенно запомнилась мне как раз такая их встреча, которая к эрмитажным делам никак и не относилась.
Когда в тот вечер дядя мне позвонил, чтобы я пришел, он уже явно был взвинченным. От моих вопросов он отмахнулся, и когда мы встретились, но его, чувствуется, прямо распирало. И как только мы вышли на улицу, он сразу же повернул в сторону дома Пиотровских. Так быстро он давно уже не ходил. Рипсиме Михайловна, жена Бориса Борисовича, открывшая нам, видя, что Владислав Михайлович задыхается, сразу предложила ему сесть, затем в прихожую вышел Борис Борисович. Дядю провели в комнату, усадили в кресло. Бледный, в испарине, он, лишь отпустила одышка, задал Борису Борисовичу вопрос довольно странный – не приходил ли к тому сегодня «этот идиот».
Те, кто знал Бориса Борисовича, помнят, что речь его была характерна несколько замедленным произнесением отдельных слов. Какого именно из идиотов имеет в виду Владислав, спросил он, и замедление речи на слове «какого» дало неожиданный эффект – понятным стало, что выбирать-то есть из кого.
Значит, не приходил, сказал дядя, иначе бы Борис не спрашивал, какого… Оказалось, что имеется в виду первый в дядиной жизни визит к нему участкового милиционера.
В тот день или, точней, накануне ночью в Летний сад забрались хулиганы, вероятно, там выпивали или были уже пьяными, и повалили на землю несколько статуй, при этом что-то из мрамора побилось при падении. Ночной охраны в Летнем саду тогда еще не держали, и ее, кажется, именно после этого случая и ввели.
Участковый, который уже под вечер позвонил к дяде в дверь, сообщил, что сверху спущено указание опросить старожилов окрестностей Летнего сада. И поскольку дядя не только старожил этого района, но, как выяснено, еще и работал раньше в Эрмитаже, то не подскажет ли он, кто это сделал? И не слышал ли он ночью какого-нибудь шума?
Владислав Михайлович был в бешенстве. Всего его монолога я, конечно, дословно привести не могу, но общий смысл был в том, что вместо служебных собак, которых надо было пустить немедленно по горячему следу еще на рассвете, только к концу следующего дня приходит этот тюха… И о чем спрашивает!?
– Значит, к тебе даже не приходил? – спросил дядя, почему-то почти с обидой. – Неужели так и обойдется?! И никто там, наверху, не почешется?
Он все еще не вставал с кресел, казалось, что чего-то ждет. Борис Борисович, видно, тоже это почувствовал. Он молча посмотрел на Рипсиме Михайловну, искоса бросил взгляд на меня, словно убеждаясь, что угадал нашу общую просьбу, и сказал, что безнаказанным это, безусловно, остаться не может. И в Эрмитаже, добавил он, конечно, только и разговоров… Да, да, целый день… И, кстати, как же это он не вспомнил? Из Павловска звонили и спрашивали…
Последние слова Борис Борисович произнес вполне уверенно. Ясно было, что из Павловска действительно звонили. Ворча, дядя встал из кресел. Лицо его немного разгладилось. Как, вероятно, у многих старых людей, к тому времени у него появилась такая черта – желаемое принимать за действительное.
На этом наш визит и закончился.
Рипсиме Михайловна приглашала пить чай, но дядя необидно для хозяйки приглашение отклонил, сказав, что час уже одиннадцатый, если не двенадцатый, и самому-то ему «в должность» утром не надо, не то что Борису Борисовичу.
2
И мы пошли, уже не спеша, по Миллионной, тогдашней Халтуриной, и, пройдя краем Марсова поля, вышли на Лебяжью канавку и двинулись вдоль нее к Инженерному замку. Смутно припоминаю, что погром статуй в Летнем саду потом связывали с озлоблением тех абитуриентов из иногородних, которые не смогли поступить в ленинградские вузы. Это я к тому, что был июль или начало августа. Вечер стоял теплый.
Помню, у меня из головы не шла та сцена, свидетелем которой я только что был. Надо сказать, что на исходе восьмого десятка дядя сохранял полную адекватность реакций на все окружающее, что признавали все. Но сегодня, так казалось, я стал свидетелем того, как человек, ясность ума и широту кругозора которого я считал всю жизнь недосягаемыми, вдруг впервые обнаружил, что нуждается по своему возрасту в снисхождении… Однако, как тут же выяснилось, я рано принялся делать выводы и в тот вечер.
– Что это я, прости Господи, на Бориса напал? – вдруг сказал дядя, остановившись. – Он-то здесь при чем?
И сказал дальше, что только милейший Борис Борисович, да и то лишь по старой блокадной дружбе, может вытерпеть, чтобы к нему, после трудного его дня, когда и своих-то дел полон рот, ввалился бы, на ночь глядя, вот такой, как он, старый… (дядя употребил по отношению к себе очень малоприятное слово) и стал бы долдонить о каком-то участковом идиоте… А знаю ли я, могу ли я себе представить, – вдруг почему-то раздражаясь теперь уже на меня, спросил он, – с какими милицейскими чинами приходится иметь дело Борису Борисовичу? Например, в связи с охраной Эрмитажа? Или в связи с парадами и демонстрациями, которые около Зимнего дворца проводятся? Да могу ли я это себе представить, что такое – руководить Эрмитажем? Нет, Борис все-таки очень теплый человек… И деликатный… Надо будет в следующий раз перед ним извиниться… – И дядя опять ругнул себя тем же словом.
Инцидент был исчерпан.
Мы шли вдоль Лебяжьей канавки, и дядя, останавливаясь и глядя в потемневшую гущу Летнего сада, где кое-где все же смутно белели оставшиеся статуи, стал, указывая тростью через канавку, вспоминать о том, как в 1924 году, когда он был студентом, в саду тоже были поваленные статуи, но повалены они были не людьми, а подмывшим их пьедесталы страшным сентябрьским наводнением. Да еще была буря. (Вот оно, оказывается, объяснение строчек Ахматовой: «Где статуи помнят меня молодой, / А я их под невскою помню водой»!)
Он рассказывал о том, как все – и Летний сад, и Марсово поле, и основание моста через Неву, тогда он назывался мостом Равенства – все оказалось залитым. И дальше – он показывал тростью вдоль Садовой – все, все было залито: Михайловский сад, двор Русского музея, Невский проспект, который по моде отечественной робеспьеровщины тогда тоже был переименован и назывался Проспектом 25 Октября…
– Я разве не показывал тебе фотографий, связанных с наводнением?
И, наверно, не случись чрезвычайно памятного для меня продолжения этого вечера, может быть, и предыдущая его часть вылетела бы из памяти.
3
И когда мы пришли к нему домой, он стал вынимать из старых папок диковинные снимки. Чего тут только не было! Многие фотографии я тогда увидел впервые. Были фотографии дореволюционные, сделанные в 1920-х, 1930-х, снимки предвоенные, военного времени…
– Вот что советую собирать! – говорил дядя. – А уж никак не вещи…
Это был ответ на один из моих ранее заданных ему вопросов о том, почему он ничего никогда не коллекционировал. Он ответил тогда, что, работая в музее, да еще в таком музее, как Эрмитаж, это было бы странным… Ну, разве что… И со смущенной улыбкой, поискав в глубине ящика стола, он достал оттуда обыкновенный спичечный коробок. В коробке были пуговицы, а, точнее сказать, пуговки. Десяток, может быть, полтора – небольших, разных, безо всяких украшений. Некоторые из пуговок были и совсем невзрачные, а две-три, просто такие бросовые, что казались даже не совсем круглыми. И дядя сказал, что в конце 1920-х, когда он работал в пригородных дворцах-музеях, им иногда в счет зарплаты раздавали оставшуюся во дворцах от дореволюционных времен одежду и посуду (об этом я несколько раз от него же и слышал), а, кроме того, время от времени, кое-что из гардероба царской семьи и даже из явно музейных экспонатов просто уничтожалось. Дворцы годами вообще не отапливались, сказал он, ткани и кожа в хранилищах сырели, высыхали, сырели снова, прели. Тление, моль, плесень, грибок. Средств для консервации и возможностей для того, чтобы все хранить так, как нужно, – ноль. Ну, и что делать, если там уже мундира или бархатного платья, собственно, нет, одна моль кишит? Какой выход? Естественно, жечь, чтобы хоть другое сохранить. Значит, акт об уничтожении, подписи… И вот, на память брали по пуговке… Эта вот с платья Анны Иоанновны… Эта, возможно, с мундира Петра Третьего…
Сентябрь 1924. Студенты в Летнем саду поднимают статуи, подмытые наводнением
Вел. кн. Николай Николаевич-младший и Мильеран
Барка, напротив Дома ученых
1924 год. Последствия наводнения в Ленинграде. Деревянные «торцы» на Невском
Сушка ковров во дворе Русского музея
Мы продолжали рассматривать фотографии.
Иногда очень полезно сопоставить, говорил он. И еще говорил, что ничто порой не выразит движения времени ярче, чем случайный мгновенный снимок…
И он положил передо мной три фотографии.
Первая из них была сделана, вероятно, во время посещения императрицей Александрой Федоровной какого-то гвардейского полка. Три яруса офицеров в парадной форме, сидящая в центре императрица в боа из белых страусовых перьев, и по обе стороны от нее дочери в белых платьях. У ног императрицы лежали на траве два офицера. Один из них был без фуражки. Подперев рукой бритую голову, он смотрел в объектив с абсолютно невозмутимым видом.
Дядя сказал, чтобы я взял лупу, и мне было велено рассмотреть лежащего у ног императрицы офицера без фуражки. На бритой голове офицера задорно красовалось белым завитком перышко, очевидно, оброненное с боа императрицы, но потом почтительно подобранное.
Дядя сказал, что это было время всеобщего увлечения фотографией, и царская семья фотографировалась бесконечно, а уж пикнички, высочайшие посещения, полковые праздники, благотворительные базары – это обязательно.
Глухота последних Романовых к тому подземному гулу, который слышался буквально всюду, говорил дядя, была необъяснимой. И он убежден, что другого такого человека, как Николай II, или двоих таких людей, как они вдвоем с Александрой Федоровной, которые бы сделали для приближения революции столько, сколько сделали эти двое, просто нет…
Снимок с перышком от боа был датирован сентябрем 1913 года. А уже через год, сказал дядя, большинства из тех, кого тут можно видеть, на свете не было…
А вот наш союз с Францией в 1914 году… И он указал на второй снимок.
Огромного роста человек с маленькой головой шел, укорачивая шаги, рядом с другим, казавшимся каким-то жуком на ножках. Голова у жука была гораздо крупней, чем у долговязого… Это были главнокомандующий гвардией великий князь Николай Николаевич-младший (или как его звали «длинный») и французский военный министр Мильеран. Снимок казался карикатурой. Поясница Николая Николаевича была на уровне шеи Мильерана.
На третьем снимке был Киров. Он сидел в центре длинного стола президиума на какой-то сцене. Кроме него у края стола сидел еще один человек. По обе стороны от Кирова за столом росли небольшие пальмы. Каждая пальма по ширине занимала место одного человека.
Этот снимок в комментарии не нуждался – фотомонтаж делали очень грубо. Я еще помнил, как в младших классах нас заставляли заклеивать в учебниках портреты врагов народа. Здесь их места замещали пальмами.
Передо мной была наша история от преддверия первой войны до преддверия второй – четверть века в трех картинках…
И я смотрел и смотрел – там были снимки знаменитого Буллы, а также Ольшанского, Магазинера и других – вот барка, выброшенная наводнением 1924 года на набережную против подъезда дворца великого князя Владимира Александровича (Дома Ученых), где мы только что гуляли; вот ковры, сушащиеся на спинах львов во дворе Русского музея; вот россыпь всплывших тогда же на Невском деревянных торцов, еще накануне бывших мостовыми и тротуарами; а вот уже прошло 10 лет после наводнения – севшие на льдину огромные, но словно сделанные из грубых досок самолеты 1934 года; вот Сталин и шеренга челюскинцев против него на фоне лежащей где-то внизу Красной площади… У всей шеренги челюскинцев куртки застегнуты по-женски – справа налево, значит, опять это фотомонтаж – шеренгу, чтобы она смотрела на вождя, повернули зеркально… А вот уже на снимке другая шеренга. Лондонские пожарные (сколько их тут сразу? Пятьдесят? Сто?), выстроившись, с какой-то феерической красотой тушили пожар. Началась Вторая мировая война…
– Собирай, собирай любопытные фотографии! – сказал дядя. И добавил, что это сродни подбиранию нужных книг. Не то, что (голос его стал жестким, враждебным) коллекционирование антиквариата, особенно в годы политических гонений, оккупаций, голода. И он упомянул некую фантастическую коллекцию, темное происхождение которой зловеще подсвечивалось символически звучащей фамилией владелицы.
Сам-то он собирал справочники по русской военной истории.
4
Среди пакетов и папок фотографий была еще одна большая папка, на которой дядиным почерком было написано «Планы и Карты». Папка не вызывала у меня интереса – кое-что из того, что в ней лежало, казалось, я раньше уже видел – там, помнится, лежали сложенные прямоугольниками под размер полевой сумки, положенные на коленкор карты местностей вокруг Красного Села с летними лагерями гвардии, планы петербургских кладбищ да красно-зеленые листы из адрес-календарей «Весь Петербург» – Ораниенбаум, Петергоф, Царское Село, Кронштадт. Все устарелое, во всяком случае, сильно не соответствующее современности.
Но дядя раскрыл папку и вынул из нее сложенный лист, на который до того я никогда не обращал внимания. Это была занявшая треть стола мелко испещренная названиями карта Крыма. Названия были напечатаны по-английски. Дядя указал мне на левый нижний угол карты. Джемс Вилд, географ, было написано там, изготовил эту карту для королевы и его королевского высочества принца Альберта. Третье издание, 16 октября 1854 года. Шкалы были две – в английских милях и в русских верстах. А еще стояла черная круглая печать с растопырившим крылья одноглавым прусским орлом. Вокруг орла было написано, что печать эта – библиотеки кронпринца. Отдельно, в другом углу помещалась видная, словно с низко летящего самолета, бухта Севастополя со всеми его укреплениями. Мне почудилось, что над этой картой кто-то долго стоял, склонясь и рассматривая.
– Когда-нибудь мы потеряем Крым, – сказал дядя. И добавил, что это будет плата за нашу политику. За то, что мы не видим в человеке гражданина. И за то, что сделали с татарами. И я, мне было уже за сорок, только в этот вечер узнал, что, когда он приезжал к нам в эвакуацию в далекий Кологрив летом сорок четвертого, он видел там ссыльных крымских татар, и с некоторыми (они ходили по домам, побираясь), оказывается, подолгу говорил.
1934. Встреча «челюскинцев» (Фотомонтаж)
Они, конечно, вернутся в Крым, сказал он. Через двадцать, пятьдесят, сто лет, но вернутся. Вернутся все, кто выживет. И тогда Крым от нас уйдет. Рано или поздно мы его лишимся. А Европа, смотри, смотри на карту, сказал он, этому только поможет.
Названия, в том числе татарские, были написаны на английском языке.
И еще, сказал он, чтобы я – он надеется, что у меня все же есть мозги – никогда не вздумал покупать никакого домишки к северу и западу от Сестрорецка. И западнее Пскова. Это было продолжение нашего недавнего перед тем разговора о финской дивизии, которую во время немецкой оккупации немцы силком прислали стоять по деревням под Старой Руссой. Финны не хотели переходить своей старой границы, и это вызывало у В. М. огромное уважение к ним. У дяди никогда не было никакой ни дачи, ни машины, а как раз в эти месяцы мы стали планировать вместе купить где-нибудь дешевую избу. Это было в то время трудно, если вообще возможно… Но мы позволили себе мечтать. И он сказал, чтобы я смотрел на старые карты, и не вздумал ничего заводить на бывшей чужой территории… Камчаткой не удастся долго управлять по телефону из Москвы, страна слабеет, говорил он. Свое бы удержать. А чужое начнет отваливаться.
Передо мной лежала уже другая карта. Немецкая, 1914 года. Произнести написанное на ней можно было примерно так: «Руссишен Ост-Зее-Провинцен. Лив-Эст унд Курлянд». По всей Прибалтике вились среди немецких названий змеи прежних, совершенно иных границ…
5
Вечер переходил в ночь, но до развода мостов, а мне надо было успеть перебраться на Васильевский, еще оставалось время. Мы продолжали разбирать старые фотографии и карты, и дядя еще раз вспомнил о нашем визите к Пиотровским. Он сказал, что с Борисом Борисовичем они близко приятельствуют с блокады, и он не боится, что Борис поймет его не так, как надо было бы понять. Но вообще-то, вот как по-разному пошли у них судьбы… Вот как по-разному…
Перед нами лежала групповая фотография кавалерийских курсов, на которых В. М. учился в 1920–21 году. Человек сорок курсантов были сняты около памятника Лермонтову. Поставив ножны шашек между колен, в первом ряду сидели командиры. И вдруг, может быть потому, что он только что почти по-военному раскладывал передо мной стратегические карты, я спросил дядю, что было бы, если бы он остался служить.
Самое странное, что вопросу он не удивился. Прищурившись, он смотрел куда-то сквозь стену.
– Ну, что ж… Был бы сейчас каким-нибудь скромным генерал-лейтенантом, – ответил он. И ответил так, будто это само собой разумелось.
Видно, шесть поколений офицеров даром не проходят, и что-то эти шесть поколений ему всю жизнь шептали. Вот загадки! В том деле, в той профессии, которую, уйдя из армии, он выбрал явно по любви, он достиг всего, чего можно достичь, если, конечно, иметь в виду признание коллег и знатоков… Но вот, оказывается, бежала в его воображении рядом еще и другая дорожка… «Скромным генерал-лейтенантом…» Странная мечта, особенно если вспомнить, что генерал армии Маркиан Попов, бывший до того начальником Главного штаба, и вместе с которым дядя был консультантом на съемках «Войны и мира», как рассказывали очевидцы, почтительно замолкал, когда дядя начинал что-то разъяснять режиссеру…
Б. Б. Пиотровский
В. М. Глинка
В 1986 году, когда Владислава Михайловича не было на свете уже три года, в Лениздате готовилась к переизданию его книга «Пушкин и Военная галерея Зимнего дворца». Я пришел к директору Эрмитажа взять у него текст небольшого предисловия к этой книге, которое Борис Борисович с охотой написал.
Незадолго перед тем я был в туристической поездке по Италии, и нашу группу на полдня завезли в карликовое Сан-Марино. Сувенир оттуда – две местные монетки в прозрачной коробочке я принес Борису Борисовичу. Редкость была рыночной, пустяковой, но я подумал, что, чего не бывает, вдруг знаменитый директор Эрмитажа, который, конечно, бывал всюду, по случайности не заехал в самое маленькое и самое древнее государство Европы.
Приблизив коробочку к глазам и разглядывая монетки, Борис Борисович, произнес, что Сан-Марино, конечно, это реликт средневековой сельской общины, но тем интереснее… И кому-то вошедшему по его вызову в кабинет указал:
– Передайте в отдел нумизматики.
– Но это вам! – сказал я.
– Да, да, спасибо… Я так и понял. Передайте, пожалуйста, в отдел!
Слово о дяде, написанное им, было теплым, ясным, точным. Оно приведено в этой книге на одной из предшествующих страниц.