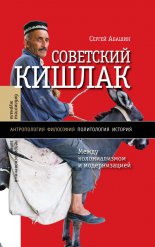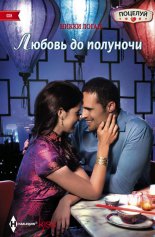Венера в мехах (сборник) Захер-Мазох Леопольд

Прошло несколько лет. Странная пара вдруг уехала на восток. Долго мраморный дворец стоял пустой. Однажды принцесса снова показалась в своей гондоле на озере, и рядом с ней сидел маэстро, бледный, со впалыми щеками и лихорадочно горящими глазами.
В парке росла группа кипарисов. Здесь Дёлер любил сидеть по вечерам и мечтать.
– На этом месте я желал бы быть погребенным, – сказал он однажды принцессе.
Его желание осуществилось.
Следующей весной угасла последняя искра жизни в нем, и пылкий, беспокойный дух его нашел наконец успокоение под тихими кипарисами озера Комо.
Асма
Произошло это в одном большом полуславянском городе, принадлежащем Австрийской империи, когда я молодым офицером служил в местном гарнизоне.
Директор городского театра с необычайно пестрым составом артистов всякого рода, имея, по-видимому, какую-то необыкновенную новинку для публики, расклеил однажды по городу колоссальные кричащие афиши, в которых объявлял о выступлении молодой атлетки Асмы Роггановой. Главной приманкой обещанного афишами представления и была эта артистка, о красоте которой директор, распивавший с нами иногда бутылку венгерского, рассказывал нам настоящие чудеса.
Была ли она действительно русская?
Одно время в мире артистов и наездников господствовали исключительно французские и итальянские имена, потом наступил период англомании. Когда затем на первый план выступили славяне – поляки и русские, – и их писатели, художники и певцы повергли в изумление весь мир, в моду вошли русские имена. Немецкие писатели называли себя Самаровыми или Шубиными, а их примеру последовали цирковые артисты, героини трапеции.
Я познакомился с Асмой Роггановой еще раньше, чем она выступила перед публикой, обязанный этим любезной предупредительности директора, который привел к нам нетерпеливо ожидаемую артистку в первый же вечер ее прибытия.
Первое впечатление было похоже на сильное разочарование. Асма оказалась высокой, крепко сложенной женщиной – красивой, правда, но грубой и неуклюжей. По типу она могла быть и русской, но и немкой из Северной Германии, потому что и на восточном германском побережье встречается этот тип здоровой женщины с круглым, светлым лицом, с небольшим своенравным носом и с великолепной массой волос женщины-Самсона.
Меня лично больше всего поразили с первого взгляда ее чудесные зубы – рот хищного зверя – и затем ее серые глаза, не особенно большие и без блеска, но совершенно необыкновенные по выражению в них непреклонной, несокрушимой воли, – глаза укротительницы зверей или гипнотизера.
Муж ее, носивший французское имя, был маленького роста, худощавый южанин с очень живой речью, с драматической жестикуляцией, недурной рассказчик, умевший овладевать напряженным вниманием большого общества, когда рассказывал о забавных или о страшных приключениях.
Вечером следующего дня состоялось первое представление. Первый же вечер заставил нас уверовать в необычайное искусство Асмы Роггановой – до того, что широковещательные афиши показались нам бледными и скромными перед этим изумительным феноменом. Прежде всего она оказалась на подмостках страшно интересной женщиной. В миг один бесформенная куколка превратилась в очаровательнейшую бабочку! Когда муж снял с нее темный меховой плащ, перед нами предстала атлетка в своем блестящем рабочем костюме женщиной идеальной красоты, способной посрамить все мраморные статуи богинь.
Вскоре мы должны были преклониться и перед артисткой в ее лице. Дав нам в нескольких номерах образцы своей силы, она приступила к главному номеру программы. С помощью веревки Асма вскарабкалась на трапецию, колыхавшуюся высоко под потолком здания, – в это же самое время муж ее показался почти на противоположном конце зала на галерее и занял свой пост на трамплине.
Асма Рогганова отвязала вдруг трапецию и вцепилась зубами в узел веревки, которой была привязана эта трапеция. За минутой всеобщего волнения в зрительном зале наступила могильная тишина – все замерли, затаив дыхание. Музыка играла марш. Асма с улыбкой на устах кивнула головой своему мужу – вмиг тот перелетел через весь зал и повис, уцепившись своими сухощавыми нервными руками на трапеции, которую крепко держала в зубах его жена.
Громом аплодисментов было встречено это необыкновенное по смелости упражнение, и восторг публики становился еще более бурным при виде ряда интересных фокусов, исполненных французом на трапеции – между небом и землей, в полной зависимости от произвола красивой, улыбающейся жены или, вернее, ее крепких зубов.
Следующим номером было зрелище менее опасное, правда, но еще более волнующее: борьба, на которую атлетка вызывала посредством афиш и газетных объявлений желающих состязаться. Нашелся, однако, только один храбрец, решившийся на этот опыт; это был известный своей силой и ловкостью преподаватель гимнастики.
Словно легкая лихорадочная дрожь пронзила всех зрителей, когда на арене, где уже ждал противник, появилась прелестная женщина в трико и – вместо обычной короткой юбки, вышитой золотыми блестками, вокруг бедер на ней надета была шкура пантеры. Так представала, вероятно, Брунгильда, королева Исландии, перед своими подданными. Вопрос был только в том, был ли на этот раз ее противником Зигфрид или Гунтер.
Заиграла музыка, изветный спортсмен, исполняющий роль судьи, дал знак начинать – и борцы медленно начали сходиться.
Асма Рогганова, не сводившая со своего противника пристального взгляда, производила впечатление красивого хищного зверя, подкрадывающегося к своей жертве. Вот она охватила его – и, как всегда, исход борьбы решил первый наскок. Несколько секунд борьбы – и Гунтер падает, побежденный наголову Брунгильдой.
Та же картина повторяется в другой и третий раз – зрители неистовствуют от восторга.
Как не похожа была эта сильная, горячая, страстная Асма, какой она являлась перед публикой, на ту спокойную, холодную, безучастную женщину, какой она бывала всегда за нашим столом! Большой круг видных поклонников домогался ее благосклонности, но она неизменно держалась со всеми одинаково, гордо и недоступно.
В первый раз я увидел ее оживившейся, когда однажды вечером директор явился вместе с хорошенькой и пикантной опереточной певицей своего театра и муж атлетки принялся заметно ухаживать за миниатюрной кокеткой. Ни крупное и сильное тело Асмы, ни ее воинственная голова ничем не выдали ее волнения и на этот раз, но каждый раз, когда она устремляла свои серые глаза на мужа, по моему телу пробегала дрожь, словно в предчувствии чего-то рокового, зловещего.
Однажды вечером, когда не было спектакля и артисты не были заняты, я неожиданно встретил Асму Рогганову неподалеку от театра. В своем темном плаще, под густой вуалью, похожая на ангела мести, она прошла мимо меня, не заметив меня. Я невольно остановился и посмотрел ей вслед. Она зашла за дерево и что-то пристально искала глазами вдоль аллеи.
Продолжая медленным шагом свой путь, я встретил ее мужа с маленькой опереточной певицей; он вел ее под руку и шутливо болтал с ней. Эти также не заметили меня. Когда они прошли мимо меня, я обернулся еще раз и увидел, как парочка продолжала свой путь, ничего дурного не предчувствуя.
Тогда Асма Рогганова медленно вышла из своей засады и в некотором отдалении последовала за обоими. Меня снова пронзило то жуткое чувство, которое я испытывал в тот вечер каждый раз, когда атлетка останавливала спокойный взгляд своих серых глаз на своем ловком и беспечном муже.
На следующий вечер спектакль был дан с необычайно богатой и эффектной программой. Для первого отделения объявлена была борьба, для второго – гигантский прыжок. На этот раз Асме предстояла борьба с профессиональным атлетом, специально приехавшим из Триеста.
Спокойная, как всегда, с улыбкой на губах, вышла она на арену, но в ту минуту, когда она охватила своего противника, в серых глазах ее вспыхнул зловещий огонь, и каждый раз, когда она бросала наземь силача, она делала это с такой страшной яростью, с такой стихийной необузданностью, которые были в ней необычны и новы, и оттого она казалась еще привлекательнее.
В последний раз она даже уперлась презрительно ногой в грудь побежденного противника, рот исказился ядовитой насмешкой и обнажил блестящие ряды зубов.
Спокойная, как всегда, вышла она на арену и во втором отделении, как всегда, сбросила с плеч свой меховой плащ, который ее муж любезно подхватил, затем вскарабкалась на трапецию и, уже усевшись на ней, поклонилась публике со своей обычной очаровательной улыбкой.
Вот на трамплине, на противоположном конце зала, появился ее муж, заиграла музыка.
Асма снова улыбнулась, но на этот раз это была улыбка тигрицы.
Потом она кивнула мужу головой, и он прыгнул.
Гробовая тишина – ни звука… И вдруг крик ужаса из сотен уст…
Спокойно, не шевелясь, смотрела Асма Рогганова на тело своего мужа, лежавшее внизу… растерзанное, бездыханное… Медленно спустилась по проволоке вниз и невозмутимо, как всегда, набросила плащ, поданный ей по ее знаку театральным служащим.
В эту минуту директор подошел к ней, чтоб сообщить ей, что муж ее разбился насмерть…
Она пожала плечами и холодно сказала:
– Я знала, что это должно будет случиться, – он слишком много пил. Сегодня вечером он не владел собой, я ему это предсказывала.
Вторая молодость
Я знал ее еще девушкой в деревне несколько лет тому назад, когда гостил там у друзей, чтобы поохотиться. Деревня эта – восхитительный уголок, и охота там превосходная. В горах и в великолепных лесных чащах множество дичи: шагаешь по полям – собака через каждые сто шагов нападает на следы зайца или стаи куропаток, а болота и маленькие пруды, поросшие тростником и водорослями, буквально кишат дикими утками и бекасами.
Старик барон, ее отец, полковник в отставке, принял меня отлично, и я довольно часто бывал в маленьком замке, в котором она жила и который напоминал мне своими стенами и башнями, своими готическими окнами, навесами и витыми лестницами гористую Шотландию.
Бернардина была единственной дочерью барона, и так как ее матери не было в живых, то она взяла на себя все заботы по хозяйству, но при этом не пренебрегала своими страстями знатной амазонки. Она ездила верхом ловко и смело, стреляла с меткостью разбойника, гребла так умело и сильно, что поражала меня каждый раз.
В сущности, она была создание изящное, несмотря на свою прекрасно сложенную фигуру и сильные формы. Благородный овал светлого лица, восхитительный рот с яркими губами, блестящие голубые глаза, белокурые косы, словно облитые золотистым светом солнца, – все это было олицетворение счастливой молодости.
Мы были добрыми товарищами, не больше. Я любовался ее мягкими движениями, когда она вскакивала в седло, как очарованный, смотрел я на ее жестокие глаза, когда она подстреливала сокола на лету, но подавал ей руку, чтобы подсадить в седло, и заряжал ее маленькое ружье – Марцелл.
Не надо быть особенно проницательным, чтобы догадаться вскоре, что молодые люди любят друг друга – той любовью, которой любят в молодости, радостной, счастливой, без заглядывания в будущее. Бернардина и мой друг с самого же начала должны были отказаться от всякой надежды соединиться когда-либо, потому что, во-первых, они были одних лет и вдобавок он был беден. Но в то дивное время они об этом мало задумывались.
Бернардина была свободна. Не было никого, кто надзирал бы за каждым ее шагом, – ни матери, ни старой тетки, ни гувернантки. Она наслаждалась полной мерой своей свободой и беззаботно отдавалась своей любви, от которой она хорошела и была счастлива. У нее был тот чарующий смех, тот живой блеск глаз, которые порождает только юное сердце, хранящее блаженную тайну, – та вольная, дикая грация движений, которая напоминает стремительное падение воды, в котором чувствуется дыхание весны.
Я знал ее девушкой, – и я был поражен, когда встретил ее однажды в Париже.
Она была замужем всего четыре года, но постарела на тридцать лет. Рождение первого ребенка унесло ее молодость и красоту. Быть может, это сделало еще что-нибудь другое.
Она вышла замуж потому, что этого желал ее отец, и потому, что она хотела стать замужней дамой.
Граф Рустан, ее муж, был дипломатом. У него было очень много орденов и очень мало волос на голове, но зато великолепные английские бакенбарды. Он был старше ее на двадцать лет, имел наружность вельможи – знатный барин, элегантный, холодный, скупой на слова и решительный в движениях. Он никогда не улыбался. У него не было никаких страстей. Посещал ли он жокей-клуб, вел ли игру, содержал ли дорогую красавицу, присвоившую себе сначала состояние, а потом и имя одного румынского князя, держал ли скаковых лошадей – все это он делал только потому, что это было принято, что этого требовал хороший тон.
Бернардина же приобрела одну новую дурную привычку. Она почти беспрестанно зевала. Даже на первом представлении «Прекрасной Елены», я видел, она зевала, даже во время обсуждения со своей портнихой нового sortie de bal.
Она, по-видимому, выросла. Прежняя фигура ее среднего роста стала теперь длинной и худой. Когда она бывала в декольтированном платье, ее плечи торчали, как два вопросительных знака, а тонкие руки казались бесконечной длины. Румяна не могли скрыть коричневых пятен, которыми было усеяно все лицо ее, напоминавшее погребенную шесть тысяч лет тому назад египетскую принцессу. Глаза ее тускло мерцали, как потухающий свет ночника, а в улыбке ее было что-то жестокое и вымученное в одно и то же время.
Граф был сама учтивость в отношении жены, у нее же были для него только отрывистые полуслова, только резкие, нетерпеливые движения, только злые взгляды.
И эта женщина была безупречно добродетельна. Ей нельзя было сделать ни малейшего упрека – о ней вообще ничего не говорили. Ее как будто и не существовало. На прогулке на ней иногда замечали роскошный туалет, дорогие меха – ими любовались, но ее самой не замечали.
Я встретил ее раз верхом в Булонском лесу. Она прыгала в седле, как обезьяна на спине пуделя. Это была конченая, совсем конченая женщина – и это была та самая, которая некогда доставляла мне такое же наслаждение, как статуи Кановы, как картины Тициана, как римские элегии Гёте!..
Невозвратное прошлое!
Через двадцать лет я встретил графиню, успевшую овдоветь за это время, на одном богемском курорте. Я не сразу узнал ее. Это было вечером на гулянье. С ней произошла новая метаморфоза – я не узнал бы ее совсем и прошел бы мимо, если бы она не остановилась и не заговорила своим звонким голосом.
– Что вы здесь поделываете, сумасшедший вы человек?! – воскликнула она, обратившись ко мне, а я изумленно уставился на нее, словно на привидение.
На этот раз она оказалась, наоборот, помолодевшей – никто не дал бы ей теперь больше тридцати лет, а между тем ей было сорок. Но она пополнела и повеселела – и то и другое молодит.
Теперь она была, в сущности, еще гораздо красивее, чем девушкой. Та самая природа, которая становится к осени вакханкой и разукрашивает себя виноградными ветвями, даже слишком расточительно снабдила эту зрелую женщину всеми теми чарами, которые способны очаровать Рубенса.
Лицо ее совсем преобразилось: круглое, полное, свежего, чистого цвета, с живыми, умными глазами, с маленьким орлиным носом, с упрямым подбородком, оно светилось любезной и несколько кокетливой улыбкой. В гордой фигуре ее была та редко встречающаяся мягкая величавость, которая и чарует нас, и в то же время держит нас на известном расстоянии, допуская только идолопоклонническое служение своей силе.
Следующей зимой я снова встретил Бернардину в Париже. Мое изумление и мой восторг возрастали при каждой новой встрече. Положительно, она помолодела! Все в ней снова было молодо – ум и сердце тоже. Не был ли ее другом какой-нибудь восточный мудрец, сложивший к ее ногам тайны каббалистики, или не купалась ли она в человеческой крови, как легендарная венгерская магнатка?
Осенью я снова приехал в те места, где некогда разыгрался невинный роман хорошенькой Бернардины с Марцеллом. Как и в тот раз, меня привлекла сюда охота. Ежедневно бродил я по полям и лесам – и вот однажды встретился с графиней Рустан, также выехавшей на охоту.
Она остановила свою лошадь и приветливо протянула мне руку. Я узнал, что она проводила лето одна в том замке, который некогда принадлежал ее отцу.
Мы поболтали некоторое время, потом графиня спросила:
– Хотите посмотреть, как я буду травить зайца?
– Очень охотно, – ответил я. – Вы знаете, что для меня жестокие женщины представляют особенное очарование.
Она засмеялась и ударила меня хлыстом, затем погнала свою лошадь и велела спустить обеих шотландских борзых собак. Великолепные животные вскоре настигли зайца и помчались за ним сломя голову, через пни и кочки, через рвы и плетни.
Дивное зрелище представляла эта красивая, смелая женщина, покачивавшаяся в седле с дикой грацией скифской наездницы и погонявшая своего английского скакуна громкими возгласами и ударами кнута. Вскоре она скрылась за маленькой березовой рощей, и я потерял ее из вида, но я увиделся с ней на другой же день у нее в саду, где она играла в лаун-теннис с несколькими дамами и мужчинами, проводившими лето по соседству с ее замком.
Я залюбовался эластичной красотой этого тела сфинкса, стройными, плавными движениями, маленькой ногой и своеобразной энергией, с которой она подбрасывала мяч.
Я провел на охоте еще некоторое время; она также охотилась, гребла и развлекалась в обществе соседей. Но соседи начали разъезжаться один за другим, надвигалась осень, уже пожелтела листва, иней превращал по утрам луга и нивы в сверкающее море, холодный ветер шумел в верхушках деревьев, – а графиня все еще и не думала возвращаться в Париж.
Это мне казалось странным. Самые смешные мысли приходили мне в голову, но в тот момент меня все же больше всего интересовала лисица, которая появлялась, как мне сообщил один крестьянин, каждую ночь на лесной опушке, вблизи замка графини Рустан.
Когда наступило полнолуние, я захватил однажды вечером ружье и залег в кустарнике, окружавшем стену графского парка, подстерегая лисицу.
Лисица не показалась, но зато попалась другая, более драгоценная дичь.
Я лежал в густой чаще в тени, откуда меня не было видно; передо мной была небольшая лужайка, вся залитая мягким сумрачным лунным светом, а за ней тянулся темный лес.
Вдруг отворилась калитка парка и из нее тихо вышла женская фигура.
Это была графиня Рустан. Она шла, приподняв шелковые юбки и закутав голову алжирским вуалем.
Она осторожно пробиралась по высокой траве и низким кустам малины и прошла мимо меня так близко, что задела по моей руке подолом платья.
У лесной опушки она остановилась, оглянулась вокруг и потом хлопнула в ладоши. Это был, по-видимому, условный знак. Тотчас же из чащи выскочил красивый молодой человек – самое большое, лет двадцати – и бросился к ее ногам.
Она нежно обняла его полными руками, а он в упоении поднял глаза на нее.
Так вот в чем был секрет ее второй молодости! Не тайны каббалистики, не теплая человеческая кровь – новая любовь, – менее невинная, но более счастливая, чем первая.
Подруги
В первый раз еще они оставались одни.
Он сидел рядом с молодой, еще только расцветающей девушкой в саду на покрытой мохом каменной скамье и молчал. Они знали оба, что любят друг друга. Но эта любовь была между ними какой-то упоительной тайной. Только раз они обменялись быстрым взглядом.
Он тоже был еще очень молод. Его сердце пажа пугали, заставляли робеть эта нежная преданность, эти благоговейные взгляды прекрасной девушки. В его возрасте любовь – это рыцарское служение, это песнь трубадура, это цепи раба.
Шея его бессознательно ждала пинка ноги повелительницы.
Глаза его блуждали вдали – казалось, искали кого-то, какой-то цели своего неясного томления.
Природа улыбалась ему всей своей еще пышной красотой первого осеннего дня. Еще и листья не пожелтели, только красноватой дымкой подернулись лес и сад. Виноградные гроздья зрели, протянувшись шпалерами по стене господской усадьбы, а солнечные лучи трепетали расплавленным золотом на бархате нив, на астрах, георгинах и подсолнечниках, обращавших свои головки к солнцу, словно огнепоклонники.
Чистый и безоблачный, повис небесный свод над зелеными верхушками елей и берез, за которыми солнце воздвигло золотую решетку, – словно это был рай, который оно хотело изолировать от мира.
Девушка впервые надела в это лето длинное платье. Стройная фигура обрисовывалась с девственной угловатостью под белой тканью, облекавшей ее, словно целомудренные листья лилию. С худенького личика глядела пара темных глаз с таким изумлением, как будто перед ними нежданно открылась волшебная, сказочная страна. Дыхание вздымало ее детскую грудь и тихо колыхало темные косы. Словно капли росы, блестели жемчужины на ее шее и на руках.
Наконец он сумел произнести слово. Он назвал ее имя, и плечо его слегка коснулось ее плеча.
Она вздрогнула.
– Можешь ли ты это понять, – продолжал он, – что на свете есть люди, ропщущие на Творца, есть и такие, которые видят в Его творении только несчастную игру враждебных стихий? А мир ведь так прекрасен.
– Ты прав.
– Быть может, надо быть счастливым, чтобы понимать это.
Она испугалась, но через минуту улыбнулась сама над собой.
Солнце закатилось. На западе небо алело румянцем заката, словно распахнулись небесные ворота, чтобы впустить их. Маленькие облачка, освещенные снизу последними лучами, плыли в небесном океане, словно красные лодки на белых парусах.
Черный дрозд пел свою вечернюю песнь на верхушке ели. Снизу, с дерновых дорожек и цветочных грядок, потянуло свежим холодком. Природа точно робко вздрогнула. Вскоре на землю пала роса и туман разостлал свой таинственный покров на далекие дубравы и на серые, покрытые мохом башни.
Бедная девушка оглянулась на него, как будто хотела сказать: «Скажи же решительное слово!»
При невольном движении, которое она сделала при этом, она коснулась его руки. Она покраснела, потупила глаза в землю и потом встала, как будто хотела убежать.
Она показалась ему в эту минуту ангелом, распростершим крылья и готовым взвиться.
Он обвил ее руками, а она, вся дрожа, подняла глаза на него. Он был в эту минуту Богом, а она – живым духом, вдохнувшим жизнь в его создание. Если бы он был лет на десять старше, он ответил бы на этот взгляд счастливой улыбкой, но он был не намного старше ее.
Стемнело. Небо на западе побледнело, сохранив еще только матовый блеск янтаря. Слышно было тихое дыхание деревьев, и тяжелые, влажные испарения сада теснили грудь.
– Любишь ли ты меня? – спросил он робко, почти пугливо.
Она только тихонько кивнула головой – она не находила слов, которыми сумела бы выразить, что ее волновало. Он склонился к ней – и в первый раз еще губы его коснулись ее губ – холодных губ, на которых замер вздох. Дрожь пронизала все ее тело, тело цветка.
Она закрыла глаза, и руки ее что-то ловили, чего-то искали – наконец нашли его шею, обвились вокруг нее и сомкнулись на затылке, сложенные как для молитвы.
Потом она вдруг вырвалась и стремительно бросилась бежать в отдаленную чащу парка. Он сделал два шага за ней, но что-то непонятное, что-то загадочное удерживало его.
Он посмотрел на небо.
Высоко над елями горела вечерняя звезда, а на краю долины вставал красный серп луны.
Вдали пела река ту старую песню, которую певали сирены Одиссею.
В то же самое время в будуаре господского дома, похожем на покои в серале, беспокойно шагала взад и вперед прекрасная, гордая женщина. Время от времени она останавливалась у окна и смотрела в сад, следя за мелькавшим в зелени белым платьем ее юной подруги.
Потом она снова раздраженно отворачивалась от этого зрелища и брала розу, у которой принималась обрывать лепестки, или ловила муху и обрывала ей крылышки.
«Неужели я уже совсем потеряла красоту, потеряла способность внушать страсть? – спрашивала она себя. – Неужели уже пришла пора, когда со мной начнут обращаться с той почтительностью, которая гораздо больше уязвляет тщеславное женское сердце, чем льстит? И отныне мимо меня будут проходить, не отдавая больше привычной дани, предпочитая распустившейся розе целомудренный аромат почки?»
Да, она ревновала к своей юной подруге. Привыкшая оспаривать у всякой женщины всякую, даже совсем незавидную победу, она не могла примириться с мыслью о поражении своей духовной сестрой.
– Ну, это мы еще посмотрим! – проговорила она наконец сквозь зубы.
Вынув из венецианской шкатулки пару бриллиантов, она продела их в уши, затем застегнула вокруг шеи колье из турецких золотых монет и надела на полную руку браслет в виде зеленой змеи с рубиновыми глазами.
От холодного прикосновения золота она слегка вздрогнула. Или это от волнения?
Она подбросила полено в пламя камина и медленно надела на себя меховой плащ, лежавший тут же перекинутым через спинку стула.
Подойдя к окну, чтобы закрыть его, она увидела его, того, к которому испытывала теперь чувство, похожее на ненависть. Он шел по гравию дорожки. Она с облегчением вздохнула.
Бросив еще один быстрый взгляд в зеркало, она медленно опустилась на маленькое кресло пред камином, спиной ко входной двери.
Он вошел, портьера прошелестела, опустившись за ним. Она сделала вид, что не слышала, как он вошел, и повернула голову только тогда, когда он поздоровался с ней глухим голосом.
– А, это вы! – сказала она и улыбнулась.
Он прошел мимо нее к самому окну и прислонился спиной к оконному переплету. Тихо и насмешливо пел огонь в камине, и безжалостная насмешка змеилась по губам оскорбленной женщины – и все это и смущало, и в то же время опьяняло его. Смущение это было совсем не похоже на то, которое он испытал в саду рядом с молодой девушкой, и опьянение, охватившее его, еще усиливалось от обстановки, окружавшей эту женщину.
Этот будуар, обставленный с восточной роскошью, уютно и пышно, казалось, был специально для нее устроен каким-нибудь Рубенсом.
Да, в роскоши есть могучая, покоряющая поэзия! Разве не может сравниться этот сладко туманящий голову запах женского будуара с ароматом роз на кустах? А эти темные, тяжелые занавеси, пропускающие только смягченный полусвет и словно скрывающие драгоценную тайну; эти персидские ковры и шкуры, заглушающие шаги; эти турецкие диваны с мягкими сиденьями и упругими подушками, – разве нет в них той же прелести, какую имеют группы деревьев в сумерках, бархатный дерн, мшистые скамейки в зеленом укромном уголке?
Все, окружающее эту зрелую красоту, эту жаждущую побед вдову – в своей изменчивости и в своем блеске, – все это как будто зовет к сладостным грезам и, словно волшебные заклинания, прогоняет заботу, печаль и страдание прочь от этого порога.
Пламя камина эффектными переливами играет на золоте ее белокурых волос, на шлейфе ее серого шелкового платья, на ярко-красном бархате ее меховой кофточки, опушенной соболем, из широких рукавов которой просвечивают сквозь белые кружева прелестные руки, а серебристый сумеречный лунный свет стелется над нею загадочной дымкой.
Она продолжает улыбаться.
– Что с вами? Вы боитесь меня? – шутливо спрашивает она.
Что-то действительно похожее на страх удерживает его у оконного переплета и сковывает его язык.
– Подойдите же поближе, – продолжала она. – Расскажите и мне то, в чем вы сознались крошке. Я ведь знаю, что вы любите друг друга, как двое детей, затевающих вместе проказы и шалости!
Он все еще молчал – перед ней он чувствовал себя действительно ребенком. Маленькая наколка из ярко-красных лент придавала ей что-то материнское, и обращалась она с ним, как с мальчиком, заслужившим наказания. Да, она имела над ним превосходство во всех отношениях, – и именно это придавало ей неотразимую прелесть.
– Что же, вы не хотите исповедоваться? – спросила она еще раз.
Медленно подошел он к камину и остановился в двух шагах от нее, опершись о камин.
– Мне не в чем исповедоваться, – пробормотал он.
– Да ведь каждый взгляд ваш выдает ваше увлечение!
– Вы ошибаетесь… – тихо ответил он.
– В вашем возрасте невозможно обойтись без идола, – продолжала она, – в крайнем случае влюбляются в героиню прочитанного романа.
Когда она говорила, он чувствовал всегда, что его опутывает странная магическая сила. Ее красивый, слегка глуховатый голос как будто ласкал его душу. Она отлично видела, как он все больше и больше подпадал под власть того обаяния, которое она умела распространять, – и рассчитывала каждое слово, каждое движение, как в шахматной игре.
Тщетно пытался он бороться с ней внутренне – она продолжала поступать с ним точно так же, как прежде с мухой. Он чувствовал, как оказывался в плену у нее, и если противился, то только потому, что хотел подольше чувствовать ее власть – эти удары колючими ветвями роз.
Вдруг она встала и принялась шагать взад и вперед по мягким коврам. Шелест ее шелковых юбок, позванивание золотых монет на ее шее, колыхание темного меха вокруг полного сильного тела – все это действовало на него, как пытка, вымогающая признание, а больше всего – движение шлейфа, нетерпеливо ударявшегося о пол, словно рыбий хвост ундины.
Наконец она остановилась перед ним и принялась возиться с его галстуком, – а он весь вздрогнул от прикосновения ее руки, как от прикосновения ножа.
Теперь она больше не сомневалась, что он в ее власти.
Неспешно опустилась она снова на кресло и подозвала его к себе, чтобы поднять у него со лба прядь волос. Это было слишком, дольше он не в силах был владеть собой. Он схватил ее руку и поцеловал.
Она покачала головой, на губах ее снова заиграла злая улыбка, а в сверкающих глазах промелькнуло кровожадное выражение. Закутанная в дорогие темные меха, окруженная острым запахом хищного зверя, сама она походила на большую красавицу кошку, на отдыхающую тигрицу, спрятавшую свои когти.
Он готов был воскликнуть: «О, как ты безжалостна в своей красоте!»
Овладев собой еще раз, он пробормотал с вымученной улыбкой:
– Вы жестоки.
Она посмотрела на него взглядом глубоким и радостным, как небо душной летней ночи, и затем слегка хлопнула его рукой.
Это был электрический ток, бросивший к ее ногам трепетную жертву высокомерного каприза. Она громко засмеялась, блеснув своими крупными белыми зубами – зубами настоящего хищного зверя, – а он на коленях перед ней припал горячими губами к ее маленькой, полузарывшейся в медвежью шкуру ноге.
Она тотчас же шутливо поставила другую ногу на его затылок – и ее легкое давление было для него лаской, несравненно более интимной и сладкой, чем взгляд, чем ласковое слово, чем даже поцелуй.
Через мгновение она насильно подняла вверх его невинную детскую голову и тихим шепотом, как змея в раю, спросила его, любит ли он ее.
Он кивнул головой.
– Я хочу, чтобы вы любили меня… – прошептала она, и греховные губы ее искали – и… встретили его губы.
– Я хочу быть вашим рабом, – пролепетал он, когда ее руки снова освободили его, – только рабом, не больше! – и в счастливом, восторженном упоении он не отрывал глаз от ее лица.
– Этого и говорить не нужно, – насмехалась она. – В вашем возрасте не знают любви и не требуют ответной любви, а жаждут только боготворить, покоряться, служить, даже страдать! Не правда ли?
Он посмотрел ей в глаза и безмолвно опустил голову.
Живая скамья
Когда пани Замби Михайловская взяла к себе в дом в Маляхов дочь крестьянина Олизера в качестве няни к своему ребенку, никто вначале не обратил внимания на бедную девушку, пришедшую босиком, в толстой рубашке и заплатанной юбке, с нечесаными, всклокоченными волосами и пугливо опускавшую перед всеми глаза.
Но едва только пани одела девушку – по своему вкусу, очень мило, а по понятиям галицийских деревенских красавиц, очень прилично, – миловидная Матрена привлекла к себе все взоры.
Что-то азиатски-пышное приобрела ее стройная фигура в желтых сафьяновых сапогах, в пестрой сборчатой юбке, в красной «корсетке»-безрукавке и в пестром цветном полушубке. Белая рубашка грациозно вздымалась под белой овчиной, а длинные, толстые косы кокетливо раскачивались по круглым бедрам.
Пугливое выражение ее свежего лица все больше и больше уступало выражению приветливой доверчивости, и не прошло еще двух недель, как она приобрела гордую посадку головы, как у принцессы, и искрящиеся черные глаза ее, казалось, готовы были повелевать и грозить.
Вскоре все мужские сердца в Маляхове воспылали любовью к ней, кучер и казак соперничали с лакеем, а когда и господский писарь воспылал к ней страстью, тогда и сам управляющий, высокородный пан Богуслав Михайловский, был близок к тому, чтобы записаться в поклонники Матрены.
На славянском востоке истории такого рода – явления такие же нередкие, как и в сказочных странах магометанского востока. Превратила же однажды простая еврейка, красавица Эстерка, голову миропомазанника, короля Казимира польского, в скамейку для ног своих, – и не одна крестьянская Венера превращала своего надменного благородного господина в послушного раба своих капризов султанши. И как раз в то время красивая дочь одного глоцовского крестьянина стала графиней Комаровской.
Пан управляющий был мужчина цветущего возраста и обладал любящим сердцем, которое его властная и капризная супруга никогда вполне удовлетворить не умела. Маленький уголок в нем всегда оставался свободным; вначале его заняла одна очаровательная помещица, потом жена еврея-корчмаря, а после нее одна швейцарка-гувернантка.
В настоящее время трон был не занят, и Матрена была как будто прямо создана для того, чтобы занять его.
Пан Михайловский скоро заметил, что имеет множество соперников, и, чтобы не рисковать быть сбитым с позиции каким-нибудь своим писцом или казаком, он решил без замедления объясниться в любви своему идеалу.
Так как для этого представился самый подходящий случай – в соседнем местечке была ярмарка, – то он купил там несколько ниток кораллов, яркую шелковую косыночку на голову и пару серебряных сережек и явился с этими сокровищами как раз в тот момент, когда, по счастливой случайности, жена его уехала в гости к соседней помещице.
Он проскользнул в заднюю комнату, в которой Матрена в это время играла с ребенком на низком турецком диване, и начал ухаживание с того, что преподнес ей отливающую всеми цветами радуги косыночку. Плутовка сразу смекнула, в чем дело, и, лукаво улыбнувшись, блеснула своими белыми зубками.
Управляющий похвалил ее цветущий вид, полюбовался ее роскошными волосами – затем появились сережки. Матрена разрумянилась от радости и охотно уселась смирненько, когда ее господин собственноручно начал вдевать их ей в уши.
Наконец влюбленный управляющий выгрузил кораллы. Матрену это, по-видимому, совсем покорило; по его приказанию она встала и распахнула свою овчину, а он надел ей на шею великолепное ожерелье.
– И красивая же ты девушка! – бормотал пан Михайловский. – Как будто создана для того, чтобы вводить в искушение мужчин…
И бедный, слабый Адам тотчас же и поддался соблазну и обвил руками хитрую Еву.
Она попыталась вырваться, но он крепко прижал ее к себе и поцеловал в белую шею; тогда она сначала с подобающей почтительностью дала ему легкий толчок в бок, а когда все это не помогло и пан управляющий начал выражать свои чувства еще более бурно, она подняла крик.
Черт привел сюда в эту минуту пани Замби. Она вмиг сообразила все положение дела и выразила намерение ринуться на супруга с яростью тигрицы. Но он ни на минуту не потерял присутствия духа.
– Не лги! – крикнул он на бедную испуганную девушку с видом строгого судьи. – Ты – воровка! Это ты утащила деньги!
– Что такое? – все еще недоверчизо спросила пани Замби. – Матрена что-то украла?
– Да, я поймал ее на месте преступления!
– Барыня, я не виновата… барин меня… барин хотел… – бормотала бедняжка, запинаясь.
– Ну, да! Наказать тебя! – закончил за нее управляющий.
– Это мое дело! – заявила пани Михайловская. – Где плетка?
В то время как она повернулась в тот угол, где на гвоздике висело орудие ее величия рядом с чашей со святой водой, Матрена неожиданно угостила управляющего здоровым пинком и, когда тот попятился, быстро распахнула окно, выпрыгнула во двор, вскочила на лошадь своей барыни, которую казак водил по двору, и ускакала.
Все растерянно смотрели ей вслед, и, раньше, чем они опомнились и подумали броситься в погоню за ней, Матрены и след простыл.
Матрена скакала без оглядки, ни на мгновение не останавливаясь, через деревню, через поля, пока очутилась в лесу; с безумной поспешностью устремилась она по узкой, поросшей высокой травой тропинке. Смертельный страх охватил ее: она сознавала, что теперь действительно совершила преступление, уведя господскую лошадь.
Благополучно добравшись до лесистых холмов, она подъехала шагом по головокружительной скалистой тропинке, держась у отвесных гранитных стен, под которыми зияли темные пропасти с шумящими водопадами, – все выше и выше, пока мрачная карпатская пустыня не окружила ее со всех сторон.
Здесь только она с облегчением вздохнула. Куда она денется, она сама не знала; она знала только то, что отсюда ее не достанет ничья рука, что в эти места не дерзнет забраться ни один сыщик, что здесь она была в безопасности и на свободе.
Обогнув один выдающийся скалистый утес, Матрена вдруг увидела перед собой юношу в костюме воинственных горцев, лежавшего на обрыве, поросшем низким сосняком и мхом, держащего в руке длинное ружье. Оба, пораженные, смотрели друг на друга.
– Кто ты? – спросил юноша.
– А ты кто? – ответила вопросом же Матрена, придержав лошадь.
– Я Метуд Иевдаш, – ответил юный герой, – тот самый, чье имя всюду знают и перед которым трепещут. Сотня храбрых гайдамаков послушна моей воле.
– А я бедная девушка и пришла попросить твоей защиты и помощи, – хитро ответила Матрена и затем в коротких словах рассказала ему, что с ней приключилось.
– Останься у нас, – воскликнул Метуд, – мы будем почитать тебя, как королеву!
Матрена тотчас согласилась, – да и что же другое ей оставалось? Они протянули друг другу руки и затем отправились вместе в дальнейший путь.
Когда стемнело, они добрались до маленькой лесной поляны, на которой пылал огромный костер, а вокруг него лежало человек двадцать вооруженных с ног до головы людей. Один из них вскочил и пошел навстречу Метуду; это был его брат, Симфониан. Оба они стояли во главе шайки.
Они обменялись несколькими словами, затем оба подняли топоры. Предстояла, по-видимому, борьба на жизнь и смерть. Но Матрена подошла и стала между ними.
– Что вы хотите делать?! – воскликнула она. – Взбесились вы?
– Она моя! – пробормотал Метуд.
– Мне принадлежит эта красивая добыча, – заявил Симфониан.