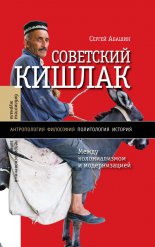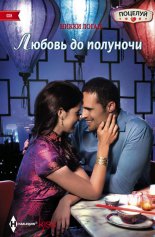Венера в мехах (сборник) Захер-Мазох Леопольд

– Не тебе и не ему, – спокойно сказала Матрена, – пока еще мое сердце свободно. Постарайтесь оба покорить его. С тем, кому это удастся, я и пойду к попу.
– Ладно, – в один голос сказали братья.
– А для того чтобы и впредь между вами споров не было, – продолжала красавица, стоявшая между молодыми гайдамаками с гордым и властным видом, – и так как это не годится, чтобы дела решали две головы и повелевали два голоса, то отныне вы все должны отдаться под мою власть. Согласны вы поклясться повиноваться мне?
– Почему же нет? – сказал, засмеявшись, Метуд. – Красивой женщине легче повиноваться, чем мужчине.
– Я согласен, чтобы ты была нашей королевой, – прибавил Симфониан.
Братья созвали остальных, быстро подошедших на зов карпатского рога, – и после непродолжительного совещания вся эта дикая орда присягнула красивой и хитрой девушке.
Спустя немного времени после побега Матрены управляющий сидел в одно прекрасное утро перед зеркалом с салфеткой вокруг шеи и с намыленным лицом и брился. Вдруг женский голос со двора окликнул его по имени. Думая, что это зовет его жена, он встал, подошел к окну и высунулся в него.
В то же самое мгновение, как он разглядел, что перед ним не Замби, а бежавшая Матрена, сидевшая в своих сафьяновых сапогах и вышитом полушубке верхом на лошади, как мужчина, Матрена успела закинуть ему на шею петлю по-казацки и вернулась галопом.
Управляющему ничего другого не оставалось – если только он не хотел быть задушенным, – как выскочить в окно – как был с салфеткой на шее – и скорой рысью побежать за лошадью Матрены.
Все это было делом одной минуты. Прежде чем управляющий успел опомниться, деревня уже осталась позади. На беду его никто в господском дворе не заметил его комического похищения. Первая услышала об этом его жена, которой крикнула с поля крестьянка:
– Вон едет верхом Матрена, а пан управляющий мчится за ней, как бесноватый!
Пани Замби, возвращавшаяся с прогулки, повернула лошадь. Сначала она подумала, что ее муж помешался, но пробежавший мимо крестьянский мальчишка закричал:
– Она тащит его, как теленка, на веревке!
Матрена тем временем исчезла со своим пленником в лесу. Когда пани Михайловская разослала своих людей в погоню, было уже поздно: смелая амазонка добралась уже до своего убежища на скале. Теперь только, пустив лошадь шагом, она оглянулась и, заметив, в каком виде бежал за ней управляющий, разразилась громким смехом.
– Матрена! – взмолился несчастный. – Что ты со мной делать хочешь? Ты хочешь убить меня? Пощади мою жизнь – ты получишь денег, много денег, сколько пожелаешь!
Бритву он все еще держал в руке. Матрена снова расхохоталась:
– Брось нож!
Он послушался и, когда они вскоре очутились в разбойничьем лагере, весь дрожа, упал перед Матреной на колени и снова стал молить ее о пощаде.
– Я тебя убивать не буду, – насмешливо сказала она, – но я накажу тебя так, как ты заслуживаешь, влюбленный негодяй. Не как с человеком я с тобою буду обращаться, а как с животным, каков ты и есть, – и даже еще хуже: как с неодушевленным предметом, которым я буду пользоваться, как мне вздумается.
– Накажи меня, я этого заслужил, – согласился Михайловский, – только оставь мне жизнь!
Тогда Матрена сняла с его шеи петлю.
– Одно только запомни, – сказал она, – если ты попытаешься бежать, я без всякой жалости велю повесить тебя на первой ветке.
И вот управляющий остался у разбойников. Каждый раз, когда они переходили с места на место в новый лагерь, Матрена нагружала его вещами и погоняла впереди себя, как вьючное животное. В этих случаях она называла его своим ослом и угощала его, как осла, ударами плетки.
Если же они останавливались, Михайловский должен был тотчас же опуститься на четвереньки и Матрена садилась на его спину, как на диван. Как только он ей понадобится, она только воскликнет: «Где моя скамья?» – и бедняга управляющий тотчас же устраивает из своего тела удобную скамью.
Покрытый медвежьей шкурой, он служил ей своего рода троном, когда она вершила правосудие, выслушивая жалобы крестьян, которые тогда довольно часто отправлялись в горы, чтобы попросить у гайдамаков защиты и поддержки против своих тиранов и мучителей, против дворян, против их управляющих, против корыстолюбивых священников и евреев.
И всегда, когда разбойники посещали какую-нибудь деревню неподалеку от Карпат, никто не осмеливался и думать о сопротивлении, – наоборот, делались всевозможные приготовления, чтобы оказать сердитым гостям наилучший прием.
Для них накрывались столы, подавались обильные блюда, водка лилась ручьями, играли евреи-музыканты, которым выпала на долю в Галиции роль цыган. Затевались танцы, буйные ребята вертелись с деревенскими красавицами, водили хороводы под грустные звуки оркестра, а Матрена, величественно растянувшись на своей живой скамье, созерцала веселые пляски и, время от времени похлопывая ногой беднягу управляющего, насмешливо спрашивала:
– А что, ты до сих пор в меня влюблен?
Однажды к гайдамакам пришел маленький краснощекий еврейский парнишка в перепачканном светло-зеленом кафтане и передал Матрене письмо от ясновельможной пани Замби Михайловской. Это было очень мило, но вот только никто не мог прочесть письма – ни гайдамаки, ни Матрена, ни светло-зеленый парнишка. Позвали пана управляющего.
– Моя жена просит тебя отпустить меня, – сказал он, пробежав письмо Замби, – и изъявляет готовность представить выкуп за меня в размере ста дукатов.
Матрена громко расхохоталась.
– Скажи вельможной пани, что она может получить его! – сказала она. – Столько, впрочем, этот бездельник и не стоит. Но только она должна сама за ним прийти.
На следующий же день пани Замби явилась в разбойничий лагерь, куда проводил ее зеленый еврейский парнишка, верхом на коне. Матрена приняла ее, растянувшись на своей живой скамье, на которой предварительно разостлали медвежью шкуру.
– Вот деньги, – сказала пани Михайловская, высыпав их в подол Матрены. – Где мой муж?
– Сейчас получишь его, – ответила Матрена. – Только надо тебе раньше узнать, за что я его наказала.
– Молчи ради бога! – донесся из глубины земли голос. Замби с изумлением оглянулась.
– Я была честная девушка, – продолжала Матрена, – я ничего не украла, ни гроша, ни ленточки. Этот лицемер, этот негодяй, который бегал за каждой юбкой, несправедливо обвинил меня.
– Да молчи же, ради бога! – послышался снова подземный голос.
– Да, твой муж пришел тогда днем, – начала снова Матрена, – подарил мне шелковый платок, и кораллы, и сережки и потом стал приставать ко мне со своей любовью, а когда я прогнала его и ты подошла в это время, он стал бранить меня воровкой.
– Господи Иисусе, Пресвятая Дева!.. – прозвучало из-под земли.
– Да кто это там все разговаривает? – спросила Замби.
– Это тот влюбленный, который служит мне теперь вьючным ослом и скамейкой, – ответила Матрена.
Она быстро поднялась, стащила медвежью шкуру, и пан Михайловский оказался на четвереньках перед своей женой.
– Вот так красиво, нечего сказать! – воскликнула пани. – Ну, погоди же, теперь я узнала тебя и буду с тобой обращаться так, как ты этого заслуживаешь!
– Замби, прошу тебя…
– Марш, ступай домой! – крикнула пани Михайловская, вскочив на свою лошадь. – Ах ты изменник! Ах ты старый донжуан! Ну, если ты так хорошо себя чувствуешь в этой роли, так будь же ты отныне и моим вьючным ослом!
Сконфуженный, поплелся управляющий вслед за ней и долго, долго доносились до него насмешки и веселый смех Матрены, и эхо глумилось над ним, повторяя раскаты смеха.
Власта
После семилетней войны и Германия и Австрия до того одичали и деморализовались, что понадобились самые энергичные мероприятия правительств, чтобы мало-помалу привести в норму жизнь обеих стран. Особенно это сказалось в Богемии и в соседней с нею Баварии, обильных густыми, часто непроходимыми лесами, сделавшимися убежищем мародеров, цыган, воров и разбойников. Благодаря им не оставалось ни одной улицы безопасной, а в тех местах, где было мало войска, совершались даже нападения и громились дворянские поместья.
Несмотря на это, в первый же карнавал после ужасных годов войны все набросились на развлечения так стремительно и страстно, как будто старались наверстать пропущенные праздники и потерянное время, как будто боялись, что после недолгого упоения снова начнется кровавая пляска солдатских постоев, контрибуций, пожаров и разгромов.
И вот на бал-маскарад, устроенный графом Гудецом в своем замке в Пильзене 21 января 1764 года, собралось все окрестное дворянство, съезжавшееся в собственных закрытых санях-каретах на полозьях и в сопровождении вооруженных слуг.
В числе множества знатных дам, красавиц, заставлявших усиленно биться в эту бальную ночь мужские сердца, была и молодая вдова, баронесса Бубна. С самого начала она была признана самой блестящей красавицей, способной оставить в тени всех соперниц, но это положение царицы бала она сохраняла недолго: в полночь, когда все замаскированные молодые дамы должны были снять маски, скипетр и корона были единодушно присуждены фрейлейн Власте фон Миловец.
Четыре барышни-родственницы явились в костюмах карточных королев, из них Власта была дамой червей; она-то и покорила разом все сердца.
Прежде всех объявил себя рыцарем Власты сын хозяина дома, молодой граф Фердинанд Гудец, состоявший до сих пор рыцарем красивой вдовы. Он усердно оказывал ей тысячи маленьких услуг, чтобы заслужить ее благоволение, танцевал только с ней одной, а по окончании бала усаживая фрау фон Миловец и ее дочь в сани, граф Фердинанд испросил себе разрешение явиться к ним на днях с визитом.
Баронесса Бубна уехала с бала, глубоко уязвленная в свое тщеславное сердце, потому что до сих пор она привыкла видеть у своих ног всех мужчин, а молодого графа Гудеца она особенно охотно привязала бы к своей триумфальной колеснице – так нравилась ей его наружность и такое удовольствие доставляла его живая, остроумная беседа.
Через два дня граф Фердинанд Гудец явился к Миловец засвидетельствовать свое почтение и был принят как нельзя лучше. Хозяйка дома вскоре нашла желанный предлог оставить молодых людей одних, а так как умная и энергичная Власта не была кокеткой, то они встретились скоро с графом, страстно влюбленным в нее, на полдороге.
Граф Фердинанд пел под аккомпанемент гитары итальянский романс, не спуская все время горячего, полного мольбы взгляда своих темных глаз с Власты, и, когда она, покраснев, опустила глаза под его взглядом, он опустился перед ней на колени и поклялся ей в вечной любви и верности.
Прекрасный союз сердец был заключен, а через несколько дней был освящен согласием родителей.
Везде только и было разговоров, что о помолвке молодого графа с красавицей Властой.
Мужчины завидовали ему, молодые дамы преследовали невесту ревностью и язвительными словами; одна баронесса Бубна молчала. Она не говорила ничего, но тем более твердо решила действовать.
Граф Фердинанд Гудец вел до сих пор легкомысленный образ жизни и делал без ведома своего отца значительные долги. Одному только пильзенскому ростовщику, Маркусу Розенталю, он должен был ровно пять тысяч гульденов. К этому-то Розенталю явилась в один прекрасный день баронесса и откупила у него вексель графа.
Фердинанд немало испугался, когда узнал, что состоит теперь должником красавицы вдовы, потому что он тотчас же сообразил, для чего это было сделано, и не ждал ничего хорошего.
Он попытался обратиться с просьбой к баронессе, но это было бесполезно: она ответила на его просьбу одним громким, насмешливым хохотом; а так как его отец отказался от уплаты и залог вещей не дал ему нужной суммы, что баронесса и предвидела, то она добилась по суду ареста молодого графа за долг.
До сих пор все было правильно рассчитано, но, когда пришлось арестовать молодого графа и отвести его в долговую тюрьму, не нашлось ни одного чиновника, у которого хватило бы духу на это, и баронессе было предоставлено самой привести приговор в исполнение.
Но она была не такая женщина, чтобы струсить перед этой рискованной задачей.
Однажды вечером, когда Фердинанд фон Гудец возвращался в Пильзен от Власты, по дороге в лесу на него напали вооруженные замаскированные всадники. Произошло это так неожиданно и так быстро, что граф не успел еще даже вытащить свой пистолет, как оказался уже схваченным и обезоруженным. Двое слуг его бежали, а его самого связали и сунули в рот платок.
Потом на него накинули мешок, положили в закрытую карету и увезли быстрой рысью.
Карета остановилась, графа вытащили из нее и понесли вверх по лестнице. Там с него сняли мешок, вынули платок, и Фердинанд увидел перед собой красавицу вдову, сидевшую на софе против него и смотревшую на него со снисходительным презрением.
– Что все это значит, баронесса? – спросил он, изумленный.
– Что вы – мой пленник, граф! – ответила красавица. – И останетесь моим пленником до тех пор, пока не заплатите мне вот эту безделицу.
Она показала ему вексель.
– В таком случае я, значит, не скоро получу свободу, – ответил он со вздохом.
– Очень возможно! – обронила она, кокетливо откидываясь на подушки софы и поигрывая своими темными, слегка вьющимися волосами.
Она была не причесана и не напудрена и была вдвое прелестнее в своем розовом шелковом капоте с белыми кружевами.
– Вам предоставляется, однако, свободный выбор: вы можете отправиться в долговую тюрьму, если желаете, или же остаться у меня в замке, моим пленником. Выбирайте!
– Выбор не труден.
– Обещайте же мне честным словом, что не выйдете из моего дома без моего позволения, – с меня этого довольно.
– Вот вам рука моя.
– Отлично, – сказала баронесса, – больше мне ничего не нужно. Если только вы пробудете здесь у меня некоторое время, то вы будете не только пленником моим, а останетесь моим рабом навеки.
– Как я должен это понять?
– Это значит, что я накажу вас тем, что заставлю вас безумно влюбиться в меня.
– Для чего же вам это нужно?
– Чтобы отомстить вам за вашу неверность… ведь вы прежде мне поклонялись. И еще… для того, чтобы доказать моей сопернице, что мои чары еще могущественнее, чем ее. А пока – пойдемте отужинаем вместе.
Две недели во власти красивой, очаровательной женщины – и задуманное дело увенчалось успехом. Граф Гудец забыл о Власте и лежал побежденный – больше, бесповоротно покоренный – у ног баронессы Бубны, игравшей им, как та девушка майским жучком, которого держала на ниточке.
Месть, которую она замыслила, удалась ей вполне. Однажды вечером, когда граф молил ее о благосклонности, стоя на коленях, баронесса сама продиктовала ему письмо к Власте, в котором он, возвращая ей слово, говорил о себе, что сделался рабом красавицы вдовы.
Когда письмо было отослало в Миловец с верховым, баронесса позвала графа Фердинанда к себе в будуар.
– Что прикажете?
– Я хотела только сообщить вам, что вы свободны, совершенно свободны.
– Как прикажете понять это? – спросил граф Гудец, озадаченный, потому что заметил змеившуюся на полных губах баронессы улыбку – такую злую, что у него сердце сжалось.
– Вы не воображаете, надеюсь, – холодно ответила она, – что я в самом деле хочу всю жизнь держать вас на цепи? Это была только шутка. Теперь вы наказаны, Власте я отомстила – цель моя достигнута. Теперь вы можете уходить, мой влюбленный селадон.
– Баронесса! – воскликнул Гудец, бросившись к ногам жестокой красавицы. – Сжальтесь надо мной… я люблю вас… я умру, если вы меня отвергнете!
Прекрасная вдова громко расхохоталась и со смехом указала ему на дверь.
Когда он уезжал верхом, она стояла на балконе, продолжая хохотать, а он опустил голову, пристыженный, уничтоженный…
Когда Власта фон Миловец получила письмо графа с отказом, она заперлась в своей комнате и проплакала всю ночь. К утру она совершенно овладела собой. В ответ на слова утешения матери она сказала:
– Я уже справилась с этим, но я не успокоюсь до тех пор, пока не будут наказаны граф и эта Бубна.
– Что же ты хочешь делать, дитя мое?
– Предоставь это мне. Это мое дело.
Час спустя из замка выехал Конрад, старый слуга, необычайно преданный фрейлейн Власте, и с того времени в течение целой недели в замок тайком приходили и украдкой выходили из замка ребята самого подозрительного вида. А затем, в одну бурную февральскую ночь, Власта вдруг исчезла и вместе с ней исчезли из дома несколько верных, испытанных слуг.
В одном уединенном лесном кабачке они встретились с компанией – человек в тридцать – отпетых ребят, частью беглых солдат, частью бродяг, которых набрал и вооружил Конрад.
Когда они еще раз поклялись Власте в верности и повиновении, она приняла начальствование над этой кучкой буйных, решительных молодцов, готовых ни перед чем не останавливаться. В ярко-красной, как кровь, гусарской куртке, в треугольной шляпе на белокурых волосах, украшенной вместо пряжки червонной дамой, с саблей на боку, она ехала верхом во главе отлично вооруженной шайки, командуя каждым ее шагом.
Через несколько дней беспримерное волнение и паника охватили все население вокруг, от Пильзена до самого Богемского леса. Только и толков было, что о страшной разбойничьей шайке, во главе которой стоит девушка, которая совершила уже целый ряд поджогов и погромов в имениях и барских усадьбах.
Но лихорадочный испуг, охвативший население, вскоре улегся, когда обнаружилось, что все нападения и набеги совершались только на владения графа Гудеца и баронессы Бубны. Их владения опустошались, но больше никого не трогали и на волос; даже когда разбойники располагались где-нибудь на отдых и для пополнения новых запасов провианта, они за все платили аккуратно и щедро.
И баронесса, и граф Гудец поняли тогда, что тут совершается страшное дело мести, а так как им было известно, что Власта исчезла из родительского дома, то у них не оставалось сомнения в том, что во главе шайки, разгромившей и расхитившей их имущество, стоит именно эта гордая, энергичная девушка.
В страхе за свою жизнь оба решились скрыться. Граф Гудец бежал к своему дяде в отдаленное поместье, а баронесса нашла себе убежище в Браникском монастыре.
Но Власте вскоре удалось открыть, куда оба спрятались.
В одно воскресенье, когда и господа, и люди были в церкви, а граф Фердинанд остался один в своих комнатах, смелая амазонка ворвалась в сопровождении нескольких своих людей во двор замка, помчалась вихрем по лестнице, овладела охваченным ужасом графом, велела взвалить его, связанного, на лошадь и увезла его в отстоявший недалеко от имения лес, убедившись предварительно в том, что уединенная лесная сторожка в ее распоряжении.
Короткое время спустя другая кучка, предводительствуемая Конрадом, привезла сюда же баронессу Бубну, связанную, с засунутым в рот платком и полумертвую от страха.
Через несколько минут к Власте вывели обоих пленников, украшенных охотничьими трофеями и оружием, и она приняла их на «чистой» половине сторожки. Под ее ядовито-насмешливым взглядом оба пленника повалились ей в ноги и, дрожа от смертельного страха, умоляли ее пощадить их.
– Что?! Мне вас пощадить?! Несчастные! – воскликнула она. – Не будет у меня сострадания к вам! Ваше наказание будет так же жестоко, как было ваше поведение со мной. Убить вас? Нет, этого я не собираюсь сделать. Я знаю лучшую кару для вас. Я вас повенчаю – это вам будет искупительной мукой на всю жизнь.
Граф и баронесса вздохнули с облегчением и, повинуясь повелительному знаку Власты, поднялись с пола. В ту же минуту вошел нищенствующий монах, соединивший обоих пленников вечными узами.
После этого Власта отпустила их с иронической улыбкой.
Затем Власта распустила своих людей, щедро одарив их предварительно, и в сопровождении старого Конрада покинула родину.
Через год Власта вышла замуж в Венеции за богатого и видного дворянина и жила с ним счастливо.
Граф Гудец и его супруга впоследствии только поняли, как дьявольски зло отомстила им Власта.
Лунная ночь
Стояла прекрасная летняя ночь. С ружьем на плече спустился я с гор, а усталый большой английский водолаз, высунув язык, шаг за шагом следовал за мной. Мы сбились с дороги. Не раз останавливался я, оглядывался во все стороны и старался припомнить нужное направление. При этом собака моя каждый раз ложилась и вопросительно глядела на меня.
Пред нами расстилалась приятная волнистая окрестность, местами покрытая лесом. Над черно-синими деревьями виднелась полная красная луна и ярко освещала темное небо. Величественно и спокойно текли звезды с востока на запад, на северном горизонте сияла Большая Медведица. Между соседними ивами поднималось прозрачное испарение, дрожавшее в бледно-зеленом свете. Болотный дрозд стонал в тростнике между ивами.
По мере того как мы удалялись от гор, луна щедрее освещала ландшафт. Темные древесные стены медленно отошли назад, и глазам представилась равнина, настоящее зеленое мерцающее море, на котором, словно корабль с натянутыми парусами, плавал господский дом со своими темными тополями. Время от времени мягкая струя воздуха проносилась по колосьям и листве и доносила до нас какие-то чудные звуки, которые перешли в грустную, прекрасную мелодию, когда я подошел к дому. То были звуки хорошего фортепиано: искусные руки играли Лунную сонату Бетховена.
Мне представилось, что я слышу слезы раненой человеческой души в звучных, послушных клавишах; вдруг последовал страшный диссонанс – и затем все замолкло. Я был в нескольких шагах от господского дома; темные тополя печально шумели; на дворе собака грустно шевелила своей цепью; вдали слышался однообразный, плачевный шум воды.
На крыльце господского дома показалась женщина; она оперлась руками на перила и задумалась. Стан ее был высок и строен, а бледное лицо издавало фосфорический блеск при лунном свете; роскошные темные волосы, завернутые в большой узел, петлями спускались на ее плечи. Едва услышала она мои шаги, как выпрямилась и уставила на меня свои большие, темные и влажные глаза. Я рассказал ей свое приключение и просил о ночлеге.
– Все, что мы имеем, к вашим услугам. – сказала она глубоким и мягким голосом, – мы так редко имеем удовольствие принять у себя гостя. Взойдите, прошу вас.
Я взошел по гнилым деревянным ступеням, пожал маленькую дрожащую руку хозяйки и вступил в дом через отворенную дверь.
Мы очутились в большой четырехугольной комнате, стены которой были выбелены известкой, а все убранство состояло в старом ломберном столе и пяти деревянных стульях. У стола не хватало ножки, которую заменял один из подозрительных стульев, и благодаря наложенным на него кирпичам он соответствовал своему новому назначению. За столом четверо мужчин играли в тарок. Хозяин, увидя меня, встал со своего места и, крепко держа трубку зубами, подал мне руку. Это был светловолосый, невысокого роста мужчина, с тупыми, твердыми чертами лица, глубокими голубыми глазами, плотно подстриженной головой и короткими, жесткими усами. Пока я повторял ему свое приключение и свою просьбу, он разложил свои карты, одобрительно кивнул мне головой, потом снова сел на свое место и более не обращал на меня внимания.
Хозяйка подкатила мне кресло из соседней комнаты и затем вышла отдать нужные приказания, почему я имел возможность внимательно рассмотреть незнакомое мне общество.
Ближе всех ко мне сидел приходский священник из соседнего села, атлет по сложению и мускульной силе, с бычьим затылком и застенчивым пьяным лицом, на котором водка наложила множество разнообразных красных оттенков. Он постоянно улыбался с каким-то необъяснимым состраданием; по временам он открывал высокую продолговатую табакерку, набивал табаком свой плоский, вздернутый нос, затем вытаскивал из-за пазухи синий платок с фантастическими узорами и вытирал себе рот. Рядом с ним сидел рыхлый арендатор в черной венгерке, который неутомимо сопел носом и курил самые крепкие, черные сигары. Третий был гусар с жидкими волосами и жесткими черными усами. Он квартировал в доме и, по-видимому, любил комфорт. Китель его был расстегнут, а галстука и вовсе не было на шее; во время игры лицо его не шевелилось; только когда проигрывал, он начинал пускать страшные клубы дыма и стучал правой рукой по столу.
Мне предложили принять участие в игре, но я отговорился усталостью. Вскоре нам подали вино и холодную закуску.
Хозяйка возвратилась, села на небольшое коричневое кресло, поданное ей казачком, и закурила папиросу. Она коснулась устами до моей рюмки к с приветливой улыбкой подала ее мне. Мы поговорили с ней о сонате, которую она играла с таким смыслом, о последней книге Тургенева, о труппе русских актеров, давшей несколько представлений в Коломее, о жатве, о земских выборах, о наших крестьянах, начинающих пить кофе, и о том, как умножилось количество плугов с уничтожением крепостного права. Она смеялась и раскидывалась на своем кресле. Луна прямо светила ей в лицо.
Вдруг она как-то неожиданно замолкла, закрыла глаза, через несколько минут пожаловалась на головную боль и удалилась. Я свистнул собаку и сам отправился на покой.
Казачок пошел проводить меня в отведенную мне комнату. На дворе он остановился и с неуклюжей улыбкой взглянул на луну.
– Какую власть она имеет над людьми и скотиной, – сказал он, обращаясь ко мне, – вот увидите, дворовая собака нынче будет выть всю ночь напролет, а кот мяукать и бегать по крыше; когда же она светит в лицо нашей кухарке, то та во сне начинает говорить и предсказывать. Ей-богу так.
Комната моя выходила в сад, и небольшая терраса доходила до моего окна. Я отворил его и облокотился на подоконник.
Полная луна с величественной высоты проливала свой торжественный свет на весь ландшафт; она плавала надо мною ясная и безоблачная. На темно-голубом небе не видно было ни тучи, ни таинственного и прозрачного покрывала легких испарений. Местами звезды мерцали, как потухающие искры. Бесконечно, мечтательно, молчаливо расстилалась родная равнина к востоку. Белая кукуруза перевешивалась через забор, а за садом лежало необозримое поле, похожее на огромную шахматную доску, на которой белая рожь сменялась коричневой гречихой и темным пастбищем. Местами стояли крестцы, как небольшие крестьянские хижины. На горизонте виднелся костер, который спокойно горел, и серебристый дым его медленно возносился кверху; вокруг него появлялись и исчезали неясные тени, а ближе ко мне время от времени слышался слабый звук бубенчиков и изредка показывались лошади, пущенные на ночное пастбище. А там, где ясно раздавался звук косы, посреди влажного тумана возвышались громадные скирды и расстилался луг в мерцающем полусвете; далее были разбросаны тощие черные колодцы и темные кротовины, словно отдаленные крепости. Быстрая и блестящая горная речка, окаймленная болотами, как осколками разбитого стекла, живописно прорезывала местность.
Неслышно, на бархатных лапках, пробиралась белая кошка в саду и блестела, как снег, на темной мураве; трава волновалась и иногда издавала доверчивые, жаждущие вздохи, напоминавшие не то воркующего голубя, не то плач упрямого, полусонного ребенка. Кошка прыгнула через забор и вскоре вынырнула у самой плотины, которая тянулась от господской усадьбы до деревни наподобие разрушенного татарского вала. Она беззвучно вскочила на нее и как будто тихо жаловалсь на судьбу, сидя у пруда и глядя на свое отражение в его бледном серебряном зеркале. Широколистые кувшинчики натянули на него свою зеленую сетку, похожую на кружево, а местами из-под нее выглядывали белые и желтые водяные лилии и казались ярким пламенем в синем свете луны. Вдруг эта влюбленная сомнамбулистка вытянула свои мягкие члены и тихо направилась мимо высокого белеющего тростника и пестрых лилий, мимо челнока, стонавшего на цепи, и заснувшего лебедя в глубокий туманный лес, который в лунном свете стоял, словно гладкая, полированная стена.
Кругом, во влажных кустах, окаймлявших пруд и реку, пели соловьи, а один из них, гораздо ближе ко мне, так жалобно заливался, что так и раздирал мне душу. Тяжелые фруктовые деревья своими густыми листьями отчасти поглощали яркий лунный свет, но при всем том каждая отдельная травка так и светилась и каждый цветок так и горел магическим пламенем. Всякий раз, как легкий ветерок проносился по саду, серебристая ртуть пробегала по газону, песчаным дорожкам и малиновым кустам, а красный мак пылал под моим окном. На зеленых грядах дыни лежали, как золотые ядра; бузина, усеянная светящимися червями, горела, как моисеева купина, а когда из нее вылетали светящиеся жуки, то казалось, что она мечет искры. Беседка из жимолости, внутри освещенная луною, походила на одну из тех часовен, в которых теплится неугасимая лампада. То веяло охмеляющим ароматом сирени, то доносился до меня живительный запах свежего сена.
Вся природа тихо мерцала в целомудренном свете прекрасной лунной ночи и как будто домогалась выражения. Вода напевала свою однообразную песнь; по временам слышался шелест листвы, соловьи стонали, кузнечики чирикали, кое-где трещали лягушки, в окно прилежно стучал древоточец, а над моей головой щебетали ласточки в гнезде. И вдруг лунная ночь зазвучала; свет, благоухание и мелодия слились воедино: хозяйка заиграла Лунную сонату. Чудная тишина воцарилась в душе моей; я долго слушал, и, когда звуки замолкли, мне почудилось, что все замолкло и в природе; один древоточец неутомимо стучал.
Строгая неподвижность, глубокая тишина в далеком ландшафте, – но вот подул прохладный ветерок и донес до меня звуки унылой малороссийской песни.
Пели жнецы, которые пользовались свежей ясной ночью и прилежно работали. При лунном свете я хорошо мог разглядеть, как они ползали, словно муравьи, посреди желтого поля.
Все отдыхает, исключая человека; он один бодрствует и трудится в поте лица своего из-за своего грустного и смешного бытия, которое он в одно и то же время так любит и так презирает.
С каким слепым упорством, с ранней зари до поздней ночи, заботится он об этом существовании! Сердце его судорожно сжимается, бедная голова лихорадочно бьется, как скоро малейшая опасность угрожает его жизни или представится ему, что у него отнимают его наслаждение или то, что в его глазах придает такую цену его жизни; и во сне мозг его продолжает работать для завтрашнего, послезавтрашнего дня и далее, и во сне смущает его та же забота о жизни. Непрестанно тревожится он, как бы обеспечить, укрепить свое бытие, а между тем он строит не для себя, а для вечности, – поднимает ли он плугом рыхлую землю, которая прикрывает собой вечно пылающий очаг его жизни, плавает ли по необозримому морю на ненадежном корабле, наблюдает ли течение звезд на небе или искусно и с детским прилежанием записывает прошедшие деяния человечества. Он учится, думает, набрасывает планы и изобретает только для того, чтобы задержать роковой ход своей грустной машины, и, из-за куска хлеба, ежеминутно готов пожертвовать своими заветными мечтами. Он хочет жить во что бы то ни стало и гонится изо всех сил за пищей для жалкой лампадки, которая того и гляди сейчас навсегда погаснет.
Отсюда истекает и его стремление продолжить свою жизнь в новых созданиях, которым он завещает свои радости и которые между тем наследуют от него одни лишения, борьбу и страдания. Как он любит своих наследников, как заботливо бережет и растит он их! Ему кажется, что его дорогое я утроилось, удесятерилось в его потомстве.
Насколько он находчив, когда заботится о продолжении своего бытия и по-своему насаждает его, настолько он безжалостен к бытию других. Неутомимо обманывает, грабит и убивает он все, что попадается на его пути. Он сам создает обширные и бессмысленные теории для того, чтоб подчинить своему эгоизму целые поколения своих беззащитных братьев. Не задумываясь, отринул он от себя животных, обесчестил людей, отличающихся от него другою кожей, другим языком, – и все это только для того, чтоб жить на счет живущих.
Эта вечная кровавая война ведется то неслышно между двумя очагами, двумя дымовыми трубами, то явно и шумно на полях брани и на океане, и всегда под святым и ложным знаменем, – и не знает она ни милосердия, ни конца.
И все-таки ты кажешься так горько, святое отречение, хотя твой верный мир есть единственное счастье, которое нам суждено на земле, – мир, тишина, сон и смерть. Отчего же мы так боимся смерти, разрешающей все наши сомнения и утоляющей все наши печали? Отчего так жалобно трепещет лампадка в нашей груди, как скоро она почует ледяное дуновение уничтожения? Как мы цепляемся за наши воспоминания и почему мы только и жаждем одного: жить в самих себе? Не помнить о себе, не задумывать вперед, ни о чем не мечтать! Эта мысль наводит ужас на бедную душу; она приводит нас в отчаяние, и тогда в бессонные ночи мы делаемся жертвой неизлечимого страха.
Неизлечимого? – Нет, этот страх излечим, если человек прибегнет к мышлению. Истекающий отсюда свет может поддержать его, свет этот холоден, но ясен; он один может осветить его безотрадные ночи и мало-помалу проникнет в его душу, рассеет страшные тени, наводящие на нее страх, и водворит в ней смирение, покорность и спокойствие.
Пока спокойный, мягкий блеск лунной ночи проникал в мою душу, в воображении моем, как большие белые облака, проносились идеалы прошедшего, словно изгнанные божества, теснились дорогие мне лица, существа, которых разлучили со мной ненависть, охлаждение, а иных давно прикрыла земля. Я вспомнил мечты отважной золотой молодости, того, кто на Синайской горе взывал к своему народу, посреди молнии и облаков, и того, кто превзошел его и в терновом венце нес крест человечества на своей окровавленной спине. Отделившиеся клочки тумана носились в лунном свете, подобно старым, давно изорванным знаменам, завядшим цветам и засохшим венкам. И вот глядит на меня своими чистосердечными, искренними глазами дорогая мне женщина с роскошными светлыми косами и милым девичьим лицом, а за ней другие сновидения и новые святые мысли воскресают в моей памяти. Лунный свет горит, как пламя жертвенной свечи; благоухание лунной ночи, как фимиам, возносится к небу, в лесном шуме слышатся глубокие, торжественные звуки органа…
Я отворачиваюсь от всех этих мерцающих сновидений и обманчивых идеалов бессмысленной, бешеной молодости.
Действительность сурова, но честна. Чистая ложь, что природа не хочет знать тебя. Посреди постоянных перемен она остается неизменной, и, как целые тысячелетия тому назад, так и ныне, ты видишь все то же холодное, мрачное, но материнское лицо ее. Но ты сам отступился от нее и стал равнодушно относиться к ней, ты сам начал презирать ее детей, твоих же меньших братьев, сам захотел возвыситься над нею и сам висишь теперь, как польский Фауст[3], между небом и землею. И все-таки она кормит своей грудью не любящего ее сына и всегда готова отверсть ему свои объятия. Строгие законы ее начертаны на медных скрижалях, и если он хочет поучиться у нее, то всегда и везде может прочесть их.
Снова стала доноситься до меня песня прилежных жнецов; трава заколыхалась, лес величественно зашумел; воздух стал свежее.
Я медленно разделся, осмотрел свое ружье, поставил его у изголовья и бросился на монастырское ложе, стоявшее у голой стены. Собака моя по-всегдашнему вытянулась возле моей кровати, еще раз взглянула на меня своими чистосердечными, разумными глазами и затем опустила голову на передние лапы. Все тише и тише становилось ее дыхание, потом послышались вздохи – видно, нерадостное снилось ей. Окно осталось открытым.
А мне все еще грезилось, сначала наяву, а вскоре и во сне. Я устал и впал в то благодетельное забытье, которое есть приветливое предвестие смерти.
Не знаю, долго ли я спал, но странный шорох разбудил меня; я открыл глаза и еще явственнее услыхал его. Собака зашевелилась, приподняла свою прекрасную голову, вдохнула в себя струю воздуха и отрывисто, охрипло залаяла, как будто на дичь. Я опомнился и машинально протянул руку к ружью.
Совершенное спокойствие господствовало в природе; едва слышалось ее печальное дыхание; но вот опять тот же странный, неприятный шорох, как бы шаги восставшего мертвеца или шум платья, которое тащится по земле.
И вдруг высокая белая фигура показалась в открытом окне; там стояла женщина с роскошными формами, едва прикрытыми легкой, волнующейся тканью; лицо ее смотрело в сад, но в холодном свете луны она вся казалась прозрачною. На протянутой руке виднелся красноватый оттенок.
Собака встрепенулась, она, видимо, испугалась, прижалась к кровати и завизжала. Я схватил ружье и хотел выстрелить. И теперь не понимаю, отчего мне мелькнула такая мысль, верно, инстинктивно. Неприятная дрожь пробежала по всему телу.
Курок щелкнул.
В эту минуту белое видение обратилось лицом ко мне, и я узнал хозяйку дома. Она была бледнее, чем вчера: распущенные черные волосы спадали на ее ночное одеяние; она светилась, как месячный круг, и только теперь увидел я, что глаза ее были плотно сомкнуты. Сильный ужас овладел мною. С сомкнутыми глазами осмотрела она комнату, взглянула на меня и как будто пришла в недоумение.
Я хотел встать, но она остановила меня знаком, приложила палец к губам, еще раз оглянулась в сад, потом спустилась в комнату и, не глядя на меня, неслышно, но твердым шагом прошлась по ней с печально поникшей головой. После того она опустилась на колени и, прислонив голову к твердому деревянному задку кровати, тихо заплакала у моих ног.
Женские слезы никогда особенно не трогали меня, но она как-то особенно горько плакала, как будто из груди, словно животное, лишенное способности высказаться, так что я был поражен ее слезами и с участием нагнулся к ней.
– Он умер, я это знаю, – тихо начала она голосом, который так и пронизывал душу, – они похоронили его за церковной оградой как самоубийцу, и мне так хотелось бы сходить к нему. – Она приподняла голову, опустила ее на свою руку и глубоко вздохнула. – Кладбище так далеко, далеко, – повторила она сухим, сдавленным тоном. – Я никогда не дойду туда. Но все равно, я сюда пришла к нему же.
При этих словах она встала и ощупью обошла возле пустых стен, как будто боясь, что ноги изменят ей. Вдруг она повернулась ко мне, долго и внимательно рассматривала меня и покачала головой.
– Его нет, – коротко и твердо проговорила она, – он умер.
Тут все тело ее задрожало и зубы застучали. Вдруг с глухим стоном бросилась она на пол, лицом к земле, и громко зарыдала, запустив руки в свои чудные волосы. Постепенно рыдания ее утихли, наконец она замолкла и перестала шевелиться.
Я уже решился приподнять ее, но в эту минуту она встала сама. Замечательная кротость выразилась на ее лице, и удивительная улыбка освещала его изнутри. Вставая, она как будто торжественно возносилась в воздух, и казалось, что ноги ее не касались пола. Неслышно поплыла она по комнате, потом остановилась, тихая, спокойная, лицом к луне, лучи которой обдавали ее светом, и неожиданно заговорила со мной.
– Что подумает Леопольд об Ольге? – с грустною кротостью сказала она.
Она говорила как о себе, так и обо мне в третьем лице и обоих называла по имени. Сердце мое замолкло, и я молча глядел на нее. Мне стало ясно, что я вижу перед собой женщину-лунатика, или, как выражаются наши крестьяне, больную луной. Машинально я все еще держал в руке свое ружье. Она подошла ко мне и протянула руку, чтоб взять его у меня. В испуге я отбросился назад. Почти шутливая улыбка скользнула по ее устам.
– Леопольд может быть спокоен, – сказала она, – он может отдать свое ружье Ольге, ведь она видит лучше его.
Но когда я не решился подать ей ружье, а отвел его к стене, она сдвинула брови и с сердцем вырвала его у меня, как человек, который сердится за недостаток доверия к нему и хочет доказать, что ошибаются на его счет. С эластичным движением отошла она от меня и взяла ружье так, как его держат охотники.
– Ну, в чем же тут опасность? – сказала она и, осторожно спустив курок, поставила ружье в угол.
Я свободно вздохнул.
– Леопольд не смеет подумать что-либо дурное об Ольге, я даже прошу его о том, – вскричала она, и слезы уже выступили под ее ресницами; она опустилась на колени и протянула ко мне свои руки. – Он никому не смеет пересказать то, что услышит, – тихо и таинственно продолжала она, – даже самой Ольге, иначе она лишит себя жизни от стыда.
– Никому не скажу, – ответил я. Голос мой дрожал.
– Никому, – торжественно повторила она.
Глубоко взволнованный, я нагнулся к ней и хотел приподнять ее. Она покачала своей прекрасной головой и медленно склонила ее на грудь.
– Теперь он должен все узнать, все, – тихо проговорила она.
– Нет, – вскричал я, – не рассказывай ничего, если это может огорчить тебя. Мне не надо твоей тайны.
– Он ошибся бы тогда в Ольге, он и теперь сомневается в ней, – печально возразила она. – Она непременно должна рассказать ему все. Ольга не легкомысленная женщина, нет, она только страшно несчастлива. Но он прежде поклянется ей, что будет молчать. Поклянется ли он? – Она спрашивала, не глядя на меня.
– Да, – отвечал я.
Вдруг моя собака подползла к ней, обнюхала ее, охрипло залаяла и оскалила зубы. Ольга нагнулась к ней, чтоб поласкать ее, но собака задрожала и боязливо спряталась под кровать.
– Я должна, должна все рассказать ему, – вздыхая, проговорила она, – иначе это не может кончиться хорошо. Я не хочу, чтоб Леопольд дурно думал об Ольге, ведь она такая жалкая.
Она доползла до меня на коленях, оперла голову на столбик кровати и с рабским смирением сложила руки на груди.
– Я знаю, что он поймет Ольгу, и оттого мне и хочется все рассказать ему.
Я чувствовал легкую дрожь.
– Он может быть спокоен, – доверчиво прошептала она, – не будет речи о преступлении. Ольга добровольно никому не нанесла вреда. История ее просто грустная, и более ничего. Леопольд не смеет плакать.
Я прислонился к стене и глядел на нее, глаза мои горели, в горле пересохло.
– Я охотно буду рассказывать ему. Он знает натуру женщин…
Я невольно кивнул ей.
– Ольга не знает за собой другого греха, кроме того, что она женщина и воспитана так, как воспитывают женщин, для наслаждения, а не для труда… Женщина совершенно особенное существо, – продолжала она, слова так и текли из ее уст, – она не оторвалась от природы и настолько лучше, насколько и хуже мужчины. Я говорю – лучше и хуже, как это понимают люди.
Она улыбнулась.
– По своей природе, каждый думает о себе одном, и таким образом, и женщина в любви прежде всего помышляет о своей пользе и о своем тщеславии. Надо же ей жить, а она может жить без труда, служа средством наслаждения для мужчины, и в этом заключается вся ее сила и все ее несчастье. Не правда ли? Любовь есть роскошь, которую женщина может доставить мужчине, для нее же это насущный хлеб. Но тот, кто вначале влачит жалкую жизнь, со временем требует от нее большего. В нем пробуждается желание как можно больше возвысить над другими это составное я, которым он так гордится. Как у мужчины, так и у женщины тщеславие одинаково, но женщине стоит только показаться, как уже рабы и поклонники у ног ее. Ей только нужно быть прекрасной, и тогда ей незачем учиться, незачем трудиться. И однако, настает пора, когда она ясно постигает, что такое мужчина и что значит любовь мужчины, и тогда, в свою очередь, ею овладевает необъяснимая жажда любить и быть любимой – тогда, когда это уже невозможно. Таким образом, судьба ее обрушивается над нею. Это несчастие без нужды, без возвышения, без спасения! Ольга была бы хорошей женой, у нее светлая голова и честное сердце, но… Надо воспитывать женщину так, как мужчину, тогда она будет подругой мужа. Леопольд сомневается?
– Нам нехорошо удаляться от природы, – ответил я, высказывая то, что у меня было на душе. – Женщина должна научиться быть хорошей матерью. Все остальное мечта, обман или…
– С течением времени мужчина изменился, – кротко заговорила она, – он далеко ушел от животного, и нынешний мужчина, который размышляет, обдумывает и изобретает, занимается искусствами и науками, требует другой жены, чем тот, который несколько тысячелетий тому назад собирал жатву, не сеявши, и душил зверей и птиц, как волк. Но я хочу рассказать ему свою историю. Я все расскажу ему, расскажу, как все это случилось. Я так ясно вижу перед собой прошедшее; все обстоятельства стали совершенно прозрачны, и я свободно читаю в сердце каждого человека; вижу и Ольгу, точно постороннюю, и не чувствую к ней ни любви, ни ненависти.
Она грустно улыбнулась.
– Я вижу ее ребенком. Она была красивая маленькая девочка с круглыми загоревшими ручками, темными кудрями и вопрошающими глазами. Старый дворник Иван, от которого всегда несло вином и у которого постоянно были красные глаза, как бы от слез, никогда не проходил мимо нее, не вязв ее на руки и не потрепав ласково ее щеки.
Однажды она стояла на балконе, а в гостиной возле матери сидел молодой сосед, которого дамы охотно принимали у себя. Окна были отворены, и она слышала, что он говорил: да, это поистине маленькая Венера, вы можете гордиться такой дочкой; какая женщина выйдет из нее!
Ольга поняла, что речь шла о ней, она вся вспыхнула и убежала в сад. Тут она спокойно гуляла между цветами, нарвала розанов, левкоев и гвоздик, прикрепила их к своим волосам и потом внимательно и гордо стала рассматривать себя в пруду. Рядом стояла богиня любви из белого камня; она посмотрела на нее и подумала про себя: «Когда я вырасту, то буду так же прекрасна, как и ты».
В зимние вечера, в сумерки, старая няня Каетановна садилась в большое зеленое кресло, в котором умер дедушка и которое с тех пор внушало детям уважение, смешанное со страхом, и рассказывала им сказки. Чем темнее становилось и чем более стушевывалось ласковое и цветущее лицо Каетановны, тем ближе теснились к ней дети, тем тише шептались они между собой. Обыкновенно Ольга клала свою голову на колени к няне, закрывала глаза – и ей представлялось, что все, что та рассказывает, происходит в действительности. Она всегда воображала себя прекрасной царевной, что плыла по черному морю или неслась к небу на крылатом коне, а раз, слушая похождения Иванушки-дурачка, который спас царскую дочь, она пришла в негодование и вскричала, быстро подняв свою головку: «Я не царская дочь, Каетановна».
Летом же, когда дети небогатых шляхтичей играли под тополями и Ольга прибегала к ним, то они начинали играть в свадьбу. Один из мальчиков представлял священника. Ольга надевала венок из дубовых листьев и исполняла роль невесты. Но она всегда говорила своему жениху: «Жених мой должен быть по крайней мере графом, я слишком красива для шляхтича».
Она выросла высокая и стройная; одно время немного кашляла, немного горбилась. Какая тяжкая забота для матери! «Ольга, – не раз говорила она, – ты будешь кривая, не найдешь себе мужа, и придется тебе жить работой, как горбатой Целестине».
Когда соседки приезжали в гости к матери и сидели за чайным столом, Ольга всем угождала и сама приносила закуску и сухари. Она еще ходила тогда в панталончиках, обшитых тонким кружевом, и толстые косы спускались по ее спине. Как скоро дамы заговаривали о своих дочерях и о других девицах, об их будущности, то только и было речи, что об их пристройстве, то есть замужестве, точь-в-точь как мужчины говорят об определении на службу.
Дочь местного священника воспитывалась в столице и готовилась в гувернантки. Это естественно, говорили дамы, бедная девушка так некрасива, у нее даже нет и передних зубов, ей ничего другого не остается.