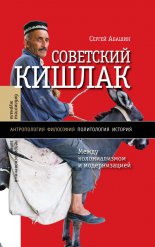Белокурые бестии Климова Маруся

А все, что Маруся в течение нескольких часов недавно рассказывала про Блумберга и презентацию, Костя мог бы изложить сейчас гораздо короче и нагляднее, у него для этого был уже выработан свой язык — он мог бы сейчас просто встать, несколько раз перекувырнуться через голову, проползти на животе до туалета и начать пить воду из унитаза, вот и все, так он понимал всю эту презентацию и все, что ему Маруся так долго рассказывала при помощи такого большого количества слов. Косте слов вообще было не надо, он сам, как гусеница или пчела в дзенской поэзии, полз по полу, и это было его небольшее хокку на заданную Марусей тему.
Блумберга Маруся уже встречала год назад, он тогда был главным редактором в издательстве «Цейтнот», что существовало при Центре Изящной Словесности, и в частности, там тогда готовилась к изданию серия «Классики девяностых», куда, по его замыслу, должны были войти как сочинения наших современников, так и Толстого, Григоровича, Лескова, Державина, Маркиза де Сада, Гете, Сервантеса, Плутарха, Данте, Ницше, то есть всех, чье творчество, вне зависимости от эпохи и страны проживания, хотя бы частично попадало на последнее десятилетие какого-нибудь столетия.
Презентация этой серии состоялась в помещении Центра Изящной Словесности на Васильевском, где Маруся впервые и увидела Блумберга. Но он ее вряд ли запомнил, так как вечер был организован таким образом, что за огромным овальным столом в центре зала расположились герои торжества, «классики девяностых» из наших современников, то есть писатели, которых уже опубликовали либо собирались опубликовать в этой серии, а также наиболее почетные гости — тоже писатели, депутаты городского собрания и представители городской администрации — за этим столом Маруся, в том числе, увидела блядского вида молодую бабу, телеведущую с шестого канала, с ней Маруся часто сталкивалась, когда работала у Васи, как оказалось, она тоже писала прозу, что-то в детективном жанре. Оттого, что эта блядь сидела за столом, среди писателей, а Маруся должна была сидеть на стульчике у стены, среди журналистов, от этого Марусю вдруг охватила такая злоба, что она даже хотела сразу же встать и выйти, но на улице было жутко холодно, мела февральская пурга, а в зале было тепло, к тому же, в соседней комнате уже накрывали стол для фуршета… Маруся в тот день очень устала, поэтому она все-таки осталась, так и не встала со своего стула у стены. По этой же причине, потому что она сидела не за столом, Блумберг вряд ли ее тогда запомнил.
Вечер открыл бородатый мужик, чем-то похожий на русского купца, с мягкими и слегка смазанными чертами круглого лица, он, как раз баллотировался в Думу по одному из питерских округов, где место депутата по каким-то причинам оказалось вакантным, баллотировался он то ли от Союза Правых Сил, то ли от «Яблока», Маруся толком не поняла, но фуршет и саму презентацию организовали именно они, поэтому кандидату в депутаты и предоставили слово в первую очередь.
Кроме того, всем были розданы листочки с пресс-релизами, а также аннотациями на книги серии, главным образом, наших современников, присутствующих за столом. Правда, Марусе попалась среди них и аннотация на «Анну Каренину», создатель которой характеризовался как «величайший мастер русского языка, классик мировой литературы, автор романов «Война и мир» и «Воскресение»», а сам роман «Анна Каренина» там был «трагической историей женщины, мечущейся между двумя знакомыми и понятными всякой женщине чувствами, чувством любви и чувством долга, но так и не сумевшей сделать свой окончательный выбор.» В целом же творчество Толстого «излучало благородный аромат увядания, столь характерный для общей атмосферы культуры конца XIX века» — этой фразой с небольшими вариациями, связанными с временем проживания авторов, завершались практически все аннотации к представленным в серии книгам. Некоторые из них, как в случае с Толстым, были анонимными, а большинство, главным образом на книги сидевших за столом наших современников, были написаны Леонидом Торопыгиным, который и являлся составителем этой серии.
Некто Виктор Листов, автор сборника рассказов «Дорога дальняя» был охарактеризован в аннотации как «русский Фолкнер». Листов раньше работал шофером-дальнобойщиком, и теперь продолжал работать шофером, но уже такси. Ознакомившись с этой аннотацией, Маруся невольно окинула взглядом сидевших за столом, стараясь определить, кто из них больше всего похож на таксиста — она отметила для себя, по крайней мере, троих, которые по ее мнению могли быть таксистами, но к ним в машину, пожалуй, не сел бы даже Светик.
Она часто слышала эту историю про то, как Светик в образе Марлен Дитрих поймал тачку. Водитель завез его в лесопарк пригорода Москвы, где заставил отсосать, а потом попросил выйти и подтолкнуть машину, а когда Светик вышел, то уехал вместе с его документами и деньгами, обдав Светика выхлопными газами, и оставив его в полном одиночестве под осенним дождем. Приятель Светика Василий Кандыба написал на эту тему целый рассказ, который он дал почитать Марусе. У него в рассказе уже получалось, что Светик просто зачарованно смотрел на водителя, за окном моросил мелкий дождь, падали желтые листья, дул ветер, а потом такси умчалось в ночную даль, оставив Светика в полном одиночестве. После этого Кандыба звонил Марусе и спрашивал, а понятно ли, что Светик отсосал у водителя. Маруся сказала ему, что нет, все-таки как-то непонятно. Тогда Кандыба приписал в конце: «У любви солоноватый вкус, — подумал Светик», — и все, этот вариант был окончательный.
В Париже таксистами обычно работают негры, как и в Нью-Йорке, правда, французские негры очень сильно отличаются от американских, они гораздо менее наглые и лучше воспитаны. Однажды ночью в Париже Маруся заблудилась и никак не могла найти дом Пьера, тут перед ней из темноты возник негр, она сначала очень испугалась, потому что негр возник совершенно неожиданно, так как был черный и сливался с темнотой, но он вежливо ей улыбнулся и помог ей сориентироваться в пространстве, указав дорогу к нужной ей улице.
Отечественные таксисты, за исключением Ефремова в фильме «Три тополя на Плющихе», вообще никогда не вызывали у нее никаких чувств, она их просто не замечала, поэтому, наверное, теперь ей и было так трудно определить, кто из сидевших за столом Листов. Она также вспомнила историю, которую ей рассказала Тамарочка из «Резонанса», как она однажды ночью возвращалась совершенно пьяная домой и проходила мимо Марсова поля, а рядом затормозило такси и ее предложили подвезти.
Она жила с мамой и папой в Рыбацком, с мужем-художником она уже тогда развелась. Раньше у нее был еще брат, но он очень сильно пил и однажды в припадке белой горячки покончил с собой, правда, это произошло с ним в отделении милиции, и Тамарочка была совершенно убеждена, что это сделали милиционеры, они его сами повесили, а он бы никогда такого с собой не сотворил. Тамарочка тоже часто напивалась до полного бесчувствия, и если это с ней происходило на фуршете, то потом ее нужно было как-то доставлять домой, потому что она себя уже совершенно не контролировала и могло случиться все, что угодно.
Вот после одного из таких фуршетов она и оказалась ночью одна в районе Марсова поля, денег у нее с собой было очень мало, поэтому она решила идти до Рыбацкого пешком, это было очень далеко, но к утру она надеялась все же попасть домой.
Маруся все это очень хорошо себе представляла. Тамарочка шла пешком вдоль Марсова поля и огромная белая луна светила в середине неба, была ранняя весна и под ногами лед с водой, сначала ей надо было пройти по Фонтанке, потом по пустому Невскому… И вдруг у Марсова поля рядом с ней затормозило такси. Площадь была совершенно пуста, вокруг ни души, и машины ни одной, а это такси, неизвестно откуда взявшееся, вдруг затормозило рядом с ней. Тамарочка шла покачиваясь и все видела и воспринимала вокруг себя как в тумане — настолько она была пьяна. Такси остановилось и водитель, открыв дверцу, стал приглашать ее в машину. Тамарочка сперва отказывалась, но потом подумала, что можно и сесть, ведь до дому ей все равно не дойти. Лица водителя она не различала, перед ней было какое-то бесформенное пятно, а голос был тягучий, тоже бесформенный и чуть мяукающий.
Они ехали по пустынным улицам и Тамарочка все хихикала, сама не зная почему. Когда машина подъехала к тамарочкиному дому, водитель почему-то не затормозил, а свернул на соседнюю улицу, а потом заехал в глухой двор. Там он остановил машину и, засунув руку под тамарочкино сиденье, нажал какой-то рычажок, сиденье опустилось назад, и Тамарочка оказалась в лежачем положении. Она пыталась сопротивляться, но сама даже не знала до конца, чего хочет — чтобы ее трахнул этот неизвестный таксист или чтобы он ее отпустил. А таксист осторожно залез на нее, расстегивая свои брюки, он явно боялся ее насиловать, наверное, не хотел, чтобы потом на него заявили в милицию. Все его движения были плавными и мягкими, а голос гнусавым и почему-то унылым: «Подожди, подожди, — повторял он, — подожди, подожди». Он стянул с Тамарочки колготки и трусы, задрал юбку и пристроился между ее задранных ног, которые упирались в потолок машины. Тамарочка почувствовала в себе его член, он был такой же мягкий и унылый, как и его голос и весь его расплывчатый облик. «Ты не бойся, я кончать не буду, — услышала она после нескольких минут монотонного подергивания. Таксист отвалился от нее и вернулся на свое место. «Слушай, выходи за меня замуж, а?» — вдруг сказал он. «Ты меня отталкиваешь и в то же время обнимаешь, это возбуждает.» Тамарочка в это время натягивала колготки, стараясь их не порвать. Она немного протрезвела, и теперь в ней постепенно нарастала злоба. В ответ на предложение таксиста она разразилась хриплым злобным хохотом. Казалось, таксист внезапно обиделся и замолчал. Тамарочка же продолжала давиться от смеха, ей почему-то было ужасно смешно. Таксист же довез ее до дому и, ни говоря ни слова, высадил у подъезда. А войдя в квартиру, Тамарочка обнаружила, что у нее из сумки исчезли кошелек и паспорт.
На следующую ночь она услышала звонок в дверь. Она испугалась и затаив дыхание стала ждать, что будет дальше. Звонок прозвенел еще раз, потом в дверь стали стучать, ее родители спали в дальней комнате и ничего не слышали, а дверь была ветхая, и однажды ее уже ломали — когда у ее брата был алкогольный психоз, он, сам того не заметив, выломал из двери замок. Поэтому Тамарочка подумала, не позвонить ли ей в милицию и не сообщить ли, что к ней ломится неизвестный грабитель. Но вскоре все стихло. Утром Тамарочка выходя из квартиры, увидела, что из жестяного почтового ящика, прибитого к дверям ее квартиры, торчит коричневый кожаный кошелек. Она вытащила его и открыла — кошелек был пуст, не осталось даже мелочи, которая там только и была. Это происшествие очень удивило Тамарочку, то есть ее удивило ее собственное поведение, объяснить которое она никак не могла.
Маруся вообще никогда ничего не слышала раньше о Листове, однако в аннотации было сказано, что его сборник «Дорога дальняя» уже переведен на французский и сейчас переводится на немецкий и английский языки, а также то, что на эту книгу в различных журналах и газетах к настоящему моменту вышло уже сто шестьдесят рецензий. Автора же аннотации к книге Листова, критика Леонида Торопыгина, Маруся, наоборот, неплохо знала и даже несколько раз с ним встречалась.
Он жил в Москве на Ордынке в двухкомнатной квартире вместе со старенькой мамой, которая, вроде бы, когда-то была адвокатом по делу Синявского-Даниэля. Познакомилась же Маруся с ним тоже в Москве, когда приехала за гонораром в редакцию «Универсума», где он тоже печатался. Из соседней с бухгалтерией комнаты, где располагался отдел культуры, доносился едкий запах табачного дыма, перемешанный с перегаром, она почувствовала его сразу, когда шла по коридору в бухгалтерию, на обратном пути ей навстречу и попался вышедший оттуда, очевидно, по нужде, заросший волосами и косматой бородой, с вылезшими из орбит глазами и отвисшей нижней красной губой, весь перекошенный, с явным искривлением позвоночника, мужик. Он был такого маленького роста, что едва приходился Марусе по плечо. «Ну ни хуя себе хуя! — вдруг громко завопил он, увидев Марусю, — А ты что, еб твою мать, блядь, здесь делаешь, на хуй! Почему я тебя здесь раньше никогда не видел, пизда ты ебаная!», — а потом добродушно предложил ей пройти к ним в кабинет и присоединиться к их компании. Это и был критик Леонид Торопыгин.
Раньше его Маруся знала только по некоторым статьям, которые он публиковал в этой московской газете, больше всего ей запомнилась одна из них, где Торопыгин проводил аналогию между Борисом Березовским и Парисом, в качестве Елены Прекрасной выступала дочь Ельцина, Татьяна, информационная война олигархов напоминала ему Троянскую войну, а следователь Волков, который вел тогда дело «Аэрофлота» и Березовского, сравнивался, соответственно, с археологом Шлиманом… Статья так и называлась: «Борис Березовский как Парис».
В другой аннотации на роман Вячеслава Сусанина «Свалившийся с неба», которую тоже написал Торопыгин, автор уже характеризовался как «русский Маркес», «культовый, модный писатель, к сожалению, пока мало известный широкой публике» — в этом Торопыгин видел существенное отличие в положении модного писателя в России от писателя, который считается модным на Западе, так как на Западе такой писатель «окружен всеобщим вниманием и привлекает к себе интерес не меньший, чем звезды шоу-бизнеса…» Сам же роман провозглашался величайшим творением всей русской литературы двадцатого века, завершавшим поиски таких ее непревзойденных корифеев как Набоков, Солженицын, Андрей Белый, Шолохов, Довлатов, Битов, Маканин и какой-то Генкин — кто это, Маруся вообще не знала. В аннотации также указывалось на особую роль философа Григория Нежинского в формировании творческой личности Сусанина, так как он являлся не только автором предисловия к «Свалившемуся с неба», но этот «русский Кастанеда» еще и сам был центральной, ключевой фигурой романа, «богом и царем» для Сусанина, примерно тем же, чем был Вергилий для Данте, когда тот спускался в царство мертвых, каковым, по большей части, и была, по мнению Торопыгина, вся современная отечественная литература.
Славика Сусанина Маруся тоже знала, обычно он сидел в баре при галерее неподалеку от Невского, чаще всего в компании вместе с Загорулько и Нежинским, она помнила его еще по выступлению с писателем Серполевым, который тогда так напился, что едва не свалился со сцены, тогда же Славик давал ей свои первые произведения, где описывал кошку, которой очень хотелось сношаться, и переживания старого ветерана. Это было уже лет десять назад, но с тех пор Славик очень мало изменился, по крайней мере, внешне — трезвым его Маруся за все это время не встречала ни разу.
Тем временем, пока Маруся разглядывала аннотации, увесистую пачку которых держала в руках, кандидат в депутаты уже успел изложить некоторые тезисы своей предвыборной программы и перешел к наиболее «остро стоящему и всех волнующему» жилищному вопросу. В частности, он крайне негативно отозвался о намерении губернатора Петербурга реконструировать хрущевские пятиэтажки, не выселяя оттуда жильцов, он вообще не мог себе представить, как это люди будут там жить, когда день и ночь над ними будут грохотать отбойные молотки и строительные лебедки. По его мнению, все пятиэтажки надо было просто снести, а уже на их месте, на том же фундаменте, надо было возвести новые современные дома с просторными комфортабельными квартирами, что, он считал, было гораздо лучше, удобнее, и главное, экономичнее, он и его советники уже все просчитали, и все эти расчеты лежали прямо тут, у него на столе, в папке, по которой он при этих словах даже похлопал рукой. Не говоря уже о том, что и людям, которые живут в этих домах, тогда не пришлось бы мучиться и страдать от грохота, который не давал бы им покоя ни днем, ни ночью во время реконструкции их разваливающихся домов — они могли бы просто сразу въехать в удобные светлые квартиры.
Одним из возможных источников финансирования этого жилищного проекта могли бы стать, к примеру, колоссальные средства, отпущенные на строительство нового Ледового Дворца, строившегося тогда к предстоящему чемпионату мира по хоккею, который Петербургу, по его мнению, был абсолютно не нужен, и не только потому, что на его строительство было угрохано черт знает сколько средств, но еще и потому, что потом на его эксплуатацию, отопление и прочее потребуются средства еще большие, что налогоплательщикам уже совсем будет не по карману, так что даже если сейчас, когда дворец уже был почти достроен, резко остановить его строительство, на этом можно было бы сэкономить колоссальные средства, не менее двадцати миллионов долларов, а если эти двадцать миллионов долларов, к примеру, поделить на находящихся в этом зале пятьдесят человек, то на каждого получалось около четырехсот тысяч долларов, а на эти деньги каждый из них мог бы не только приобрести себе роскошную пятикомнатную квартиру в Петербурге с ванными и джакузи, но и еще купить себе виллу где-нибудь на Гавайях или Карибах…
В этот момент в зале наступила напряженная тишина, будущий депутат же тоже как бы специально замолчал, чтобы выдержать паузу и заставить всех присутствующих сильнее почувствовать, чего их лишает действующий губернатор. И тут сидевшая слева от Маруси пожилая дама в очках вдруг сильно засопела, со свистом втянула воздух и негромко, как бы про себя, пробормотала: «Сволочь!», — но в наступившей тишине это слово прозвучало довольно отчетливо, так что все его хорошо расслышали и почти одновременно заерзали на стульях и повернулись в ее сторону.
Ну не стоит, не надо так расстраиваться, успокоил ее выступавший, в конце концов, все еще можно было поправить, как только он станет депутатом, он сразу же подаст депутатский запрос, и строительство Дворца тогда можно будет если не остановить, то, по крайней мере, можно будет отключить от него отопление, электричество и воду, в конце концов, Дворец вообще можно было и снести и уже на его фундаменте возвести огромный многоквартирный дом, настоящий небоскреб, фундамент, который был у Дворца, вполне мог его выдержать, он в этом не сомневался. Так что отчаиваться не стоило, не все еще было потеряно, во всяком случае, он не собирался сидеть, сложа руки, потому что надо было хоть что-то делать, чтобы помочь людям, для этого, собственно, он и баллотировался в депутаты.
Тут из зала ему кто-то возразил, что небоскреб строить нельзя, потому что, то ли по указу Петра, то ли из-за какого-то магического заклятья, на этот счет существовала, вроде бы, также и народная примета, а может быть, все это было и не совсем так, но, тем не менее, в Петербурге не должно быть зданий, выше шпиля Адмиралтейства, ибо любое здание, воздвигнутое выше этого шпиля, рано или поздно будет разрушено, что и произошло со шпилем Петропавловки, в который уже неоднократно попадала молния, отчего даже ангел на ней несколько раз загорался, и это происходило до тех пор, пока в 1778 году на нем наконец не догадались установить громоотвод … Нет, кандидат в депутаты этого не знал, первый раз об этом слышал, но он обязательно это примет к сведению, так как для этого, собственно, и встречается с избирателями, чтобы посоветоваться с народом и внести необходимые коррективы в свою предвыборную кампанию, а это он даже прямо сейчас запишет к себе в блокнот, чтобы учесть потом при составлении своего депутатского запроса, тем более, что сам он по образованию микробиолог, специалист по молекулярной биологии, и еще, если честно сказать, не до конца приспособился и не очень хорошо ориентировался в нашем обычном макромире.
А читал ли он «Незнайку на Луне», и помнит ли он, как тяжело пришлось коротышам в новой, чуждой для них обстановке — этот вопрос совершенно неожиданно задал один из сидевших за столом, чьего имени Маруся не знала, да к тому же, он и сидел к ней спиной, так что его лица она не видела. Да, конечно, «Незнайку на Луне» он читал, более того, это была его настольная книга, которую он и сейчас периодически перечитывал, и опыт коротышей он, конечно же, тоже обязательно учтет, когда станет депутатом. После этого вопроса возникшее было недавно напряжение как-то мгновенно улетучилось и все присутствующие, включая кандидата в депутаты, заулыбались и снова почувствовали себя свободно и раскованно…
Следующим слово взял Блумберг. Он только что вошел в зал, был весь красный и еще не успел отдышаться, так как всего несколько часов назад прилетел из Москвы и по дороге из аэропорта из-за пурги попал в жуткую пробку, почему и опоздал на презентацию почти на час, этим, видимо, можно было объяснить и то, что речь кандидата в депутаты немного затянулась. Блумберг извинился перед собравшимися за свое опоздание и сразу же, отбросив церемонии, решил подойти, как говорил Ги де Мопассан, «ближе к телу», то есть представить собравшимся всех авторов серии, которые, конечно же, всем и так были хорошо известны, поэтому в особом представлении не нуждались, но он все-таки не мог отказать себе в этой приятной условности, тем более, что идею серии он вынашивал уже очень давно, можно сказать, с юности, то есть еще лет за двадцать до наступления девяностых. Самого себя он считал, кстати, сыном семидесятых, человеком семидесятых, тех самых семидесятых, которые теперь в такой моде и которым они, кстати, недавно в своем издательстве посвятили специальный альбом, который случайно лежал перед ним на столе, и который он тут же продемонстрировал собравшимся, открыв его на странице, заранее заложенной закладкой: «Вот он, настоящий герой семидесятых!» — ткнул он пальцем в фотографию, на которой был изображен какой-то прыщавый пэтэушник в клешах, с сигаретой в зубах и с длинными грязными выкрашенными в соломенный цвет волосами.
Но, несмотря на то, что Блумберг считал себя человеком семидесятых, это вовсе не мешало ему оценить и тех, кто по-настоящему сумел раскрыть себя в девяностые годы, то есть всех тех «классиков девяностых», которых он сегодня собирался представить собравшимся. Он не сомневался в том, что когда-нибудь, лет этак через двадцать, и на девяностые годы придет настоящая мода, тогда и книги их серии, которые и сейчас, он был уверен, не залежатся долго на прилавках, но тогда, лет через двадцать, они вообще резко поднимутся в цене и будут стоить бешеные бабки, причем особой ценностью будет обладать именно полное собрание книг этой серии, как это обычно и бывает у истинных коллекционеров. Таким образом, получалось, что каждый, кто уже сейчас купит все книги, которые уже вышли в этой серии, и потом будет последовательно покупать каждую новую, не пропуская ни одной, через двадцать лет сможет на этом обогатиться и даже стать миллионером.
Можно, конечно, по-разному себе представлять настоящего героя девяностых, потому что его образ еще окончательно не оформился, не сложился, не прошел через горнило времени, не стал еще таким четким и ясным, как герой семидесятых, — Блумберг опять ткнул пальцем в портрет прыщавого подростка с крашеными волосами — некоторые представляют себе этого героя в виде ночной бабочки, путаны, некоторые — даже в виде киллера, наемного убийцы, но лично он представляет себе его не иначе как в виде писателя, творца, каким бы наивным, даже, может быть, смешным ни показалось кому-нибудь сейчас это предположение, но ведь именно наивные и чистые люди в первую очередь часто и творят историю, а эту наивность и чистоту, прежде всего, он и постарался сохранить в своей душе с самой юности, и она помогает ему жить в наше, такое непростое, время.
Пусть его предположение кажется кому-то сегодня невероятным, но разве кто-нибудь мог себе представить в семидесятые, что лицо этого времени в наши дни предстанет нам таким, каким оно предстает нам со страниц этой книги, — он опять открыл свой альбом, где на сей раз уже на весь разворот была размещена фотография голого женского зада — ведь тогда были и другие варианты: рабочие, крестьяне, доярки, покорители целины, полярники, — и многие тогда даже представить себе не могли, что подлинное лицо этого времени всего через каких-то двадцать лет примет совсем иные очертания.
Таким образом, он, взвалив на себя тяжкое бремя издателя этой серии, попытался не только представить все лучшее, что было создано в российской литературе в девяностые годы, но и создать своеобразный коллективный портрет нашего современника, для чего, собственно, ему и понадобились эти многочисленные исторические отсылки и экскурсы в прошлое в лице Толстого, Сервантеса, маркиза де Сада и других, ибо любой портрет без перспективы всегда выглядит слишком плоским и одномерным, а с точки зрения перспективы конец прошлого столетия ему представлялся не иначе как в образе Толстого, тогда как девяностые годы восемнадцатого века ему уже рисовались в образе маркиза де Сада, хотя, безусловно, это было его субъективное мнение, и он не собирался его никому навязывать, а вот дальше, в том, что касалось конца шестнадцатого века, ему сейчас, так сразу без подготовки, было трудно сказать что-либо определенное, так как он боялся ошибиться и что-нибудь напутать, то есть, этот период времени в данный момент терялся для него во мраке, как, впрочем, обычно и бывает на самых выразительных живописных полотнах с глубоким и темным фоном, а именно такую картину, картину целой эпохи человеческой истории, ему бы и хотелось воссоздать, правда он еще сам толком не разобрался, в какой последовательности должны выходить книги этой серии, поэтому пока они просто выходят в одинаковых черных обложках, без каких-либо номеров и иных знаков отличия, просто по мере поступления готовых рукописей и макетов, работа над которыми сейчас вовсю идет в их дружной, сплоченной редакции, сотрудникам которой он, пользуясь случаем, хотел бы выразить особую признательность, так как без их беззаветного и бескорыстного труда большинство этих книг просто не смогло бы увидеть свет, причем слово «бескорыстный» в наши дни, к сожалению, имеет не только иносказательный, но и самый прямой смысл, потому что многие из этих сотрудников, подобно большинству наших сограждан, увы, действительно месяцами не получают зарплату, да и он сам из-за финансовых затруднений вынужден был недавно отменить запланированную ранее и столь необходимую для их бизнеса поездку в Марокко, и вообще, если бы не составитель серии Леонид Иосифович Торопыгин, который нашел спонсора, пожелавшего остаться инкогнито, то этот проект и вовсе мог бы никогда не состояться, поэтому Леониду Иосифовичу он тоже выражал отдельную благодарность, жаль, что тот по состоянию здоровья не смог прибыть лично на презентацию из Москвы, где, буквально несколько часов назад, он с ним встречался, и Леонид Иосифович велел всем кланяться и передавал пламенный привет. Приятную же обязанность представить авторов серии он поэтому вынужден взять на себя, к чему он теперь и переходит, а так как он вообще не любил все эти церемонии и всякие слова вроде «лауреат», «член Союза», «ветеран сцены» и т. п., которые зачастую вообще не имеют никакого отношения к культуре и подлинной значимости человека в ней, так что пусть на него не обижаются, но представлять авторов серии он будет не в порядке их заслуг, возраста или еще какой-то особым образом оговоренной или предусмотренной последовательности, а просто так, как они случайно расселись за этим столом, по часовой стрелке, начиная с первого, кто оказался от него по левую руку…
После этих слов Блумберг наконец-то перешел к представлению всех, кто сидел за столом, причем, как Маруся заметила, большинство из них, процентов на девяносто, были мужчины в возрасте от пятидесяти до семидесяти-семидесяти пяти лет, так что эта блядь с шестого канала была среди них не только самой молодой, но и одной из немногих представительниц слабого пола. Маруся с некоторым интересом все-таки наблюдала за этой процедурой, так как ее по-прежнему почему-то все еще занимал вопрос, кто из них работает шофером такси.
По ходу представления она насчитала по крайней мере еще двух «русских Маркесов», одного «русского Борхеса», одного Кафку, одного Томаса Манна, а также Хемингуэя и Камю, и только трое были охарактеризованы как «абсолютно самобытные и неподражаемые мастера пера», кажется, назывались еще имена: Стефана Цвейга, Голсуорси, Шекспира, Беккета, Джойса, Ромена Роллана, Сэллинджера, Агаты Кристи, Пруста и Барбары Картленд, — но уже в менее категоричной и определенной форме, на абсолютное тождество между ними и теми, кто сидел за столом, уже указано не было. Особо Блумберг почему-то задержался на фигуре писателя Саидова, которого он назвал наиболее вероятным претендентом на Нобелевскую премию из числа наших соотечественников в ближайшие десять-пятнадцать лет. По его мнению, у Саидова для этого были все данные, хотя бы потому, что он был родом из Казахстана, где такие бескрайние степи и обдуваемые всеми ветрами селения, которые он описывает в своих произведениях и которые они недавно вместе с ним видели по телевизору в документальном фильме про приговоренного к смерти убийцу с восточной фамилией, начинавшейся, кажется, на букву «Д» — этого он точно уже не помнил — но ему еще в тюрьме женщина-следователь передала пистолет… Д. был родом из тех же мест, что и Саидов, так что пейзажи в фильме были точно такие же, как в книгах Саидова.
Маруся тоже видела этот фильм, правда, не целиком, а так, между делом. Там все время показывали каких-то запредельных уродов: сначала сам Д., жуткий кретин с квадратной головой, лихорадочно ходил, подпрыгивая и делая упражнения из восточных единоборств, по маленькой тесной одиночке, все это было, кажется, заснято скрытой камерой, потом жирный следователь с портфельчиком долго ходил по тюремному коридору и философствовал, является ли Д., который замочил, кажется, что-то около пяти человек, преступником, или же он жертва общества, так как вырос без отца на фоне тех самых унылых пейзажей, о которых говорил Блумберг, а больше всего следователя занимал вопрос, любила ли его та женщина-следователь, которая передала ему в камеру пистолет, в результате чего было тяжело ранено около трех охранников, а сам Д. на какое-то время скрылся из тюрьмы, но потом его снова поймали, и он опять лихорадочно ходил по своей тесной камере, подпрыгивая и делая финты руками и ногами… Кроме того, Маруся отчетливо запомнила, как две еще какие-то жирные бабы, сидя на кухне, тоже обсуждали между собой все эти проблемы, но какое отношение они имели к Д. и ко всему этому делу, Маруся так и не поняла — вроде бы, одна из них была его первая жена… Завершался же фильм кадрами, в которых женщина-следователь, передавшая Д. пистолет, в телогрейке, стоя в толпе заключенных в зале тюремного клуба, смахивала слезу под звуки песни «Музыка нас с тобой связала», а жирный следователь с портфельчиком в руке под ту же мелодию, но уже почему-то грохотавшую во всю мощь, уходил по тюремному коридору вдаль.
Что касается творчества Саидова, то Блумберг, как он вынужден был признаться, все же так и не смог дочитать до конца ни одной его книги, так как они представлялись ему чересчур сложно написанными и слегка затянутыми, что, впрочем, не имело никакого значения, так как очень многих из писателей, имена которых сегодня он назвал и которые уже были удостоены Нобелевской премии, он также никогда не мог дочитать до конца, а некоторых, как, например, Гомера, он даже вообще читать не начинал, потому что его всегда пугал один вид его книг. Книга же, по его мнению, не должна быть очень большой, потому что в противном случае, хотим мы этого или нет, она просто может отпугнуть читателя и ее никто никогда не купит, поэтому формат книги, ее сравнительно небольшой объем был пока единственным четко выработанным критерием отбора для их серии… Имя же «русского Фолкнера», который по совместительству работал шофером такси, так и не прозвучало, видимо, он просто отсутствовал на презентации, а, может быть, Блумберг случайно определил его как-то иначе, назвал «русским Камю», например, а Маруся этого не заметила, потому что уже успела позабыть, как точно звучит его настоящее имя, рыться же снова в куче анонсов и что-то там искать у нее не было никакого желания, уж больно она устала, к тому же это было совершенно бесполезно, так как она успела уже позабыть имена большинства сидящих за столом писателей, которых ей только что представили, из числа тех, кого она раньше никогда не видела, и уж совсем она не помнила, что говорили сами писатели, какие отрывки из своих произведений они читали, все их голоса постепенно слились в один бессмысленный гул, в какое-то мгновение Маруся даже почувствовала, что засыпает, чтобы отогнать от себя сон, она попыталась взглянуть на происходящее совершенно под другим углом.
Пожалуй, Костя был в чем-то прав, если отвлечься от того, что говорили все эти люди, каждый из них был действительно похож на какое-нибудь животное, например, у писателя, который говорил о том, что Сервантес и Данте и сегодня не утратили ни грамма своей актуальности, были очень короткие ноги и длинная шея, отчего он отчетливо напоминал Марусе жирафа. Пожалуй, это был самый яркий животный тип из числа тех, что присутствовали на этом вечере, большинство остальных почему-то напоминали Марусе мышей, такие у них у всех были стертые бесцветные лица, особенно у женщин, огромная стая серых мышей…
Маруся вспомнила Алексея Б., во всем его облике было что-то овечье, такое тупое овечье упрямство, а про Светика так даже однажды и написали: «панк с тупым овечьим выражением лица», — заметка с такими словами появилась в «Смене» после того, как он пытался вырезать в Публичной библиотеке из книги портрет Марлен Дитрих, но заснул с картинкой в руках. Сам Костя напоминал Марусе птицу, в профиль у него был довольно большой клювообразный нос, а сама себе Маруся все больше напоминала свинью, огромную жирную свинью, она просто не могла глядеть на себя в зеркало без отвращения, особенно в последнее время…
И все-таки больше всего тогда, на презентации, ей запомнилось выступление именно женщины, может быть, потому что она была едва ли не единственной женщиной на этом вечере, которой предоставили слово — блядь с телевидения, к счастью, весь вечер просидела молча, она, кажется, вообще присутствовала там в качестве гостя — а может быть, потому, что это выступление было последним, и Маруся бессознательно слушала его с облегчением, наконец-то стряхнув с себя одолевавшую ее весь вечер сонливость.
Кажется, эту бабу звали Нина Пузанова, ей было уже далеко за пятьдесят, и внешне она тоже напоминала мышь или даже моль, бесцветную моль. Она была автором повести «Пермь — закрытый город», которую уже опубликовали в «Новом мире», она даже вошла в шорт-лист Букера за прошлый год и теперь готовилась к печати в серии Блумберга. Сама она тоже была родом из Перми, с этого она, собственно, и начала свое выступление.
Какой у них все-таки замечательный город, Пермь, и какие там живут люди, пермяки, одним словом, и пусть у них, в отличие от жителей Петербурга, в застойные времена не было колбасы и в воздухе там очень много сероводорода, отчего у всех у них слегка припухли железки, а также все они, вследствие повышенного радиационного фона, может быть, чуточку уже слегка мутировали, но все равно, они всегда рады видеть у себя гостей, всегда накроют им стол, потому что они поступали так всегда, и в застойные времена, когда у них совсем не было колбасы, и теперь, когда у них появилась не только колбаса, но еще много-много чего, включая сникерсы, макдональдсы и гамбургеры, потому что, несмотря на то, что Пермь очень долго была закрытым городом из-за чересчур развитой оборонной промышленности, все равно, люди там всегда были очень открытые и радушные, что могут подтвердить многие из присутствующих здесь писателей, которые уже успели побывать у нее в Перми в гостях.
Вместе с тем, писателю там жить совсем непросто, особенно теперь, и этим Пермь очень сильно отличается и от Москвы, и от Петербурга, потому что Пермь — город, все-таки, очень небольшой и там все, абсолютно все, друг друга знают и даже узнают на улицах, и отчасти, это произошло из-за его закрытости, из-за которой там все привыкли больше тусоваться между собой, поэтому она, когда пишет, то всегда старается всячески изменить внешность своих персонажей: блондинов она делает брюнетами, высоких — низкими, толстых — худыми, — но как она ни изощряется, даже локоть меняет на колено или ухо на нос, все напрасно, потому что пермяки — люди от природы очень догадливые и сообразительные, так вот, они все равно всегда не только себя, но и друг друга в ее персонажах узнают, и поэтому все вместе часто сообща собираются и читают ее произведения. Иногда это, конечно, бывает очень весело, и раньше это еще куда ни шло, все ей как-то сходило с рук, а теперь, когда времена изменились, то за это ее могут ведь и убить, так как многие, как бы хорошо она о них ни писала, все равно почему-то обижаются, а ведь теперь в Перми появились и «новые русские», и киллеры и еще бог знает кто, так что быть писателем в Перми теперь стало очень опасно, поэтому она, когда приезжает в Москву или Петербург, просто отдыхает душой, но на родину ее, конечно, все равно всегда тянет.
А совсем недавно ей позвонил один такой «новый русский», здоровенный бритый наголо двухметрового роста тип, который почему-то узнал себя в кудрявом тощем карлике, почти гномике, и заявил ей по телефону, что после того, как она его так изобразила, ей, суке, так он ее назвал, осталось жить не больше двух недель, причем одна неделя из этого срока к моменту ее выступления здесь, на презентации, уже истекла, и она не знает теперь, возвращаться ей к себе домой или еще сначала заехать в Москву и немного подождать, но ее ведь и в Москве могут найти.
В заключение она прочитала небольшой отрывок из своей старой повести, в основу которой, опять-таки, был положен реальный факт из жизни — история девочки, которая для того, чтобы попасть в пионерском лагере в старшую группу, взяла и прибавила себе три года, то есть вместо двенадцати сказала, что ей пятнадцать, ведь у нее тогда не было еще даже месячных, так что можно себе представить, каково было этой двенадцатилетней девчонке среди пятнадцатилетних, ну а потом это как-то раскрылось, потому что, когда все стали пить шампанское, эта девочка стала блевать, точнее тогда, сразу, это не раскрылось, а раскрылось потом, когда она описала все это в своей повести, и хотя она поменяла Галю на Валю, блондинку на брюнетку, полненькую на худую, эта девочка, точнее, уже взрослая женщина — потому что, когда вышла эта повесть, ей было уже около тридцати — все равно себя в этой девочке узнала, поняла, что эта повесть о ней, и хотя они с ней были лучшими подругами, после этого она с ней поссорилась и не разговаривала в течение двадцати пяти лет, так как не могла простить ей предательства, того, что она ее выдала, хотя и много лет спустя.
И только совсем недавно, через двадцать пять лет после их размолвки, она снова к ней пришла, принесла бутылку коньяку, они с ней выпили, помирились и теперь, на сей раз, она уже не блевала, да она бы и от водки, наверное, не блевала, потому что Пузанова знала, ведь в Перми все все друг про друга знают, что она в последние годы здорово квасила и закладывала за воротник…
Не только Маруся, у мамы почему-то постоянно кто-то просил в долг денег, и она, как правило, их всем, кроме Маруси, давала.
Однажды Маруся застала у мамы в гостях ее троюродную сестру Любовь Ивановну, которой срочно понадобились деньги, и она просила у мамы в долг три тысячи рублей. Любовь Ивановна работала во французской гимназии учительницей, преподавала французский, она была очень интеллигентная, хрупкого сложения, у нее дома была огромная библиотека, и Маруся в детстве всякий раз, когда приходила к ней, правда, это случалось не очень часто, брала у нее что-нибудь почитать. Она была лет на десять младше мамы, и ее сын Петя учился в этой же гимназии в предпоследнем классе, в этом году они по обмену уже ездили во Францию и, по условиям этого обмена, две недели жили в Париже во французской семье, а потом уже следующие две недели французские дети должны были жить в семьях тех, кто жил у них.
Их Петя как раз недавно вернулся из Парижа, там он жил в арабской семье, а теперь у них дома жил арабский мальчик, Мейди, который, по ее словам, был очень милый и безобидный, такой темненький и кругленький, достаточно деликатного сложения, и он был даже на год младше ее Пети. Они его очень хорошо принимали, Любовь Ивановна каждый день даже пекла ему пирожки и делала всякие салатики, что обычно она позволяла себе только по праздникам.
Однако буквально за два дня до своего отбытия в Париж Мейди, совершенно неожиданно для всей их семьи, которая состояла из ее старенькой мамы Ульяны Семеновны, ее и Пети, предъявил им счет, который он, оказывается, вел на протяжении всего этого времени, записывая в него все их расходы и деньги, которые они на него за это время потратили. Он действительно, сидя за столом, часто, как бы невзначай, интересовался, а сколько у них стоит это, то, отчего казался еще более милым и любознательным мальчишкой, каких она на своем веку в их школе, а теперь гимназии, повидала множество. Однако в этом счете было с точностью до копейки подсчитано, что сумма, которую потратили в Париже родители Мейди на Петю, превышает ту сумму, которую потратили на него здесь, как минимум на пятсот франков, при этом он совершенно не хотел учитывать, что в Париже все продукты и товары стоили гораздо дороже, чем у нас здесь, в Петербурге, даже Петя говорил Любови Ивановне, что она напрасно так старается, потому что в Париже никаких пирожков или салатиков ему специально не делали.
Любовь Ивановна все это попыталась объяснить Мейди, но тот не желал ничего слушать. Если до его отъезда, а он должен был улетать уже послезавтра, Любовь Ивановна не возместит ему разницу в пятьсот франков, а в то время по курсу это было примерно три тысячи рублей, то он пойдет в школу и пожалуется их директору, что он жил в настоящей расистской, даже более того, в фашистской семье, в которой все это время его запугивали, третировали, называли грязной арабской свиньей, в общем, всячески давали ему понять, что он является представителем низшей расы. Сами же они, как истинные арийцы и поклонники фюрера — то есть она, ее старая мама Ульяна Семеновна и Петя — каждое утро, стоило им только пробудиться, строем выходили на кухню и, вскинув руки в фашистском приветствии, дружно хором кричали «Хайль Гитлер!», причем она, Любовь Ивановна, первой выкрикивала «Зик!», согнув локоть, а Петя и Ульяна Семеновна в ответ вскидывали руки и орали «Хайль!», — Мейди даже написал большое письмо директору гимназии, где все это подробно описал — и без этого они не вставали, не садились завтракать, обедать и ужинать, то есть в их семье это приветствие было чем-то вроде «Отче наш», так у них было принято…
Ни на какие уговоры и просьбы он никак не реагировал, деньги должны были быть предоставлены точно и в срок. Навело же на эту дикую идею его, видимо, то, что Петя, всякий раз, когда выводил их таксу Еву на прогулку, действительно, кричал эти мерзкие слова «Хайль Гитлер!», но это у него просто была такая шутка, Любовь Ивановна уже неоднократно предупреждала его, чтобы он этого не делал, так как соседи по лестничной площадке могли услышать, но Ева уже так привыкла к этим словам, что на прогулку без них не выходила. Мама Маруси была категорически против того, чтобы Любовь Ивановна давала Мейди деньги, но Любовь Ивановна умоляла ее дать ей в долг, потому что на свою маленькую зарплату учительницы французского она не могла осилить такую сумму, а связываться с Мейди, французами, подставлять в глазах директора себя, Петю и его будущее ей очень не хотелось.
В конце концов, мама вынуждена была уступить и дала ей деньги. Но уже в аэропорту Мейди все равно пожаловался завучу, и та дала ему еще двести рублей из своего кармана, так как тоже не хотела все это дело раздувать, к тому же, в их гимназии это был первый опыт подобного рода обмена…
А на вид такой симпатичный мальчик и такой начитанный, Любовь Ивановна даже видела у него на столе книгу Маккиавелли «Государь», которую он привез с собой из Парижа…
В последнее время Маруся почти не встречала Светика, потому что в Питере Светик бывал редко, в основном он тусовался в Москве. Там у людей гораздо больше бабок, он, например, мог выйти вечером на Арбат и там поаскать, и ему давали, причем не рубль или два, а по десять долларов, иногда и больше. В Москве он жил у разных людей, у хозяина художественной галереи по прозвищу Чуваш, который и на самом деле был чувашем, очень богатым, он вообще Светика полностью содержал, оплачивал ему все его капризы, дал ему мобильник, даже квартиру снял в центре Москвы. Чуваш устроил выставку работ Светика в самом центре Москвы, на Манежной площади — там были выставлены огромные полотна, на которых Светик был изображен в разных образах: Орловой, Гитлера, Королевича, Пугачевой, Людовика XIV, Ильи Муромца и прочих исторических личностей. Эти работы увидел один богатый американец и захотел их купить, Светик долго торговался, в конце концов они остановились на пяти тысячах долларов, но работы должны были еще какое-то время повисеть на площади для всеобщего обозрения, наконец на изображении Светика в образе Гитлера кто-то написал черной краской «вонючий мудак», хотя непонятно, как это было возможно, потому что работы были установлены довольно высоко, на высоте двух метров над землей, и были ярко освещены специальными прожекторами. Тогда Чуваш сказал, что работы пора снимать, но Светик должен был отдать их американцу, потому что деньги он уже получил, однако тут объявился какой-то бизнесмен из Сибири и предложил ему за них шесть тысяч долларов, Светик опять согласился и эти деньги тоже получил, но, в конце концов, эти работы забрал сам Светик, он нанял машину, поздно ночью рабочие сняли все эти работы и увезли в неизвестном направлении, так как Светику все же было жалко продавать свои работы, тем более отдавать их в Америку, ведь это, как-никак, было наше национальное достояние. Чуваш, в свою очередь, требовал эти работы себе, потому что он тоже заплатил Светику, на что Светик ему заявил, что автор работ — он, и они все равно являются его неотъемлемой собственностью. В конце концов, Чуваш вообще перестал давать Светику деньги, потому что Светик его неоднократно кидал, и ему это надоело. Тогда Светик просто залез к нему в сейф и взял оттуда восемь тысяч рублей, потому что ему нужны были деньги, а взять их было негде, а Чуваш стал орать, что Светик его обокрал, но Светик не обратил на это никакого внимания.
Он ушел от Чуваша и долгое время жил у разных людей — у художника Хладковского, у владельца мебельного салона Кармелюка, этот Кармелюк тоже был очень богатым человеком, и Светик даже посвятил ему стихотворение, в котором описал свое с ним знакомство, которое произошло на открытии выставки в Русском музее — Кармелюк был там в золотых очках, шелковом галстуке, и его «тонкое холеное лицо» сразу же бросилось Светику в глаза, Кармелюк очень любил вращаться в богемных кругах, у него там было много знакомых, он даже красил волосы синькой, и они у него были цвета морской волны, вернее, остатки волос, потому что он начинал лысеть. А потом Светик снова отправился на одну тусовку, в Москве открывалось модное кафе «Пигмалион», открывал его Чуваш, и Светик никак не мог отказать себе в удовольствии пойти туда, но закончилось это посещение достаточно печально, Светик там сильно напился, а потом его избили, и наутро, хотя он не мог ничего вспомнить точно, все его тело оказалось покрытым ссадинами и синяками, а большой палец на правой ноге был просто отдавлен, ноготь почернел и вздулся, Светик уверял, что по этой его ноге Чуваш проехал на своем мерседесе. Но Светик особенно не унывал, он говорил, что это жизнь, что она его калечит, а потом сама и лечит, так что здесь ничего сделать нельзя.
Его отец оставил их с мамой, когда Светик был еще маленьким, он уехал куда-то на Алтай и там жил, Светик один раз даже его навестил, он уже был на инвалидности, а его жена, моложе его на двадцать лет, тоже была инвалидом. Светика отправили в армию, его мама специально сделала это в воспитательных целях, потому что при желании она спокойно могла его от этого избавить — она занимала пост первого секретаря в Петроградском райкоме партии, и у нее были связи. Светика отправили служить в войска охраны Кремля, там он организовал из солдат театральный кружок, и на репетициях переодевал их в женские платья, а сам переодевался в Марлен Дитрих. В конце концов их в таком виде застукал замполит, сперва он принял Светика за настоящую проститутку и завопил: «А эту блядь кто сюда пустил?», — но потом все стало ясно, и Светика отправили в психушку, а театральный кружок запретили. Но образ Марлен Дитрих навсегда остался для Светика любимым, потому что она была похожа на его маму, которая в молодости была настоящей красавицей. Потом Светику все же удалось найти бабки, и он уехал в Питер, где у него была квартира на Петроградской стороне, он продолжал торчать на герыче, и ему постоянно нужны были большие деньги, поэтому он вскоре был вынужден свою квартиру продать. Мама стала требовать, чтобы он лечился от наркомании, потому что ни к чему хорошему увлечение героином не могло привести, но Светик не собирался, он, конечно, очень любил свою маму, ведь это была его мать, и он любил ее больше всего на свете, но иногда она его ужасно раздражала, и он в душе даже желал, чтобы она умерла, уж тогда-то он станет полноправным хозяином жизни и квартиры, он сможет все в этой квартире переставить по собственному вкусу, а так мама все время его слишком опекала, и ему приходилось подчиняться.
Когда он приехал из Москвы рано утром и поймал машину, в этой машине сидела старушка, размалеванная и раскрашенная, прямо как клоун, и она ему вдруг предсказала всю его судьбу, даже сообщила, что в этом году с ним произойдут очень важные и значительные события, а также, что в этом году умрет его мать. Светик поселился у своего знакомого на Владимирском проспекте, они вместе торчали на герыче, и однажды Светик пошел на Грибанал, взял дури, пошел обратно, и когда проходил мимо Кузнечного рынка, к нему внезапно подошел мент и пригласил его пройти, короче, стал его обыскивать. Светик ужасно испугался, у него руки затряслись, хотя он и был еще под кайфом, но понял, что ничего хорошего теперь с ним не будет. Мент нашел у него в кармане белый порошок, составили протокол, все записали, и с ним стал работать следователь, Аслан Афиногенов, Светик называл его Слон Нафигов, он требовал, чтобы Светик назвал ему всех дилеров, всех торговцев, всех заложил, а Светик не хотел никого закладывать, потому что если бы об этом кто-нибудь узнал, с ним бы обошлись не очень ласково, отрубили бы руку или даже ногу, как обычно делают со стукачами в этой среде. Со Светика взяли подписку о невыезде, и он уже не мог уезжать в Москву, а должен был оставаться в Питере до суда, суд был назначен через два месяца. Тогда Светик решил бросить свое увлечение герычем, взять себя в руки и вернуться к нормальной жизни, ему пришлось пройти через страшные муки, даже вспоминал он об этом неохотно, несколько дней он пролежал дома пластом, его корежило и выворачивало наизнанку, потом постепенно стал выходить гулять, просто чтобы отвлечься, ходил на барахолки, покупал там старые журналы и книги, даже устроился работать в типографию, к своему знакомому Мише. Миша был азербайджанец, типография находилась в огромном старом полуразрушенном здании у Обводного канала, и там у Светика была своя мастерская, он приходил туда покурить марихуаны или же уколоться кетамином, потому что он хотя и слез с иглы и не употреблял больше герыча, но иногда ему хотелось погаллюцинировать.
Костя считал, что, как среди растений в лесу невозможно встретить какое-нибудь крупное дерево без глубоко ушедших в землю цепких корней, так и в человеческом мире невозможно найти значительного человека, чье положение в обществе не подкреплялось бы разветвленными, чаще всего родственными и семейными, связями или же крупным состоянием. Предполагать же, что в этом мире можно опереться на талант или гениальность, могут только полные кретины или циничные демагоги. Вместе с тем, всей этой сытой толпе чьих-то сыновей, дочерей, мужей, жен, любовников и любовниц, составляющих костяк современной культуры, часто даже в самые благополучные времена бывал жизненно важен какой-нибудь гений, фетиш, дабы не лишать последней надежды на успех тех, кто находится внизу, поддерживать в них веру в миф о Золушке и сказочном принце, и тем самым оградить свое благополучное существование от неожиданных потрясений и посягательств голодной и вытесненной на периферию жизни толпы.
Поэтому именно среди звезд первой величины в современной культуре чаще всего можно встретить людей совсем случайных, с самого дна, хотя их, этих звезд, единицы, а остальная многотысячная сытая толпа, укрывшись за их нарочито утрированным, ослепляющим и отвлекающим внимание сиянием, спокойно обделывает свои дела, так вести себя их заставляет все тот же животный инстинкт самосохранения. Именно поэтому сам Костя испытывал такое глубокое презрение ко всей этой «звездности» и «гениальности», и предпочитал часами неподвижно лежать в своей комнате, сосредоточенно вглядываясь в незримую даль своего духовного пути, во всяком случае, он не желал быть игрушкой ни в чьих руках.
А у нее, у Маруси, видимо, совсем иное предназначение, ей выпало быть Золушкой, попавшей на суетный человеческий бал, так уж получилось, и с этим ничего не поделаешь, более того, он, Костя, возлагал на нее такие же надежды, как в свое время Достоевский на Алешу Карамазова, который потом тоже должен был отправиться в мир с особой миссией, главное, чтобы она во всем слушалась его, так как здесь, в этой комнате, вдали от людей, его внутренний взор был абсолютно не замутнен, и он чувствовал себя капитаном, ведущим корабль сквозь бурное море. Ибо в жизни, как и в море, нужно уметь лавировать между волн, учитывать, куда и с какой силой дует ветер, главное — не сбиться и не свернуть с раз избранного пути. В конце концов, даже если окружающие пытаются тебя использовать, ты все равно можешь сам попытаться использовать их, особенно если твоя цель им не ясна, а ты сам их прекрасно понимаешь…
А настоящая цель открыта только тому, в ком есть достаточно безумия, чтобы в нее поверить, тому, кто способен сделать крупную ставку, не имея для этого никаких предпосылок, короче, тому, кто способен истребить в себе обывательский здравый смысл и идти путем чистой веры, не отступая ни на шаг, даже если весь мир против тебя, ведь обычные люди, подчиняясь здравому смыслу, на самом деле, пребывают в иллюзорном мире мнений, о котором писал еще древнегреческий философ Парменид, и только избранным открывается подлинный мир сущностей…
Человек здравого смысла подобен человеку с плохим зрением, к тому же пребывающему в темноте, от которого поэтому полностью скрыты настоящие горизонты жизни. На протяжении всего этого столетия не было и десяти лет, которые можно было бы уложить в рамки здравого смысла, и это если говорить об общественной истории, а неурядицы личной жизни оставить за скобками.
Где теперь все эти добропорядочные обыватели, рабочие, шахтеры, врачи, учителя и ученые, которые двадцать лет назад назидательно грозили ему пальцем, когда он, Костя, покинул их уютную обывательскую гавань и отправился в бурное открытое море, когда он выбросил на помойку свой диплом о высшем образовании и приступил к работе санитаром, выносил трупы в этой вонючей больнице, названной в честь этой вонючей революции, где теперь их курорты, уютные квартирки, пенсии и обеспеченная старость, которую им когда-то обещали? Их утлые суденышки тоже теперь ветром вынесло в бушующее море, но они оказались не готовы к плаванию в открытом море и благополучно идут на дно.
Прошедшие два десятилетия окончательно подтвердили его, костину, правоту — только безумие одиночки, а не здравый смысл толпы, адекватно соответствует иррациональной природе человеческой жизни.
Костя считал, что индивидуальность должна проявить себя через отклонение от общепринятого, и если ты родился слишком правильным и положительным, и тебе не хватает спонтанной непосредственности в нарушении норм, значит, тебе самому нужно долго и упорно воспитывать в себе необходимость отклонения, благодаря которому он, Костя, теперь так удачно вписался в жизнь. А Костя считал, что сам он тоже родился слишком правильным и положительным, он всегда с возмущением показывал Марусе свои детские фотографии, с которых глядел крошечный светловолосый мальчик с большим бантом на шее и огромными голубыми глазами: «Вот таким идиотом я был!» Поэтому ему приходилось очень много работать над собой.
К примеру, в старших классах школы, где он учился и где был на очень хорошем счету, как дисциплинированный и способный ученик, он по утрам, приближаясь к подъезду школы, несколько раз усилием воли заставлял себя проходить мимо него и, таким образом, прогуливал занятия, хотя ему этого совсем не хотелось. Он повторял этот эксперимент несколько раз, пока его, наконец, не вызвали на педсовет.
На таком же хорошем счету был он и у учительницы литературы, которая всегда отмечала его сочинения, часто зачитывая их всему классу и ставя ему за них исключительно одни «пятерки», и так продолжалось до тех пор, пока в одном из сочинений, кажется, по Горькому, написанному Костей с обычным блеском, учительница с изумлением не обнаружила, что одно, но ключевое, слово «мать» написано почему-то вверх ногами. Она выразила Косте свое недоумение, однако в следующем сочинении таких слов было уже несколько, а потом Костя стал сдавать сочинения, написанные вообще без знаков препинания, и с грубейшими откровенно нарочитыми грамматическими ошибками. Теперь уже в школу вызвали его родителей, и Костю едва не отчислили…
А потом, уже при поступлении в Университет, Костя усилием воли заставил себя встать и уйти с последнего экзамена, не отвечая на вопрос, потому что он хотел, чтобы в результате его забрали в армию, куда его почему-то в то время, по его словам, очень тянуло, хотя никому признаться в этом вслух он не мог. Но для того, чтобы так поступить, ему предварительно понадобилось получить на экзаменах все «пятерки» и взять билет для ответа на последнем, чтобы убедиться в том, что он его тоже знает, так как Костя уже тогда считал, что человек не должен доверять никому, и в первую очередь, самому себе, и ему было необходимо знать, что он сам этого действительно хочет…
И пусть теперь у Кости тоже не всегда есть деньги на еду, но он, по крайней мере, не тратил свою жизнь впустую, не прогибался перед начальством, не занимался всякой чепухой, то есть, в сущности, никогда не работал, а половину жизни пролежал на диване, точнее, совершал свое одинокое плавание, переходя из одной гавани в другую, из одной уютной квартиры в другую, где он всегда чувствовал себя только гостем, созерцая все эти мирки, миры и цивилизации как прошлого, так и настоящего, которые теперь вдруг зашатались и рухнули. Правда, на смену одним теперь прибежали другие старательные муравьи, которые опять тупо строят свои жалкие муравейники, но Костя к ним и подавно не имеет никакого отношения, так как он уже очень долго плыл в открытом море, и теперь ему тем более нет никакого смысла возвращаться назад, раз уж он не делал этого раньше, и это только Марусе кажется, что он лежит на диване в своей тесной комнатке, на самом деле, он чувствует себя одиноко стоящим на капитанском мостике, и его взор устремлен в темное звездное небо. Но все это невозможно понять умом, это нужно, скорее, почувствовать, и если Маруся чувствует сейчас, в это мгновение, холодное дыхание одиночества и смерти, то она его понимает…
После того, как Маруся ушла от Васи, она не виделась с ним довольно долго, но вдруг он снова позвонил ей и попросил зайти в офис по очень важному и срочному делу. Она согласилась, хотя у Маруси остался неприятный осадок от того периода, когда она работала в Агентстве «Му-му», но против Васи она почему-то не чувствовала никакой злобы, больше всего ее раздражал Гена.
На следующий день в офисе Вася протянул Марусе листок бумаги, на котором было напечатано:
«Герасим утопил Му-му, потому что своей бессловесной сущностью собачка напоминала ему самого себя. Не в силах порвать со своей ставшей невыносимой жизнью, он как бы моделирует в этом поступке акт самоубийства.» И далее, с новой строки:
«Герасим по воле барыни сделал то, чего никогда не сделает Василий Тургенев, какие бы указания сверху ни обрушились на его голову. Он никогда не бросит свою программу и своих зрителей!»
— Ну как, ничего? — заметив недоумение Маруси, несколько смущенно сказал Вася, — Это твой ответ на вопрос. Какой из двух тебе больше нравится? Так, на всякий случай, скорей всего, он тебе не понадобится. Просто я решил, что лучше я возьму с собой тебя в качестве победительницы конкурса. Со спонсорами я все улажу. Все-таки ты знаешь язык, и вообще, тебе эта поездка тоже может быть полезна. Ты ведь не была в Каннах? Наш день там будет строиться так. Утром Светка идет на рынок, покупает свежую черешню, клубнику, цветы, а ты просматриваешь всю фестивальную прессу, и когда я просыпаюсь, Светка подает мне кофе и завтрак прямо в постель, а ты рассказываешь мне все статьи, касающиеся фестиваля. Я покажу тебе гостиницы, где можно будет каждое утро брать бесплатно все журналы и газеты, в которых освещается ход фестиваля, ну там сама сориентируешься… А пока тебе надо сфотографироваться, сделать несколько больших цветных фотографий. Я же должен разослать портрет победительницы конкурса всем моим спонсорам — они напечатают твою фотографию в своих рекламных проспектах, так что уж постарайся, дорогая. Деньги я тебе, естественно, верну!
В прошлом году в Канны Вася взял с собой Вадима, юношу с крашеными в рыжий цвет волосами, одетого в розовую рубашку и костюм цвета морской волны. Маруся помнила, как в одной из прошлогодних васиных передач победитель конкурса Вадим Сапенко садился с ним в вертолет, и они летели над синим Средиземным морем, как они сидели в ресторане за столиком на берегу моря: ласковый ветерок раздувал их волосы, а услужливый гарсон подливал им красное вино в высокие тонкие бокалы… На самом деле, Вася познакомился с Вадимом еще задолго до конкурса, в Москве на телевидении, где Вадим был продюсером одной из программ, они с Васей быстро подружились, хотя Светка и говорила Марусе, что не понимает Васю, и что Вадим ужасно противный. После поездки в Канны Вадим еще пару раз появился в офисе, у него были намечены какие-то проекты, которые он хотел реализовать вместе с Васей, но из этого, вроде бы, так ничего и не вышло.
Вася ждал Марусю в буфете Дома кино, он предложил ей водки, и они сели за столик, где за початой бутылкой уже сидела Светка.
— Ну показывай свои фотографии — Вася нервно выхватил снимки у нее из рук и стал их перебирать.
Я как-то не очень здесь получилась, — неуверенно сказала Маруся.
Теперь фотографии показались ей совсем неудачными, во взгляде, да и во всем ее облике на портрете явственно чувствовалась какая-то дебильность.
Нет, кайфово, просто класс! — восхищенно приговорил Вася, не переставая хихикать и поглядывая то на Марусю, то на ее изображения, разложенные перед ним на столике. — Это просто класс! Я, пожалуй, выберу эту и эту — мне нужно всего два, а эти ты оставь себе на память! — Вася отложил в сторону два снимка, где Маруся казалась себе особенно опухшей, а взгляд ее был особенно грустным.
— Ну вот, дорогая, теперь твое изображение будет красоваться на рекламных проспектах. Ты, кстати, не забывай всем говорить, что ты домашняя хозяйка.
— Почему это? — вдруг возмутилась Маруся. — Я никакая не домашняя хозяйка, я…
— Дорогая, — Вася примиряюще положил свою руку на руку Марусе, — ну подумай сама, разве плохо быть домашней хозяйкой, которую содержит богатый муж? Вот, например, моя сестра Элка домашняя хозяйка, и очень этим довольна, она ездит в отпуск на Канары или на Багамы, муж покупает ей шубы и платья, что же в этом плохого? Тебе что, это не нравится? Что зазорного ты в этом нашла?
Тут у столика возникли два молодых человека — один все крутился, вертелся, подпрыгивал, просто не в силах стоять спокойно, у него был утиный нос, маленькие бегающие светло-зеленые глазки и небольшой красный причудливо изогнутый ротик, откуда торчали хищно заостренные зубки, второй же, полный, флегматичный юноша с большими светлыми вытаращенными глазами молча стоял, он только один раз улыбнулся, и тогда Маруся обратила внимание на то, что у него все передние зубы белые, а два боковых резца золотые, и в каждый из них вмонтирован крошечный бриллиантик, отчего улыбка получалась просто ослепительная.
— Это мои друзья из «Аргументов и фактов», журналисты, — представил их Вася, — А это Маруся, домашняя хозяйка, приехала к нам из Курска.
— А вы, Маруся, случайно не привезли из Курска нам привет от Александра Руцкого?
— Да, точно, как вы угадали, Маруся как раз собралась передать нам привет от Руцкого, — быстро сказал Вася, не давая Марусе вставить ни слова.
— Ну так что, — снова обратился к ним Вася, — вы даете мою рекламу? Вы должны написать статью размером не меньше пяти тысяч знаков, и на забудьте упомянуть моих спонсоров — шоколадную фирму «Хоббит» и фирму «Posso-шок». А я, когда буду вести репортаж с каннского фестиваля, покажу вашу газету. Вот она — Вася ткнул пальцем в Марусю — победитель моего конкурса, будет читать ее, и мы крупным планом дадим название «Аргументы и факты». Заметано? Кстати, дайте-ка мне вашу замечательную газетку, а то как вы хотите, чтобы я ее показывал?
Флегматичный юноша достал из кармана своей куртки сложенную в несколько раз газету и молча протянул Васе.
— А получше, не мятой, у вас не найдется? Ну ладно, постараюсь не потерять.
Марусе и Косте дверь открыл Венечка, воспитанник Родиона Петровича, дебильный юноша с огромными красными губами, большими черными глазами навыкате, он беспокойно, дрожащим от волнения голосом, приветствовал Марусю:
Здравствуйте, проходите, а то папа уже заждался.
Вы не думайте, что у нас тут такой район опасный, так мы здесь живем. Это ничего, здесь и приличные люди живут. Вот, проходите.
В коридоре коммуналки он провел Марусю к самой последней двери, помог снять полушубок.
Ах, какая у вас шубка американская. Ну вот вам тапочки, не американские, а наши, русские.
В длинной, вытянутой, как кишка, комнате у стены стоял деревянный стол, покрытый клеенкой, возле него сидела старушка с приплюснутой сверху и снизу головой и дебильным выражением лица. Увидев Марусю, она открыла рот и радостно заулыбалась, и Маруся обратила внимание, что у нее на зубах были надеты железные проволочки, какие носят дети для исправления прикуса. Из-за шкафа, отгораживающего угол комнаты, вышел Родион Петрович, на нем были клетчатые брюки и клетчатая рубашка.
Впервые Маруся увидела Родиона Петровича, как он пел и играл на аккордеоне в Екатерининском садике. На нем был рыжий парик, длинное черное пальто, похожее на шинель, у него были большие выразительные голубые глаза, обрамленные длинными рыжими ресницами и мощная волевая челюсть. Вокруг него собралась целая толпа старушек, как-то так получилось, что он сам первым подошел к Марусе, а когда узнал, что она работает в газете, сразу же весь затрясся, стал приглашать ее к ним домой, обещал рассказать ей что-то очень интересное о каком-то своем очень важном замечательном проекте. Костя был категорически против того, чтобы Маруся шла к ним в гости, в конце концов, он решил пойти с ней сам, потому что Марусю как раз пригласил на свой день рождения в один из ночных клубов Николай, и ей очень хотелось подарить ему что-то необычное, ей казалось, что было бы забавно, если бы Родион Петрович спел у него в качестве подарка от Маруси.
Выйдя из-за шкафа, Родион Петрович сразу же схватил гармошку и запел: «Мама, я жулика люблю», потом он еще пел про журавлей, которые рыдают над ним, улетая вдаль, про двор, занесенный снегом белым, пушистым и кого-то, стоящего у дверцы голубого такси, про дымок от сигареты, дымок голубоватый, про то, как кокаина серебряной пылью все дороги его замело, про то, что ему хочется друга и друга такого, чтоб сердце пылало при мысли о нем, и про то, как расцвели каштаны в Киеве весной, и его прическа расцвела на воле, — он пел как-то особо выразительно, с особенным чувством, стреляя глазами в сторону Кости…
Раньше Родион Петрович вообще в Ленконцерте работал, а потом ездил в дома отдыха, там выступал, песни пел, плясал. И дамы там были такие культурные, интеллигентные, его они очень ценили и обожали, такие, знаете, женщины зрелого возраста, на отдыхе, в свободное от работы и забот время, ищущие тепла и понимания. А потом все развалилось, и Ленконцерт, все, и они стали петь на улице, пришлось, а он даже дворником работать устроился, по утрам рано встает, в пять часов, и работает часа три-четыре, очень устает, но все равно, от искусства отказываться не хотел, ни за что, для него ведь это самое главное, вся жизнь его в этом, пение, музыка, он, как птица, всю жизнь пел, не думая ни о чем. Веню он на улице нашел, он там подрабатывал, Веня, а теперь с ним живет, он его всем обеспечивает, помогает ему из этого болота выбраться, они с ним по улицам ходят и песни распевают, на аккордеоне играют, и людям их песни очень нравятся, правда, милиция в последнее время так стала свирепствовать, просто ужас, просто до озверения какого-то дошла. Раньше он всегда пел у Гостиного Двора, в переходе, тогда была еще его жена-покойница жива, она рядом с ним всегда стояла и в бубен била и приплясывала так, в такт, она лет на сорок его старше была или на тридцать, он точно не знал. А теперь она померла, соседи на той квартире ее отравили, он был уверен, что ее отравили, они уже давно ее ненавидели, а после того, как она его к себе поселила, ему тогда жить было негде, и она его к себе взяла, так они просто в такую злобу впали невероятную, что даже он их боялся. Вот они ее и отравили, он видел, как она перед смертью мучилась, точно отравили. А он потом с той квартиры вообще уехал, комнату эту, что ему покойница оставила, за бесценок продал и уехал, только бы от них подальше, а то и его убьют, как ее. А тут они опять в переходе с Венечкой пели, и вдруг милиция подходит, их прямо под руки подхватили и потащили. Вокруг все стали заступаться, возмущаться, говорят: «Оставьте их, не трогайте, это певцы, они поют!» — а этим-то все равно, схватили их, как преступников каких, прямо потащили, аккордеон у него отобрали, и потом схватили его прямо за руки, за ноги и швырнули в эту машину ихнюю, и Веню тоже, грубо так, чуть кости не переломали, и аккордеон за ним прямо со всего размаху туда же закинули, он даже испугался, не дай Бог, повредят, инструмент музыкальный, дорогой, вещь тонкая, но к счастью, ничего, выдержал. А потом такие унижения, не дай бог, сидели они в этой их будке прозрачной за стеклом, умоляли в туалет выйти, Веня даже описался, представляете.
А вообще он по кладбищам любит гулять, там могилки разные, он надписи читает, ходит, там птички разные летают, собачки, кошки бездомные бегают, он их хлебом кормит, специально для них объедки припасает. Вот недавно шел он через мост через большую реку, не помнит уже, как называется, тут у нас в центре протекает, огромная река, самая большая в нашем городе, смотрит, там уточки плавают, а некоторые даже в лед вмерзли. Ему их так жалко стало, даже слеза прошибла, он так стоял на них и смотрел, даже забыл, куда шел, ей-богу, потом на концерт опоздал, его так ругали. Но они, вообще-то, на месте не стоят, они развиваются, прогрессируют. Они тут познакомились с одним бизнесменом, у него свое кафе, и еще он фильмы снимает, как кафе называется, он забыл, он ему карточку свою дал, там по-иностранному написано, но если нашими буквами читать, то «Сат» получается, «Сат» какой-то. И он настоящий интеллигент, просто высшей пробы, такой, знаете, интеллигентный, культурный, образованный человек, прямо как Маруся, ну интеллигент высшего класса. Так он им такую программу предложил, все продумано, ни одного лишнего слова, все просто так сделано, прямо как по нотам расписано. Вот сперва выходит Веня и говорит такой текст: «Уважаемые дамы и господа, бывшие жители Советского Союза, рабочие и колхозницы, дырки и батоны, народ Израиля, швабры, целки и лахудры, сейчас вы увидите первое в своем роде и очень необычное выступление Ванессы Израйловны, дочери белого офицера, посетившей нас с краткосрочным визитом». А потом Веня выходит опять, в шляпке с вуалью, в своем костюме и поет романс: «Не смотрите вы так, сквозь прищур своих глаз, джентльмены, бароны и леди…» А потом выходит Люба, и вот тут ее дебильность такая, уж пусть она не обижается, он от чистого сердца говорит, он человек простодушный, эта ее дебильность очень кстати приходится. Потому что она так улыбается, приплясывает, на ней такой колпак зеленый, и в руке у ней такой большой надутый шар, как переземратив, и она этим шаром всех вокруг по головам хлопает, и никто не обижается, все смеются, радуются, а потом выходит он, в цилиндре и во фраке, и с аккордеоном и поет «Перестаньте рыдать надо мной, журавли…» И вот этими журавлями все заканчивается. Каково! А мы ведь действительно все бывшие жители Советского Союза, мирные, безобидные, простодушные, приветливые, мы именно такие, так что это очень хорошо придумано. Ведь это совершенно новый стиль, такого никогда нигде не было! Это и был тот самый замечательный проект, о котором он обещал рассказать Марусе во время их первой встречи. Он был уверен, это совершенно новое, и они с этим выступлением будут иметь такой успех, даже не верится. И Марусю они пригласят на это их — как называется, когда первый раз фильм показывают? — премьера? Он также считал, что к этому номеру очень подошли бы еще и стихи, которые написала их хорошая знакомая Мина Абрамовна: «Я дочь СССР, а мужа вылечит советский диспансер…», но он пока не решился их предложить тому интеллигентному автору проекта, решил пока подождать.
А Мина Абрамовна, она в Зеленогорске живет, они к ней Марусю обязательно свозят. Она их лечит, от всех недугов лечит, она и художника Блинова от депрессии лечила, он в одну женщину влюбился и такой грустный был, весь белый, жить не хотел, ничего не ел, ничего ему не надо было. Ей девяносто лет, Мине Абрамовне, она такая дама красивая, видная, носит такой паричок небольшой, волос у нее совсем нет, совсем лысая голова… А красоту он все равно любит, цветы, они вот даже помогают торговцам на рынке Сенном цветы сохранять, вечером забирают у них ведра с цветами, и дома они у них всю ночь стоят, а рано утром опять относят, и разгружать цветы помогают, овощи разные, картошку, капусту тоже. А эти цветы бумажные, что у них на шкафу навалены, на стенах гирлянды и на потолке, это все тетя Люба делает, она тоже красоту очень любит, в этом они с ней похожи. А Донатас, их третий товарищ, с которым он еще в Сочи познакомился, когда по Союзу ездил с концертами, он корыстный, экономный очень, но очень влюбчивый, все ради любви, летит, как мотылек, тыщи швыряет, все любовь ему, любовь. А у Любы ведро эмалированное взял, капусту, говорит, засолю, и не отдает, уже два месяца прошло, Люба злится, спрашивает, где ведро, и он ему говорит: «Верни ведро Любе, раз брал, так отдай», — а он все забывает, так и не вернул до сих пор. Люба уж с ним разговаривать не хочет. У него один любовник богатый был, он вообще запретил ему в женское платье наряжаться и парик носить, а раньше Донатас только так и ходил. Вообще, с Донатасом жить — одно удовольствие, очень порядок любит, когда они с ним жили, он в шесть утра встанет, всю посуду вымоет, все полы намоет, все постирает, разложит красиво — одно удовольствие.
У них соседи такие страшные, они их боятся, все стараются тихо делать, чтобы, не дай бог, не услышали, не пожаловались, они люди мирные, боязливые, всего боятся, когда темно, по улицам вообще стараются не ходить, их каждый обидеть может, нападут, побьют, ограбят, не дай бог! И Марусе с Костей он не советовал по улице в темноту гулять, так что если они хотят, то они у них до утра могут переждать, посидеть, чайку попить, поговорить, а он песни им свои лучшие споет, а то тут депутата Старовойтову недавно убили, просто ужас, что творится. А вообще-то Маруся, если бы хотела, тоже могла бы с ними петь, она ведь прирожденная готовая солистка, и голос у нее такой хороший, звонкий, наденет блестящее платье с декольте, с разрезом, выйдет вперед и запоет, а он сзади на аккордеоне подыграет, а Веня подпевать будет. А то у них настоящей женщины в ансамбле нет, только Люба, но она петь не может, у нее зубы плохие, внутрь растут… Как только Родион Петрович кончил петь и рассказывать свою жизнь, сразу же начал говорить Венечка.
Он тоже произнес длинную пламенную речь о своем несчастном детстве, о том, какие у нас жестокие нравы, как много теперь на улицах преступников и бандитов, и как, вообще, все было бы ужасно, если бы не было в этом мире меценатов, которые помогают и поддерживают таких бедных и несчастных артистов, людей искусства, как он и Родион Петрович. Венечка, вообще, считал, что все проблемы в России будут решены только тогда, когда к власти здесь, как и в Америке, придут богатые семьи, то есть пары, вроде Кости и Маруси…
Костя тогда, кстати, сразу обратил внимание на то, что в их тесной комнатке, украшенной бесчисленным количеством бумажных цветов и фотографий голых мускулистых атлетов, он насчитал, по крайней мере, три импортных видеомагнитофона, два телевизора и одну японскую видеокамеру, это только то, что лежало на поверхности, поэтому он сказал Марусе, чтобы она ни за что не давала им свой телефон, что было уже поздно, так как они его уже знали, тогда, хотя бы, свой адрес, Костя считал, она им не должна называть ни в коем случае…
В последнее время мама давала Марусе деньги все реже и реже, даже в долг, поэтому, когда мама предложила Марусе треть суммы от той, которую она вложила в банк «Лицейский» в надежде получить высокий процент, Маруся сразу же согласилась. Если Марусе удастся забрать эти деньги назад, то на причитающуюся ей сумму она бы смогла жить по меньшей мере три месяца.
Отделение банка находилось недалеко от маминого дома, на улице Зины Портновой, однако уже через месяц после того, как она вложила туда свои деньги, когда она сама пошла в этот банк, там все оказалось закрыто, а на дверях висела табличка, что банк переехал на Полюстровский проспект, и так далеко маме ехать уже не хотелось.
Маруся потащилась на Полюстровский, где не без труда на отшибе, посреди строительной площадки, она нашла здание, на котором висела табличка «Банк Лицейский», но оно тоже оказалось закрыто, а на дверях висело объявление, что в ближайшее время выплата процентов по вкладам производиться не будет, так как в банке переучет, был, правда, указан еще и номер телефона, по которому нужно звонить в случае возникновения каких-либо вопросов. Маруся отправилась домой и стала звонить по этому телефону, но там все время было занято, а если и удавалось дозвониться, то трубку никто не брал. Маруся опять потащилась туда, однако объявление на дверях на сей раз оповещало, что все выплаты будут производиться по новому адресу, на Новоизмайловском проспекте.
У дома на Новоизмайловском толпилось огромное количество каких-то сумасшедших пенсионеров, все они громко чем-то возмущались… У стеклянной двери стоял охранник, который всем объяснял, что сегодня, а была всего половина одиннадцатого, прием уже окончен, деньги закончились, нужно ждать следующего приема, а когда он начнется, никто точно сказать не может, так что волноваться особенно не стоит, все должны понять, какое сейчас тяжелое положение в стране, какой кругом бардак, поэтому всем нужно успокоиться и расходиться, он бы и сам дал с удовольствием из собственного кармана денег всем, кто их так ждет, но их у него, к сожалению, нет… И охранник даже достал из-за пазухи прекрасный кожаный бумажник, открыл его и продемонстрировал всем собравшимся: там действительно ничего не было, бумажник был совершенно пуст. Тогда высокий седой мужик с красной физиономией в каракулевой шапке предложил составлять списки на запись на прием, таким образом будет создана очередь. Все тут же выстроились к нему, он достал блокнот и стал всех записывать, следующее собрание он назначил через неделю…
Через неделю Маруся снова отправилась на Новоизмайловский, хотя она вообще ненавидела эти новые районы, нагонявшие на нее тоску, и старалась туда не ездить без особой нужды. Огромные пространства, серые одинаковые дома и ветер, гоняющий по лужам и грязи бессмысленные листья и бумажки… И только мысли о том, что она может получить на халяву бабки, вложенные мамой в этот банк, заставили Марусю тащиться туда. Уже издали она опять заметила огромную толпу, как на митинге, в центре на каком-то возвышении стоял все тот же краснорожий мужик в каракуле, он зачитывал списки, проводил перекличку, из толпы выкрикивали: «Я!», «Здесь!», «Присутствует!», — Маруся тоже протиснулась поближе к мужику, у него в руке была целая пачка густо исписанных листков, вырванных, очевидно, из школьной тетради в клетку, она долго стояла, ожидая, пока он назовет ее фамилию, но он все называл других, рядом с Марусей трясущийся старичок с орденским планками на пиджаке жаловался другому, что вот, он вложил все свои средства в этот поганый банк, а ему так нужны деньги на лечение, ему постоянно необходимо дорогостоящее лекарство, иначе он просто умрет, и вот теперь он не может получить назад свои деньги, а он имеет на это право больше, чем кто бы то ни было, ведь он инвалид войны, ветеран, персональный пенсионер…
Тем временем перекличка закончилась, но Маруся так и не услышала своей фамилии, а пробиться к этому мужику было не так просто, его окружало плотное кольцо людей, каждый из которых хотел что-то у него выяснить, в конце концов, ей это удалось, оказывается, ей было нужно подать еще и официальное заявление, и только тогда ее окончательно внесут в список, тот список, в который она записалась в прошлый раз, был предварительным, а официальные заявления принимал вахтер. Маруся хотела тут же написать заявление и отдать его, но у нее с собой не было паспортных данных мамы, поэтому нужно было приехать сюда еще раз, причем обязательно в среду, потому что заявления там принимались только по средам, с восемнадцати до двадцати часов. Маруся поехала к маме, они вместе составили заявление, где мама еще и указала, что она блокадница, блокадный ребенок.
Через неделю Маруся снова отправилась на Новоизмайловский, к шести часам там уже выстроилась целая очередь, на сей раз на подачу заявления к вахтеру, она отстояла в этой очереди целый час, наконец ее заявление все же приняли, предупредив, что через неделю она должна появиться на перекличке. Еще через неделю Маруся снова прибыла на перекличку, но на улице перед домом уже никого не увидела, вся толпа на сей раз была в вестибюле банка, где на всех стенах висели длинные списки, в беспорядке развешанные листки, на которых от руки были написаны фамилии. Люди, лихорадочно отталкивая друг друга, метались от стены к стене в поисках своего имени. Наконец, на одном из листков Маруся обнаружила фамилию своей мамы, однако, что делать дальше, она не знала, так как никто больше никаких указаний не давал, и даже дату следующей переклички узнать больше было не от кого. Рядом с Марусей стояло несколько растерянных пенсионеров, тоже тупо уставившихся на листок со своими именами, судя по всему, их волновала та же проблема, что и Марусю. Видимо, мужику в каракулевой шапке надоело организовывать толпу, и он просто вывесил списки на стены. Дверь, ведущая во внутреннее помещение банка, была плотно закрыта, на вахте тоже никого не было. Больше Маруся туда не ездила. Маме она сказала, что подала заявление и теперь надо ждать, когда подойдет очередь на получение денег, ее оповестят…
Маруся все-таки пригласила Родиона Петровича и Венечку в клуб на день рождения Николая. Правда, перед этим ей пришлось долго им объяснять, где находится Владимирская площадь, рядом с которой находился этот клуб, и как туда Родион Петрович и Венечка должны добираться от Технологического института, где они жили. Наконец, Родион Петрович, кажется, что-то вспомнил, он когда-то видел этот собор, что там находится, и даже рядом с ним несколько раз пел.
Родион Петрович явился в своем рыжем парике, клетчатых брюках, пиджаке и кепке, как у Олега Попова, Венечка — в цилиндре, белых перчатках и черном сюртуке, с бабочкой на шее, он сразу же стремительно прошел в зал и присел к столику Николая, потом вдруг схватил чашку у него из-под носа и лихорадочно из нее отхлебнул, приговаривая:
Ах, какое хорошее кофе! Люблю кофе, просто жить без него не могу! — а потом огляделся по сторонам, окинув взглядом присутствующих в зале гостей Николая, среди которых было довольно много одетых в вечерние платья и наряды девушек и вдруг, визгливо захихикав и подпрыгнув от чрезмерного возбуждения, разразился длинной тирадой:
Вот, блядь, понимаешь, на хуй, пришли какие-то проститутки, какие-то бляди, они ничего не умеют, абсолютно ничего не понимают, и вот эти бляди открыли свои варежки, вылупили свои буркала, и давай плати нам! А за что тебе платить, на хуй ты вообще сдалась, блядища чертова, ты ни хуя не умеешь, ни хуя не знаешь, только можешь жопой своей вертеть, как корова, вот и все! Не знаю, я этого просто не понимаю! Я, конечно, извиняюсь, но это же ни в какие рамки!
Во время этих слов Венечка стянул с себя белые перчатки и небрежно, изображая элегантность, обмахивался ими, кокетливо глядя на Николая. Видимо, он решил, что все эти девушки тоже приглашены развлекать Николая, петь и танцевать. Николай после этого вечера несколько раз говорил Марусе: «Ах Марусенька, что это за мудаков ты тогда ко мне привела на день рождения!»
А Родиону Петровичу Николай очень понравился, он сказал Марусе, что у Николая такая замечательная улыбка, и в общении он не делает никакого различия между мужчинами и женщинами, как это обычно бывает.
Позже Маруся еще раз пришла к Родиону Петровичу в гости, на сей раз с Алексеем Бьорком, предварительно позвонив и предупредив, что она будет с одним очень состоятельным шведским меценатом, ценителем уличного пения, Родион Петрович тоже сразу схватил гармошку и играл, пожалуй, не менее выразительно и задушевно, чем в присутствии Кости. А Алексей, в ответ на их бурные излияния по поводу любви к искусству и своей бедности, вдруг зачем-то тоже стал говорить им, что они с Марусей такие же бедные артисты и художники, и даже еще гораздо беднее, чем они, что им часто тоже совсем нечего есть, что сам он пенсионер — в это мгновение он даже достал из кармана свою пенсионную книжку и пихнул им в нос — что у него единственные ботинки, которые он носит и зимой, и летом, и все это является следствием его большой-большой любви к искусству и литературе… Зачем он все это стал им говорить, Маруся так и не поняла, потому что заранее его предупредила, в каком качестве его туда приглашают. В то время, когда Алексей все это говорил, Маруся заметила, как Родион Петрович и Венечка переглянулись, и глаза у обоих как-то сразу потухли, они почти одновременно оба поникли и, кажется, потеряли всякий интерес и к Бьорку, и к Марусе, после этого визита они уже ей больше никогда не звонили.
Маруся сидела на своем рабочем месте, вдруг в комнату вбежал запыхавшийся взъерошенный Саша. Вчера вечером, возвращаясь к себе домой, он вышел у метро «Технологический институт», прошел по темной улице, завернул во двор, и стал искать нужный подъезд, поскальзываясь на сугробах — пошел снег, сверху падали большие мягкие хлопья, медленно кружась, и Саше захотелось просто встать и смотреть, запрокинув голову, в темное небо, от вида беспрестанно падающих белых хлопьев у него начинала кружиться голова, реальность постепенно отодвигалась куда-то на второй план, а потом и вовсе исчезала, и он вновь переживал уже почти забытое ощущение счастья, как когда-то в юности, когда они с друзьями сидели у лесного костра, вдыхая его горьковатый дымок, и пели: «Сырая палатка — и почты не жди…»
Беспричинное ощущение счастья теперь чаще всего приходило к нему, когда он внезапно замечал ярко-синее небо между высокими узорными башнями домов у Пяти углов — тогда он внезапно радовался, что живет, и это вычлененное и высеченное из темного бессмысленного хаоса жизни ярких светлых искр и составляло самый главный смысл — другого не было. Ему не хотелось думать о будущем, а уж тем более вспоминать прошлое — он давило на него и мешало стремительно продвигаться вперед, как бы задерживало на месте. Он стремился воскресить в себе ощущение полета — когда как будто летишь над землей, раскинув руки, и полностью сливаешься с лесным озером, маленьким едва журчащим ручейком, полянкой с ромашками на опушке леса, вообще, со всей окружающей природой, растворяешься в ней и становишься ее неотъемлемой частью — и в этом для него заключалась самая главная радость жизни …
Эту историю с некоторыми вариациями в ту или иную сторону Маруся слышала от Саши уже несколько раз. Вчера он возвращался домой с открытия выставки, куда был обязан сходить по долгу службы как сотрудник отдела культуры газеты. На вернисаже было много шампанского, потом они вышли с одной журналисткой на крышу Эрмитажа и там целовались, их фотографировали, и Саша обещал Марусе показать фотографии, как только те будут готовы.
«Саша напоминает мне городского сумасшедшего — как-то сказала Марусе Арина, бойкая художница со стриженными ежиком крашенными в оранжевый цвет волосами. Саша ходил всегда в одном и том же пиджаке и потертых джинсах, Марусе же он, скорее, напоминал своими длинными волосами, очками и всклокоченной бородой революционера-разночинца. Он жил у своего приятеля, раньше у него были жена и два сына, но потом жена его выгнала.
Саша вел дневник, записывая туда все свои мысли. Но однажды он открыл дневник — он как раз был в хорошем настроении, пришел из Публичной библиотеки, где прочитал новый роман Умберто Эко — собираясь записать туда очередную мысль, и вдруг рядом с фразой «Когда целуешь француженку, чувствуешь, что целуешь всю Францию», он обнаружил написанные на полях красной ручкой слова: «А пошел ты на хуй!».
Подобными грубыми замечаниями и комментариями был исписан весь его дневник. Например, рядом с сашиными рассуждениями по поводу дорогого французского вина и сексапильности голливудских актрис было написано «Вот, блядь, мудак!» и «Мудило!». И все это сделала его жена! А ведь его жена была художницей, окончила училище Серова, а отец ее был даже изобретателем, и вообще, семья очень интеллигентная. Хотя странности у нее с самого начала были. Надо было ему еще до свадьбы на это внимание обратить — идут они по улице, а она вдруг сядет на тротуар, и сидит — огромная, толстая и не сдвинуть ее никак. А он внимания на это не обращал, ему это казалось нормальным, ну каприз, что ли, какой-то, непонятно… А потом она, стоит выпить немного, завалится на диван и храпит, а ему поговорить хочется — и не с кем. Саша попытался спросить у жены, почему она так поступила — влезла без спроса в его дневник, ведь чужие дневники и письма читать нехорошо, а она даже говорить не захотела, захлопнула дверь и приказала ему искать себе другое жилье. Саша уже несколько месяцев не получал зарплату у себя на работе, и денег у них не было, в их семье наступил настоящий голод. Жена выбросила даже его письма, которые он писал еще в армии и так берег.
Когда он служил в армии, то по ночам по его просьбе его будили, и он слушал Би-Би-Си. Но об этом быстро прознал майор — приемник забрали, а Сашу вызвали «на разговор». Правда, Саша был благодарен майору — тот не стал передавать дело дальше по инстанции, а ограничился поучительной беседой и гауптвахтой. Потом Саша влюбился в белокурую пышногрудую дочь одного офицера — он ходил за ней всюду, а однажды даже не явился ночевать в казарму. За это его тоже отправили на гауптвахту. Он не отказался от своей любви, но офицер свою дочку вскоре отправил в город, и Саша долго еще писал ей пламенные письма, пока не получил от нее короткую записку «Я вышла замуж. Отстань!» По этому поводу, и о женщинах вообще, в дневнике у Саши было написано: «Женщины прекрасны, как весна, но непостоянны, как осенняя погода»». Теперь на полях рядом с этой фразой красовалось выведенное жирными красными чернилами слово «Козел!!!».
Все сашины письма были аккуратно разложены в пластиковые папочки, которые жена себе оставила, а письма все выбросила на помойку. Он был просто ошарашен, ничего не мог понять, и даже его сыновья не захотели с ним говорить — все ушли, оставив его одного на кухне. Они жили тогда в коммуналке — у них было две комнаты. Саша перенес все свои вещи в комнату поменьше, а жена с детьми заперлась на ключ в другой и больше с ним старалась вообще не встречаться. Через месяц у него пошла горлом кровь и его положили в больницу с диагнозом «открытая форма туберкулеза». Он долго лечился, а когда выписался из больницы и пришел домой, обнаружил, что его комнату уже заняли сыновья, а все его вещи сложены в картонные коробки и выставлены в коридор. Жена снова предложила ему поискать себе другое жилье, потому что содержать его она не собиралась. Саша не знал, что же ему делать: родители умерли, родственников у него не было, знакомые и друзья на все его просьбы отвечали уклончиво — кому нужен в квартире посторонний человек. Когда он уже, было, совсем отчаялся, его приятель, одинокий художник, предложил ему комнату у себя в мастерской. Саша был счастлив, он просто не верил в свою удачу, но это была правда — у него нашелся друг.
Через некоторое время жена стала звонить ему и требовать денег — и он никогда ей не отказывал, давал — ведь у них же дети… Правда, в газете, куда ему удалось устроиться работать, деньги ему платили очень редко — к нему там относились снисходительно и смотрели на него свысока…
Саша признался Марусе, что и теперь, как тогда в армии, любил слушать радио, особенно по ночам, когда далекие голоса, английские, французские, итальянские вещают о чем-то непонятном, неведомом, и он кажется себе маленькой, потерянной, крошечной песчинкой в этой бесконечной далекой вселенной… И еще, с тех пор он не мог спокойно видеть бомжей, однажды летом он шел мимо Екатерининского садика и там в кустах вдруг заметил, что кто-то шевелится, он присмотрелся — двое бомжей разложили на траве газетку и аккуратно поставили на ней угощение: бутылочку стеклоочистителя, два плавленых сырка и четвертинку хлеба. Саша чуть не заплакал от жалости и умиления, он так живо вообразил себя на их месте, что ему стало не по себе. И он проникся еще большей признательностью к другу, совершенно бескорыстно приютившему его.
На пресс-конференции в Эрмитаже, с которой вчера возвращался домой Саша, Маруся была тоже, правда на крышу она не пошла, так как ей надо было пораньше вернуться домой. Традиционный для такого рода мероприятий фуршет на сей раз проходил в просторном директорском кабинете, где были заранее раставлены столики с бутылками с водой, белой и зеленой, с соками, шампанским, и белым вином «Монастырская изба». Пожилая перекошенная журналистка с косматыми седыми волосами и красными рачьими глазками за толстыми стеклами очков задала свой традиционный вопрос: «А сколько будет стоить вход на выставку?» «Недорого, всего двадцать рублей.» «Ну и ну, двадцать рублей, как в баню. Так что же — в бане чистота, а здесь красота!» Она радостно заулыбалась, и в очередной раз протянула сморщенную ручку, изуродованную артритом, к бутылочке с ярко-зеленой водой «Тархун». Эту журналистку Маруся встречала практически везде, на всех выставках, артистических тусовках, премьерах спектаклей и фильмов и даже на показах мод. Она ходила сгорбленная, в одной ее руке всегда была старая потрепанная кошелка, и она всегда первой набрасывалась на предложенное в качестве фуршета угощение. Эта пожилая журналистка всегда носила с собой полиэтиленовый пакетик, деловито доставала его из кошелки и складывала туда съестное, если же с ней рядом оказывался кто-нибудь из коллег, она, не поднимая глаз, поясняла: «Мне еще сегодня ехать на Лесной проспект, там будет пресс-конференция. Вы туда собираетесь?» — и, не дожидаясь ответа, тихо отходила в сторону, продолжая жевать зажатое в иссохшей руке печенье.
Другая журналистка, работавшая на петербургском радио, Кармелита, с апоплексически красным лицом и ярко раскрашенным красной помадой огромным ртом и огромными вытаращенными глазами под иссиня-черными бровями при первой же встрече сообщила Марусе, что она близко знакома с консулом и атташе по культуре Франции, так что если что, то Маруся всегда может к ней обратиться. Маруся слушала ее очень рассеянно, все это ее не очень интересовало. Однако на одном из приемов она действительно подошла к консулу и демонстративно, чтобы Маруся видела, с размаху хлопнула его по плечу и громко произнесла: «Ну че, как дела? Ах, блядь, еб твою мать, как тут все на хуй, культурно! Выставка-то ничего! А где этот хуй?» — видимо, она имела в виду атташе по культуре Франции. Маруся с изумлением выслушала эту ее тираду, консул же воспринял все очень спокойно, с истинно французской галантностью, добродушно кивая в такт каждому ее слову, может быть потому, что он приехал в Россию совсем недавно и не очень хорошо говорил по-русски. Потом Кармелита стала рассказывать Марусе, что она уезжает в Германию, так как вышла замуж за немца, и вообще, в эту страну больше на хуй не вернется. Но вчера на пресс-конференции, ровно через месяц после того приема, она появилась снова, в ярко красном пидажке и желтой шелковой блузке, и сказала, что пока что будет ездить туда-сюда, и еще подумает, переезжать ли ей навсегда в эту хуеву Германию…
Костя не знал, как осознает себя Маруся, но он сам от своего «я» уже давно избавился, ведь в Древнем Египте, например, и в Китае, да и в Европе в Средние Века этого «я», индивидуума, в нынешнем понимании не существовало вовсе. Так что Костя уже осуществил сдвиг лет этак на семьсот-восемьсот по меньшей мере, и то, что Маруся перед собой видела в данный момент, был не совсем он, а только его оболочка, не менее иллюзорная, чем тот факт, что он лежит на диване в своей комнате, а не находится на капитанском мостике в открытом море под звездным небом.
На эту тему, кстати, у Хайдеггера, есть замечательная цитата…
Костя вскочил с дивана, подбежал к книжной полке и, выхватив из длинного ряда книг немецкое издание «Sein und Zeit» в золоченом кожаном переплете, подарок Кати, стал лихорадочно его перелистывать в поисках нужной цитаты, но, так и не обнаружив того, что искал, с яростью изо всех сил швырнул книгу об пол.
Маруся вздрогнула — резкий, как выстрел, хлопок упавшей книги вывел ее из полугипнотического забытья, в которое ее часто повергали длинные костины рассуждения. Это ее сомнамбулическое состояние тоже часто выводило из себя Костю, так как иногда ему вдруг начинало казаться, что она его совсем не слушает, а просто спит, а иногда ему, вроде бы, было совсем все равно, слушает его кто-нибудь или нет, так как при разговоре он никогда не обращался непосредственно к собеседнику, а сидел, напряженно уставившись в одну точку, и Марусе даже казалось, что он с таким же успехом мог бы говорить не с ней, а со стеной.
Ее вообще пугали резкие перепады костиного настроения, так же, как и образ бушующего моря, к которому он постоянно возвращался в своих речах. Всякий раз после своего очередного попадания в дурдом, Костя подробно описывал ей свои мании и видения, которые его посещали в ненормальном состоянии, и Маруся прекрасно помнила, как в Париже Костя тоже воображал себя капитаном, и к чему это привело. Но самый большой испуг Маруся пережила много лет назад, в тот год, когда Костя впервые угодил в дурдом.
Маруся возвращалась домой поздно вечером из детской поликлиники, куда по настоянию Кости накануне устроилась работать уборщицей, предварительно тоже предав торжественному сожжению свой диплом. По мнению Кости, ей просто необходимо было так поступить, потому что именно такому испытанию подвергали себя арабские принцы, отправляясь на улицу в нищенском одеянии просить милостыню прежде, чем их посвящали в суфиев, ибо только так они могли постичь бренную сущность мира, мирской славы и знатности. А Маруся была дочерью номенклатурного начальника, дипломата, что, по нынешним меркам, примерно соответствовало арабским шейхам…
Маруся открыла входную дверь и только успела включить свет, как из глубины коридора на нее набросился Костя, обхватил ее за шею и стал душить, вся левая половина его лица вздулась, опухла и представляла из себя один сплошной синяк, она с трудом высвободилась, оттолкнула его и стремительно понеслась вниз по лестнице, выскочила на улицу в одних джинсах и шерстяной кофте, без пальто и шапки, хотя была уже поздняя осень, шел мокрый снег и было довольно холодно… Маруся села на первый подошедший трамвай, благо они еще ходили, и поехала на нем до кольца, потом обратно, до другого кольца, и так ездила туда-сюда до поздней ночи, в трамвае было хотя бы тепло, она все пыталась прийти в себя после неожиданного костиного нападения. Вскоре Костю забрали санитары…
Позднее Костя объяснил Марусе, что он вовсе не собирался ее душить, а просто незадолго до ее прихода его вдруг осенило, что пророчество Ницше о Белокурой Бестии, на самом деле, относится вовсе не к мужчине, а к женщине, что в целом соответствует и грамматической форме этого выражения: Белокурая Бестия — это ведь она , а не он , и почти сразу же ему пришло в голову, что Белокурая Бестия это и есть Маруся, более того, в ней воплотились Вечная Женственность, Маргарита из «Фауста» Гете, Незнакомка Блока, Жанна д Арк, а заодно еще и статуя Свободы, и Родина-мать с Пискаревского кладбища, точнее, вся их гранитная мощь, так как одновременно она была еще и Смерть с длинной стальной косой, которой теперь будет косить налево и направо всех костиных врагов, расчищая ему, последнему Мессии и Спасителю Мира, путь к окончательной победе над миром. А так как это именно он подготовил ее Приход, то пока его миссию можно было считать оконченной, и он мог спокойно сидеть дома и отдыхать, дожидаясь, пока она не позвонит ему по телефону, чтобы доложить о проделанной работе и пригласить принять последний торжественный Парад Победы, во время которого прекрасные обнаженные по пояс девушки, сподвижницы Маруси, современные амазонки, будут стройными рядами подходить к Косте и бросать к его ногам знамена поверженного противника.
После этого в мире не останется ни одного мужчины, все они будут истреблены собственными женами и любовницами, так как после того, как им откроется вся глубина духовных и физических страданий Кости, они смогут любить только его одного, и отныне Костя останется в этом мире один в окружении миллионов прекрасных и преданных женщин во главе с Марусей…
Все эти мысли привели Костю в такой восторг, что, как только он услышал, как в прихожей открывается дверь, он со всех ног кинулся навстречу Марусе, чтобы радостно ее обнять и сообщить ей ее великое предназначение. А Маруся подумала, что он собирается ее задушить, и убежала.
Лицо же себе Костя разбил чуть раньше, когда возвращался домой из библиотеки. Он шел очень быстро, стремительно приближаясь к дому, и вдруг в его мозгу промелькнула странная мысль о том, что в стене дома слева от него есть незаметный для обычных людей проход, наподобие того, что обнаружил у себя в чулане за старым холстом с нарисованным на нем очагом Буратино, проход в волшебную страну, но, чтобы в него войти, нужно просто очень верить, тогда даже можно пройти сквозь стену, если очень верить, но сделать это нужно было немедленно, ибо тот, кто это сделает первым, в ком сильна будет вера, тот и станет избранником, именно здесь, в стене дома, и находилась брешь в Истории, через которую и должен был в это мгновение пройти Костя, это был его шанс, и он не мог его упустить. Поэтому Костя резко, не замедляя шага, повернулся к стене и с такой силой ударился о нее головой, что даже на какое-то мгновение потерял сознание и едва не упал на землю, но только присел, а потом резко выпрямился и, как ни в чем не бывало, дошел до дома, боли он почти не замечал, только лицо все опухло.
После этого Маруся решила жить отдельно от Кости. Костя же считал, что все его попадания в дурдом — это просто временные срывы, на которые не стоит обращать особого внимания, так как они ничего не значат и не могут поставить под сомнение главного в его жизни. Это что-то вроде временного опьянения или миражей, которые иногда посещают путника в пустыне или моряка в море, утомленных долгим и изнурительным странствием в огромном безбрежном пространстве, к этому нужно относиться снисходительно, в конце концов, у всех людей есть свои небольшие недостатки, поэтому Маруся не должна бояться его советов, а наоборот, должна полностью ему доверять, так как на сей раз он уже не ошибается, а может с уверенностью указать ей путь, по которому она должна идти…
Сама Маруся никогда не чувствовала никакой особой уверенности ни в чем, она чувствовала себя огромным полым шаром, катящимся по жизни наподобие перекати-поля и способным наполняться любым содержанием, любыми мыслями и словами. Поэтому, наверное, ей очень не нравился рассказ Чехова «Душечка», так как в главной героине этого рассказа, которая меняла себе мужей, а вместе с ними все содержание своей жизни, она невольно узнавала и себя, и сам Чехов со своей идиотской бородкой ее всегда жутко раздражал, так как он, наверняка, ненавидел баб, и особенно таких, как она, Маруся, не случайно ведь он написал такой рассказ.
Пока Костя был с ней рядом и говорил с ней, она также думала, что приближается к постижению истины, но, стоило ей с ним расстаться, выйти на улицу, как у нее в голове все снова путалось, и она толком не знала, не только для чего ей вообще жить, но и то, чем она будет заниматься в следующее мгновение, куда пойдет, с кем встретится…
Самолет приземлился в Ницце, причем Марусе в какое-то мгновение даже показалось, что они садятся в воду: посадочная полоса начиналась у самого моря, а сидевший рядом со Светкой бородатый мужик даже спросил у нее, умеет ли она плавать, отчего Светка вдруг завопила на него не своим голосом, и неожиданно зарыдала, мужик очень испугался, Марусе тоже стало не по себе.
В аэропорту они сели в уже заранее арендованную машину Рено-пикап. Дул сильный ветер и несмотря на то, что светило солнце, Маруся дрожала от холода. Они въехали в город по узким улочкам и мимо довольно высоких домов, скрывавшихся за зелеными деревьями, добрались до гостиницы.
— Вот видишь, дорогая, — с нескрываемой гордостью комментировал Вася, — видишь этот отель? Он находится в пятнадцать минутах ходьбы от Фестивального дворца. А когда я десять лет назад впервые здесь появился, мы жили вон та-ам, — Вася махнул рукой куда-то назад, — А оттуда до дворца идти нужно было не меньше часа. Видишь, как мы с тех пор выросли?
Маруся должна была прочитывать все журналы и газеты от корки до корки и каждое утро давать Васе краткий отчет, сообщение, что на фестивале произошло нового и как оценивает пресса тот или иной фильм. Вася взял напрокат мобильный телефон специально для Маруси, чтобы постоянно поддерживать с ней связь и в любой момент иметь возможность дать ей новое задание. Вася познакомил Марусю со своей подругой, американкой, высокой тощей бабой с морщинистым злобным лицом, в белом костюме. Вася предупредил Марусю, что Анка (как он ее называл) — настоящий профессионал, а всех его предыдущих менеджеров она расценивала как «absolutely unprofessional», т. к. она терпеть не может непрофессионалов, к тому же, они даже не говорили по-английски.
В кафе фестивального дворца был бесплатный кофе для участников фестиваля и для журналистов, куда пускали по аккредитации, обычно висевшей у участника на шее, и в зависимости от цвета ее обладателя допускали на разные фестивальные мероприятия. Самого низшего разряда считалась желтая карточка, потом шла голубая, розовая, и наконец, белая — самого высокого класса, с ней пускали даже на любой банкет и вечеринку, на встречу с любыми звездами. У Маруси была карточка желтого цвета, в ее распоряжении, правда, совершенно случайно оказалась еще одна — голубая, предназначавшаяся по замыслу Васи для какого-то его московского знакомого, но тот не смог приехать, а аккредитация на него была получена. Маруся пользовалась ею для прохода на все просмотры для прессы, пока какой-то особо зоркий и бдительный охранник не отобрал ее у нее. Он внимательно рассмотрел аккредитацию и спросил:
Это вы — Сергей?
Да, — нахально отвечала Маруся. — Меня так зовут.
А разве Сергей — женское имя? — продолжал цепляться охранник.
Да, в русском языке есть Сергей мужского рода, и женского, как, например, Мишель или Саша — стала объяснять Маруся, но охранник с недоверием осмотрел ее и потребовал паспорт.
Маруся сказала, что у нее его с собой нет, но она сейчас сходит и принесет. Охранник оставил аккредитацию Сергея у себя, и в распоряжении Маруси с тех пор осталась лишь одна аккредитация — желтая. На просмотры с ней можно было проходить, только если оставались свободные места, то есть в последнюю очередь, но в кафе все же пускали свободно.
Там, в уютном полутемном зале стояли круглые зеркальные столики и низенькие мягкие диванчики, а у стойки официанты предлагали черный кофе с маленькими шоколадками, сахар в длинных пакетиках и даже сливки в пластиковых круглых формочках, также можно было пить фруктовые напитки в длинных стаканах со вкусом клубники, малины и колы. В этом кафе журналисты назначали друг другу встречи и отдыхали в ожидании очередной пресс-конференции. Тут-то к Марусе однажды и подошла Анка и завела с ней разговор по-английски, она стала жаловаться Марусе на Васю, что он ей не платит, а у ее отца недавно была тяжелейшая операция, и ее мать тоже буквально на краю могилы, а ее сестра недавно сделала аборт, и на все это нужны деньги, и немалые, а Вася ее обманул и не заплатил ей обещанный процент. Маруся сказала, что Вася ей тоже не платит, что он ее только кормит и то не очень много — вот и все. Вечером следующего дня Вася неожиданно спросил Марусю, зачем она рассказывает Анке, будто работает на него бесплатно. Маруся стала отнекиваться, говорить, что Анка врет, а Вася со значительным видом заявил: «Дорогая, американки никогда не врут. Это такие люди, они так воспитаны с самого детства. Никогда не говорят ни слова неправды.»
В последнее время Вася постоянно был в хорошем настроении — его дела шли отлично, он завязывал все новые знакомства с нужными людьми, банкирами, богатыми бизнесменами, каждый вечер он раскладывал на телевизоре у своей кровати визитные карточки, которыми сперва любовался, а потом аккуратно складывал в особую папочку.
Вечеринка в честь открытия фестиваля проводилась в огромном синем павильоне, возведенном специально ради такого случая. Эта вечеринка проводилась под знаком нового французского фильма «Сонный город». Пропуском на вечеринку служили специальные часы на синем пластиковом ремешке с прозрачным в форме полусферы стеклом над циферблатом, на котором было написано «Dream city». Вокруг синего павильона, находившегося на пляже, в непосредственной близости от моря, выставили двойное оцепление, пускали только счастливых обладателей часов, в результате страшную иссушенную облезлую бабу, которая, как потом выяснилось, оказалась французской актрисой, исполнительницей одной из главных ролей в этом фильме, так и не пустили, она пришла такая радостная, чуть ли не вприпрыжку направилась к этому павильону и жрала мороженое на ходу, а охранники встали перед ней стеной и молчали, напрасно она клялась, что забыла свои часы дома и пихала им какие-то удостоверения, охранники были совершенно непробиваемы, и Маруси видела, как она так и осталась стоять на песке у входа в своем шелковом черно-белом платье с рожком мороженого в руке, чуть не плача от злобы и досады. А Маруся со Светкой, Васей и его съемочной группой благополучно прошли внутрь.
Вася ради такого случая был одет в смокинг, специальную белоснежную рубашку с маленькой красненькой ниточкой на самом подоле, но эта ниточка была видна только, когда он надевал рубашку или выпускал ее поверх брюк, а так ее было не видно, на нем была бабочка и круглые железные очки, его ровно подстриженная челка отливала блеском, а белые зубы сверкали в приветственной улыбке. Он по-свойски здоровался со всеми «звездами»: с Робертом Де Ниро, Кристофером Уокеном, Джоном Малковичем, Кетрин Зета-Джонс, Бредом Питом, Джонни Деппом, Кеану Ривзом, Гасом Ван Сентом, Николь Кидман, Брюсом Уиллисом, Франко Неро, Люком Бессоном и Милой Йовович — его подругой, тощей девушкой, улыбавшейся всем соблазнительной улыбкой и глядевшей как бы исподлобья. Тут же дефилировала выделявшаяся своим ростом в толпе Клава Шиффер, Вася всегда ее звал только так. Арнольд Шварценеггер, который на экране всегда казался Марусе пугающим гигантом, на самом деле оказался очень веселым и кокетливым, он развлекался тем, что, разбежавшись, прыгал на надувной матрас, после чего начинал на нем ворочаться и кувыркаться, дрыгая руками и ногами и заливаясь громким смехом. Особо почтительно Вася здоровался со здоровенным кудрявым мужиком с красной физиономией, он долго тряс ему руку, а потом долго с ним разговаривал, Денис, васин камерамэн, как он его называл, пояснил Марусе, что этот человек возглавляет Госкино.
Тем временем, вокруг началось веселье — под звуки сомнамбулической потусторонней музыки полуголые юноши в прозрачных аквариумах весело кувыркались и боролись друг с другом, а каждый посетитель, просунув руку в специальную резиновую перчатку, свисавшую из аквариума, мог юношу пощупать, что Вася и проделал с веселым хихиканьем и блеском в глазах. Повсюду по полу были разбросаны надувные матрасы и подушки, а сверху на невидимых веревочках свисали огромные белые полотнища — простыни, наподобие того, как бывает развешано белье в коридорах и кухнях больших коммуналок, правда, все, включая размеры простыней, здесь отличалось большим размахом, между этими простынями и блуждали гости, эти простыни были одновременно еще и своеобразными экранами, на которые проецировались кадры из «Сонного города», главным образом, наркотические галлюцинации и сны. На одной из таких простыней Маруся увидела оставшуюся у входа французскую актрису, в роли какой-то бабы, которая лежала в постели в тесной комнатке с видом на Эйфелеву башню и которой снился сон о том, что она стала знаменитой актрисой. Тут же была и Анка, однако к Васе на сей раз она не подошла, а демонстративно говорила с низеньким мужичком, у которого были блестящие коричневые глазки и зализанные на лоб волосики.
Блядь, — тихо сказал Вася Марусе, но как бы не обращаясь к ней, а про себя, — эта сука, кажется, снюхалась с Порфирьевым с Шестого канала. Это она мне знак дает, ах, сучара!
А ты распространяй про нее слухи, что она лесбиянка! — весело посоветовала ему Светка. — Тогда с ней никто не захочет иметь дело, ведь от лесбиянок все стараются держаться подальше, а она действительно похожа на лесбиянку.
Здорово! — Вася заметно приободрился. — Да ты у меня просто гений, дорогая!
Светка с довольным видом отошла в сторону, затем, взяв у проходившей мимо полуголой официантки с подноса бокал шампанского, залпом опрокинула его в рот, утерлась салфеткой и победоносно ухмыльнулась — очевидно, она все еще находилась под воздействием васиной похвалы.
Тут стали разносить угощение — причудливо изогнутые ракушки, из которых торчали разноцветные листочки, прозрачных насекомых с длинными красными усиками, маленькие синие комочки и прочие кулинарные изыски. Вася, который уже поел и выпил, стал рассказывать Марусе, как его угощали самым вкусным в его жизни ужином — это было в Париже в одном шикарном ресторане, и там ему принесли огромное блюдо с разными дарами моря, и он все ел, ел, а в конце принесли крошечную ракушку, и в этой ракушке находился маленький червячок, и Вася такой длинненькой остренькой серебряной вилочкой извлек этого червячка и отправил себе в рот. «Так вот, дорогая, это и было самое вкусное! Такого я ни до, ни после никогда не ел!»
Все гости, присутствовавшие на вечеринке, угощались от души, ничего не ела только тощая актриса, подруга Люка Бессона, она все загадочно осматривала всех с головы до ног, а на лице ее застыла зловещая улыбка. Денис с огромной тяжеленной камерой на плече сновал туда-сюда между «звезд» и все снимал, снимал, снимал…
Вечеринка завершилась где-то к четырем часам утра, правда, Маруся ушла значительно раньше, так как знала, что завтра ей все равно придется вставать в восемь. Утром Вася рассказал Марусе, что в конце концов все так перепились, что заблевали весь павильон и даже весь пляж впридачу, хорошо, что Вася соблюдал меру и сохранил человеческий облик.
Вася, когда они только приехали в Канны с Марусей и Светкой, как-то вдруг сказал Марусе, прихорашиваясь перед зеркалом: «Интересно, что обо мне будут здесь все говорить — приехал, поселился в номере с двумя бабами. С ума сойти можно!» — и радостно захихикал, лукаво подмигивая Марусе.
Они действительно поселились в двухкомнатном номере. Сначала Светка со всеми чемоданами и сумками прошествовала в спальню, а Марусе предложила располагаться в гостиной, там было светло, большие окна открывались на море, и был даже выход на балкон, при этом стекла были такие чистые, что Маруся едва не разбила себе лоб, потому что устала с дороги, не выспалась и была без очков, и ее внимание было рассеяно, она решила, что там нет стекла, пошла на балкон и врезалась лбом прямо в стекло, но, к счастью, оно не разбилось. Раздался глухой удар и Вася с беспокойством выглянул из соседней комнаты, потому что платить бы пришлось ему. Тут же была электрическая плита, холодильник и стол — такая мини-кухня, чтобы готовить. Маруся только начала разбирать свой чемодан, как вдруг дверь спальни с шумом распахнулась и на пороге с сумкой в руке мрачнее тучи возникла Светка. Она молча прошла к дивану и швырнула на него свою сумку. «Я передумала, — сообщила она Марусе — мы с Васькой будем здесь, а ты давай-ка, перебирайся туда, подруга!»
Там оказалось гораздо хуже — правда, была большая двуспальная кровать, но зато окна были очень маленькие, узенькие, затемненные шторами, и выходили они во внутренний двор отеля, откуда постоянно доносились голоса горничных и прочей гостиничной обслуги. Вася сразу ввел Марусю в курс ее обязанностей.
Каждое утро, пока они со Светкой еще спали, она должна была отправляться в Фестивальный Дворец за билетами для съемочной группы, правда, перед этим она могла спуститься в кафе при отеле и позавтракать, завтрак входил в стоимость номера — можно было брать джем, булочки, масло, сок, кофе, чай и даже мед.
Фестивальный дворец представлял из себя огромную конструкцию из стекла и бетона, внутри многочисленные лестницы вели в холлы, фойе и конференц- и кино-залы, было множество выходов на террасы и балконы, откуда открывался прекрасный вид на море, снаружи дворец был весь обвешан огромными плакатами, украшен цветными флагами и полотнищами яркой материи, вокруг росли настоящие пальмы, и по вечерам разноцветные прожектора освещали каждый закуток так, что он превращался в таинственный и прекрасный сезам.
Вечером, когда Вася, Маруся, видеоинженер Глебов и оператор Денис отправились снимать открытие фестиваля, их машина проехала через тройное оцепление, при каждом проезде охранники требовали предъявить документы и разрешение на въезд, в конце концов, они припарковали машину в подземном паркинге, и, протиснувшись сквозь густую разноцветную толпу, оказались у лестницы, при входе на которую у них еще раз проверили аккредитации. Они оказались на середине довольно-таки длинной лестницы, устланной красным ковром, и сверху им было видно, как к дворцу подъезжают длинные черные «мерседесы», из которых выходят кинозвезды и режиссеры, в экзотических блестящих платьях, фраках и смокингах, украшенные причудливыми драгоценностями и цветами. В самом низу лестницы расположились фотографы, со своими громоздкими камерами и вспышками, все они были во фраках, потому что даже журналисты должны были быть в вечерних нарядах: мужчины — во фраках или смокингах, дамы — в вечерних платьях, иначе их просто не подпускали ко дворцу.
Маруся однажды отправилась на просмотр в джинсовой юбке и футболке, и ее чуть не задержали при входе: охранник скептически оглядел ее с ног до головы и, снисходительно хмыкнув и пожав плечами, уже собирался отправить ее назад, однако, к счастью, следовавшая сразу за Марусей шумная толпа каких-то японцев отвлекла его внимание, и ей удалось быстро-быстро проскочить вперед и затеряться среди остальных зрителей.
Фотографы шумными воплями приветствовали каждую выходившую из автомобиля кинозвезду, на которую тут же обрушивался залп вспышек, приветствий и воздушных поцелуев. Знаменитые актрисы какое-то время позировали у подножья лестницы, принимали красивые экстравагантные позы, потом медленно, придерживая рукой шлейф вечернего платья, поднимались вверх по красному ковру. После окончания просмотра «звезды» тем же путем выходили из фестивального дворца, и тут можно было сделать самые интересные и необычные кадры, поэтому фотографы ждали у ограждения, выставленного у подножья лестницы, до позднего вечера.
Маруся с Васей и Светкой после просмотра фильма вышли к освещенному яркими огнями входу во Дворец, здесь не было белых ночей, небо было уже совершенно черным и это производило какое-то противоестественное впечатление на Марусю, потому что был май. Маруся находилась под впечатлением после просмотра фильма про совершенно отъехавших наркоманов, причем режиссер снимал их с явным знанием дела, в результате у Маруси осталось ощущение, будто она сама наелась каких-то сильнодействующих психотропных средств. На короткий миг у нее возникло чувство, что она находится между двумя слоями воды — тяжелым и легким, она лежала в тяжелой воде, а над ней текла легкая, ее струи были хорошо видны, блеклых пастельных тонов, перетекая одна в другую, они шли над ее головой, и их движение завораживало и уносило далеко, как можно дальше, но Маруся не могла пошевелить ни рукой, ни ногой, даже глаза закрыть она была не в состоянии, да ей этого и не хотелось. И в таком состоянии она и вышла вместе с Васей и Светкой из дворца, медленно спустилась по широкой красной лестнице и встала внизу у ограждения вместе с фотографами. Она впала в состояние ступора и никак не реагировала на восхищенные возгласы и обращенные к ней вопросы Светки, которая толклась рядом, не в силах адекватно выразить вполне все свое восхищение от происходящего вокруг:
Нет, здорово, как это здорово! Просто замечательно!
Вася же улыбался с легким презрением и загадочно молчал.
Ну что ж, девушки, — произнес он, обращаясь к своей жене и Марусе, — пойдемте!
Нет, Васька, давай постоим, давай подождем, сейчас они должны все выйти! Нет, я просто не могу, как это все же здорово! — все время повторяла Светка.
— А все уже и вышли, дорогая, — неожиданно сказал Вася, — и стакан и лимон, все…
Из отечественных фильмов Марусе запомнился только один, показанный во внеконкурсной программе среди режиссерских дебютов. Фильм назывался «День ВДВ». Это была дипломная работа выпускника ВГИКа по фамилии Костенко. В одном из крошечных залов на авеню дю Доктер Пико неподалеку от фестивального дворца было очень душно, правда, на утренних сеансах обычно присутствовали всего несколько человек, может быть, потому, что сеанс начинался очень рано, в 8.30 утра — программа фестиваля была сильно перегружена и надо было как-то успеть втиснуть всех. Вася со Светкой еще спали, Маруся слышала доносившийся из соседней комнаты храп. Она спустилась в кафе, быстро выпила чашку кофе и почти бегом направилась вниз по узенькой улочке — от их отеля Фелибриж до кинозала было примерно полчаса ходу.
Действие фильма разворачивалось практически без диалогов, только случайные реплики и возгласы, хотя фильм был явно игровой, но был стилизован под документальный. Поначалу ранним утром плечистые молодые люди брились, принимали душ, напяливали на себя перед зеркалом тельники, ордена, гвардейские значки, тщательно начищали ботинки, потом они встречались с друзьями, собирались группами в центре Москвы, у метро, на Тверской, и в районе парка Горького. Все били друг друга по плечу, радостно обнимались, долго похлопывали по спине. Некоторые из них были с девушками, тоже в синих беретах и тельняшках или накинутых поверх легких ситцевых платьиц военных мундирах. Светило солнце, был жаркий летний день, поэтому некоторые из молодых людей почти сразу стащили с себя тельники, обнажив свои волосатые груди и животы, причем у многих десантников эти животы оказались солидных размеров и свисали над ремнями поверх брюк. Десантники пили пиво у ларьков и непринужденно беседовали между собой. Те, что собрались в парке Горького, примостились прямо на газонах и распивали спиртное, дружно чокаясь или опрокидывая рюмки по-гусарски, поставив их на тыльную сторону руки. Со всех сторон доносились звон гитар и обрывки песен, главным образом про «синеву небес», которая продолжает «манить к себе». Чуть поодаль чинно прогуливались группы седых ветеранов Отечественной войны, увешанные орденами и медалями. Вдруг какой-то обнаженный по пояс амбал с волосатой грудью и невероятных размеров свисающим животом приблизился к ветеранам и, неожиданно обхватив своими ручищами двух сухоньких старичков, поднял их над землей и начал так с ними вращаться вокруг собственной оси, старички беспомощно дрыгали ножками, но потом, когда десантник опустил их на землю, выглядели очень довольными, долго жали десантнику руку и что-то напутственно ему говорили. А находившийся неподалеку высокий старик, тоже весь в орденах и медалях, даже умильно смахнул набежавшую слезу.
В этот момент сразу несколько из присутствовавших в зале зрителей встали и с шумом направились к выходу. Маруся тоже хотела выйти вместе с ними, но потом передумала, так как вдруг вспомнила, что накануне она мельком видела режиссера: это был худенький темноволосый юноша в очках с утонченными манерами, чем-то похожий на Алешу Закревского, который напечатал в своем журнале несколько марусиных рассказов. Впечатление, которое он на нее произвел, очень плохо соотносилось с тем, что сейчас Маруся видела на экране.
Тем временем, к группе десантников, стоявших у пивного ларька, привязался бомж: маленький шустрый, весь взъерошенный, с лиловым носом и недельной щетиной на лице. Один из десантников добродушно дал ему глотнуть из своей кружки и повернулся к своим товарищам, однако тот снова забежал спереди и, оживленно жестикулируя, стал выражать ему свою признательность, и даже попытался его обнять. Десантник повернулся к нему сначала боком, а потом опять спиной, но бомж опять возник перед его носом, десантник снова дал ему отхлебнуть из своей кружки, хотя уже менее добродушно, бомж опять принялся его бурно благодарить, наконец десантник не выдержал и оттолкнул его от себя рукой в грудь — мужичок едва устоял на ногах, но, тем не менее, снова пошел к десантнику, тогда тот снова оттолкнул его рукой в грудь, но уже изо всей силы, с явным раздражением, бомж отлетел в сторону и, споткнувшись о поребрик, растянулся на газоне, картинно раскинув руки в стороны…
А между тем, у центрального фонтана парка Горького собралась уже целая толпа разгоряченных молодых людей. К фонтану их не пускало милицейское оцепление, которое они некоторое время безуспешно пытались прорвать, правда, делали они это как-то вяло и как бы нехотя. Некоторые из десантников о чем-то оживленно беседовали с милиционерами, некоторые даже пытались их дружески обнять. Наконец несколько человек, сцепившись локтями, спинами оттеснили милицию, и в образовавшийся коридор тут же бросился огромный жирный мужик лет сорока, тоже голый по пояс, добежав до фонтана, он подпрыгнул и, перевернувшись через голову, со всего размаху плюхнулся в воду, подняв в воздух целый столб брызг. С другой стороны маленький юркий юноша в тельняшке пролез у милиционера между ног и тоже с диким визгом и хихиканьем прыгнул в воду. Потом еще несколько человек друг за другом прорвались к фонтану через оцепление. Добежав до воды и очутившись в ней, каждый из них победоносно вскидывал вверх руки и под одобрительные крики и гиканье своих товарищей возвращался в строй.
Дальнейшие события фильма развивались стремительно и неожиданно, особенно с наступлением сумерек и темноты. Как-то незаметно безобидная возня и толчея на газонах переросла в настоящую оргию, не менее впечатляющую, чем сцены знаменитых оргий из «Сатирикона» Феллини. Сразу два десантника прижали к дереву визжащую полураздетую девицу, повсюду на траве валялись пары и группы переплетенных и извивающихся в самых невероятных позах тел, а у опустевшего фонтана жирный волосатый десантник трахал в зад тощего милиционера, который пытался слабо, больше для видимости, сопротивляться… Особенно Марусе запомнилась сцена, где на клумбе среди цветов накрашенная грудастая девица в короткой юбке и прозрачной блузке, стоя на коленях, делала минет здоровенному мускулистому мужику, рядом, сидя и стоя, за ними наблюдали еще несколько человек. Время от времени девица отстранялась, и тогда на экране крупным планом появлялся огромный член, к которому с любопытством и подчеркнуто серьезной миной на лице склонялся один из присутствующих, а в это мгновение кто-нибудь обязательно слегка отклонял член в сторону, и тот, упруго выпрямившись, под дружный смех окружающих ударял по лбу слишком близко наклонившегося к нему зрителя. Член был совершенно невероятных размеров, и Маруся даже подумала, что он не настоящий, а специально увеличен при помощи какого-то трюка, компьютерной графики или чего — то еще. В нескольких метрах от этой группы еще трое парней в тельняшках мочились на лежащую в луже блевотины девицу. Смех, пьяные возгласы и стоны слились в однообразный гул. Чуть поодаль милиционеры волоком затаскивали нескольких слабо дрыгающих руками и ногами молодых людей в милицейскую машину. У входа в подземный переход метро двое едва держащихся на ногах десантников тащили на себе своего полностью потерявшего ориентацию в пространстве товарища. Береты у всех троих по-прежнему были на голове и только сильно съехали на затылок…
Заканчивался же фильм кадром, запечатлевшим разбросанные по парку неподвижные тела в форме, освещенные зловещим светом луны, как на поле боя после яростного сражения. По неподвижной зеркальной глади ночного пруда скользили два белоснежных лебедя.
— Я думаю, что больше ты этот фильм никогда не увидишь, — сказал Вася после того, как Маруся вкратце передала ему содержание увиденного накануне фильма. «И вообще, представь себе афишу «День ВДВ или хуем по лбу»! Неплохо смотрится, не правда ли? А об этом твоем Костенко я уже слышал, точнее, мне пересказывали его пьесу «Дом», которую он представил в одном из сырых московских подвалов, где обосновался его захолустный театрик-студия.
В этой пьесе два каких-то мудака с идиотическими добрыми улыбками на лицах долго морочат головы зрителям, подсаживаются в скверах к пенсионерам, предлагают им то сыграть в шашки, то забить «козла», и при этом ненавязчиво расспрашивают их об обитателях соседнего дома, кто к кому приехал в гости, нет ли там у кого знаменитых родственников, и т. п. Например, как там тетя Клава, которая приехала к дяде Ване из Сибири и привезла ему клюквенное варенье… И всю эту дребедень зрители, по преимуществу молодежь, разные там панки и рейверы, должны были наблюдать в течение двух часов, да еще в сыром холодном подвале, удовольствие, сама понимаешь, сомнительное, так что далеко не все выдерживали до конца, когда на сцену опускался занавес с намалеванным на нем многоэтажным домом. И тут из-за кулис раздавался звук оглушительного взрыва, символизирующего тот факт, что этот дом, о котором шла речь, в конце концов взлетел на воздух…
Маруся невольно рассмеялась.
— Ну какая ты все-таки циничная, дорогая! — сказал Вася.
Ему самому все это не казалось смешным, так как он не видел в страданиях невинных людей повода для подобных шуток. Не говоря уже о том, что весь этот соцарт и концептуализм сейчас попахивают нафталином, ведь это же не искусство, а какой-то растянутый на два часа анекдот…
Но если уж на то пошло, то Вася знал историю покруче.
Один молодой гений, вроде этого Костенко, к тому же, сын известного режиссера, год назад предложил очень влиятельному продюсеру сценарий об ограблении банка. Сценарий был так лихо закручен, с любовной интригой, реками крови и прочими атрибутами жанра, что продюсер пришел в полный восторг и уже даже нашел под него бабки, причем немалые, ведь снять фильм — это не шутка. Более того, он уже обзвонил нескольких своих приятелей-актеров и натрепал им, что у него для них есть замечательное предложение. Папаше сценариста он тоже позвонил и выразил ему свое восхищение его сыном, причем совершенно искренне, больше всего ему нравилось, что сын известного режиссера, которому он и так был не прочь угодить, выдал такой замечательный сценарий. Но дело в том, что продюсер как-то по своему недомыслию умудрился не дочитать сценарий до конца. А в конце там, после всех тщательно и живописно описанных сцен убийств, интриг и интрижек, столь же тщательно выверенных диалогов, живописных и достоверных деталей из жизни отечественных бандитов, т. е. всего того, что привело его в такой восторг, так вот, в финале фильма, когда грабители наконец-то с большим трудом вскрывают заветный банковский сейф, они там обнаруживают вовсе не пачки долларов или драгоценности, а маленькую шоколадку «Ш.О.К.» и тут, по сценарию, на экране должна была появиться огромная надпись «ШОК — это по-нашему!», — и все, на этом все повествование резко обрывалось.
Продюсер, когда обнаружил этот финал, пришел в такую ярость, что, говорят, чуть не убил сценариста, ведь он столько сил потратил на добывание денег и даже влез в долги… И самое главное, этот шутник поначалу, вроде бы, согласился довести повествование до логического конца и под этим предлогом забрал единственный экземпляр сценария, а потом уперся и наотрез отказался менять концовку, так что фильм пришлось похоронить. Маруся опять рассмеялась.
Маруся договорилась встретиться со Светиком у Петропавловской крепости, Светик явился в длинной юбке стального цвета, причем оказалось, что это юбка-брюки, в небольшой меховой накидке, прозрачной кофточке и с большим зонтом с деревянной ручкой. Он тут же схватил Марусю под руку, и они пошли по пляжу, увязая в песке, а Светику со всех сторон кричали: «Шура, Шура!»
— Это они меня принимают за Шуру, меня часто путают с этой эстрадной звездой, — пояснил Светик.
У Светика с собой в сумке была початая бутылка водки, и он периодически из нее отхлебывал, стояла ужасная жара, они пошли пешком через Тучков мост, потом — мимо Ростральных колонн, потом перешли через Дворцовый… В тот день проводился пивной фестиваль, вся Дворцовая площадь была уставлена зонтиками, под которыми в тени скрывались столики, за ними сидели люди и пили пиво, пьяные толпы бродили по Дворцовому мосту и обратно, движение было перекрыто, а в фонтане у Эрмитажа с визгом купались полуголые молодые люди. Светик чувствовал себя не очень хорошо, он периодически просил Марусю присесть и отдохнуть, у кинотеатра «Баррикада» он заявил, что нужно сюда зайти, что здесь работает его друг, который наверняка угостит их, поведет в ресторан, но друг, по словам сидевшей у входа старушки, уволился уже полгода назад. После этого Светик в полном отчаянии стал вопить:
— Хочу гулять! Белые ночи! Хочу ужин в ресторане при свечах, хочу коктейль с джином! — и уселся прямо на тротуар.
Слушай, Маруся, давай зайдем в самый дорогой ресторан, ты заказываешь на полную катушку жратвы и выпивки, а потом, когда официант приносит счет, ты показываешь на меня и говоришь — Он заплатит за все! — и уходишь! Давай, а? — и тут Светик неожиданно повалился прямо на асфальт у стены дома, закатил глаза и захрапел.
Мимо шли люди, некоторые оглядывались, некоторые с интересом осматривали сперва Светика, а потом стоявшую рядом Марусю и хихикали. Маруся попыталась поймать машину, чтобы довезти Светика до дому, но никто не хотел останавливаться, очевидно, они боялись, что Светик обгадит им машину или сделает что-нибудь неприятное. К счастью, мимо проходил бородатый мужик с девушкой, он узнал Светика:
Господи, это же Семицветик, что это с ним?