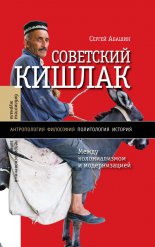Белокурые бестии Климова Маруся

Может, вам помощь нужна?
Маруся сказала, что конечно же, нужна, и он помог ей поймать машину.
Светик только что вернулся из Тамбова, куда его пригласил начинающий бизнесмен Костик Тютюник, сынок местного тамбовского воротилы. Правда, Костик считал, что Светик тоже очень богатый, что у него много баков, сам Светик ему основательно мозги заебал, он рассказывал ему, что он — известный художник, актер и журналист, печатающийся на всех языках мира, что ему скоро должны перевести на счет десять тысяч баксов только за его небольшую фотографию, недавно опубликованную в журнале «Вог», а Костик уши развесил и всему верил, каждому его слову. Тем временем, Светик набрал у него бабок, жрал за его счет, покупал себе туфли, тряпье и косметику, а Костик все ждал, когда же Светик получит эти долгожданные бабки и рассчитается с ним за все. Но постепенно стало ясно, что денег Светику ждать неоткуда, во всяком случае, у Костика возникли такие подозрения, и он решил Светика немного попугать, потому что до конца он, конечно, не был уверен, что Светик его наябывает, но исключительно для проверки он приказал своим людям Светика немного побить и приковать его наручниками к батарее, пусть он так посидит и подумает… Светик так сидел два дня, за ним наблюдали охранники, но Светику как-то удалось склонить одного охранника на свою сторону, удалось его разжалобить, и охранник его отпустил, отцепил его от батареи, и они вместе со Светиком бежали. А перед тем, как свалить, Светик оставил там прямо на подоконнике статью, в которой описал самого Костика и всех его друзей, подруг и охранников, чтобы Костик не сомневался в том, что на самом деле имел дело с известным журналистом.
Музыкально-поэтический салон «Новые дикие» находился в двухкомнатной квартире на втором этаже типового дома неподалеку от Суворовского проспекта. Маруся шла однажды по Суворовскому проспекту и вдруг неожиданно перед ней возник Алексей Б., который в каком-то неистовом бурном порыве схватил ее за руку и потащил в неизвестном направлении, таким образом впервые она и попала в эту квартиру, где в тот день «дикие» были в полном составе, так как праздновали день рождения Степанова — хозяина квартиры и одновременно их неформального лидера.
Едва они вошли в комнату и скромно присели к столу, еще не успев отогреться, потому что на улице было довольно холодно, как вдруг незаметно подкравшийся сзади к сидевшему на табуретке Алексею Скворцов, второй человек среди «диких», неожиданно опрокинул ему на голову здоровенную лоханку с тестом. Алексей сначала весь дернулся, попытался вскочить, так как он вообще был очень нервный, но потом сразу же сел, покорно сложил руки на колени, склонил голову вперед и со смирением стал ждать того, что последует дальше. Тем временем Скворцов аккуратно размазал все тесто по голове Алексея, включая его лицо, волосы, затылок, после чего она превратилась в огромный белый шар, как у снеговика, судорожным движением челюсти, лихорадочно открывая рот, как задыхающаяся рыба, Алексей в конце концов сумел-таки проделать себе отверстие для воздуха, а между тем Степанов уже притащил из кухни увесистую морковку, которую тут же воткнули в тесто на месте носа Алексея, теперь сходство со снеговиком стало практически полным. Третий же «дикий», Отрубев, уже притащил из ванной алюминиевый таз и, важно сев на стул посредине комнаты, стал раскладывать перед собой на стоявшем тут же деревянном ящике ноты, таз он поставил себе на колено и застыл в неподвижности, и только после этого один из «диких», кажется, Скворцов, а может быть, и Степанов — потому что Алексей, когда они вошли, мельком представил ей всех троих сразу, и Маруся уже успела окончательно забыть, кто из них кто — начал разъяснять Марусе и Алексею, что, собственно, происходит, и это были первые слова, которые прозвучали за все это время, потому что все эти действия совершалось в полной тишине, а когда они пришли, с ними даже никто не поздоровался.
Оказалось, что этот день был не только днем рождения Степанова, но еще и днем полнолуния, и сейчас Отрубев исполнит гостям «Лунную сонату», которая была написана ими совместно, специально к этому знаменательному событию, а все, что было проделано с Алексеем, было сделано для того, чтобы создать у слушателя необходимое настроение для восприятия их музыки. В этот момент Маруся очень про себя порадовалась, что о создании подобного настроения у нее хозяева салона будто бы позабыли, а может быть, они думали, что им и так уже удалось настроить ее на соответствующий лад, и, в общем-то, это было верно. После этого Отрубев, внимательно уставившись на лежащие перед ним ноты, стал методично стучать какой-то деревянной палкой по стоящему у него на коленях тазу, причем проделывал он это с удивительным упорством и методичностью, по крайней мере, в течение получаса, во всяком случае, так показалось Марусе. Каждые три минуты стоявший рядом с ним Скворцов заботливо переворачивал страницы нотной тетради, Алексей же все это время покорно сидел на табурете, сложив руки на коленях и не шевелился. Наконец соната закончилась, Степанов и Алексей бурно зааплодировали, пришедшая из соседней комнаты жена Степанова стала сдирать с головы Алексея слипшееся тесто, это ей удавалось с большим трудом, поэтому ему на какое-то время пришлось даже удалиться в ванную. Минут через пять он вбежал в комнату розовый, умытый и веселый, и беззаботно прыгнул на свою табуретку рядом с Марусей, однако, не успел Алексей по-настоящему расслабиться, как проходивший в это время мимо него Скворцов вдруг опять резко повернулся в его сторону и со всего размаху разбил о его голову яйцо. Правда, после этого он стал извиняться перед Алексеем и объяснять это тем, что он просто забыл сделать это в то время, когда у него на голове было тесто, и поэтому был вынужден сделать это несколько позже, так как все это уже было записано у них в нотах, и без этого «Лунная соната» не могла считаться полностью исполненной, а премьера — состоявшейся… Алексею снова пришлось отправиться в ванную.
После этого Степанов даже принес фотоаппарат и сфотографировал Алексея на память, потом Алексей сфотографировал Степанова, Отрубева и Скворцова, сначала всех по очереди, а потом вместе, затем уже Отрубев сфотографировал Алексея со Скворцовым и Степановым, потом Степанов сфотографировал Отрубева с Алексеем и Скворцова с Отрубевым, так они фотографировали друг друга в течение пятнадцати минут, не менее, пока все возможные комбинации не были исчерпаны, после чего наступила небольшая заминка, и Отрубев, тщедушный юноша с тонкой шеей и огромной головой на хрупком теле, на какое-то мгновение застыл с фотоаппаратом в руках, вопросительно посмотрев на Степанова. «Ну что, — сказал он, — кого еще сфотографировать?» Степанов тоже на какое-то мгновение задумался, а потом громко и со значением произнес: «Ну что, сфотографируй еще раз Алекса, здесь ведь больше некого фотографировать!»
Мама постоянно говорила Марусе, чтобы она устроилась работать, перестала болтаться без дела, она вообще не понимала, чем Маруся, собственно, занимается и на что она живет, к тому же Марусе действительно часто приходилось просить у нее деньги взаймы, и почти никогда она их ей не отдавала. Стоило маме увидеть в какой-нибудь газете объявление о выгодной, на ее взгляд, работе секретаршей, референтом или менеджером, как она тут же срочно звонила Марусе и предлагала ей обратиться по указанному там адресу, мама также постоянно сообщала Марусе о всевозможных конкурсах, отборах, тестированиях, которые настоятельно советовала ей пройти, чтобы определиться и твердо встать на ноги. Марусины публикации в газетах, особенно московских, конечно, имели в ее глазах определенный вес, к журналистской деятельности Маруси она относилась с наибольшим уважением, что касается остального, переводов и особенно ее романов, то все это представлялось ей совершенно никчемным.
Мама также постоянно ставила Марусе кого-нибудь в пример, чаще всего, это была какая-нибудь баба, примерно одного с Марусей возраста, достигшая, на ее взгляд, наибольших успехов и материального благополучия, видимо, пример марусиной сверстницы казался ей наиболее убедительным и доходчивым. Такие же примеры мама часто приводила Марусе еще когда та училась в школе, тогда она чаще всего указывала ей на Галю из соседнего подъезда, отвратительную тупую девочку с лягушачьими губами, Галя была отличницей, Маруся, правда, тоже училась неплохо, но зато Галя не лазала по подвалам, не общалась с грузинами, не воровала в магазинах, не курила и не являлась домой пьяной…
Потом, с годами, образцы для подражания периодически менялись, так как каждая из приводимых Марусе в пример героинь через какой-то промежуток времени оказывалась не столь совершенной, как маме казалось первоначально, она находила в ней какой-то изъян, или у той что-нибудь случалось в жизни, какая-нибудь неурядица или катастрофа и постепенно ее место занимала другая. Так Галя, например, которую мама чаще всего приводила Марусе в пример в детстве, работала сейчас в школе учительницей и месяцами не получала зарплату, развелась с мужем и жила одна с ребенком, все это теперь уже не казалось маме особенно привлекательным, и она даже забыла о ней думать.
Еще два года назад мама постоянно ставила в пример Марусе дочку ее школьной подруги Лику, ту самую, которая порекомендовала ей Соловьева-Разбойника и которая, по ее мнению, «цвела и пахла». Лика была даже лет на пять младше Маруси, поэтому ее пример казался маме еще более ярким и убедительным. Лика училась вместе с Марусей в школе, маленькая черненькая девочка с черными блестящими глазками, ее мама, Эллочка, дружила с марусиной мамой, и Эллочка рассказывала всем, что ее дед был болгарин, Васил Попов, причем не Попов, как у русских, а именно Попов, с ударением на первом слоге. Раньше Эллочка шила Лике разные наряды, то Красной Шапочки, то Золотой рыбки, то Хозяйки Медной Горы…
Потом Лика выучила итальянский язык и устроилась работать в фирму «Версачче», затем оформила фиктивный брак с пожилым итальянцем и купила себе квартиру на Фонтанке. Она сделала там евроремонт, мебель купила всю черную, а паркет сделала наборный, из ценных пород дерева, еще она купила себе собаку чау-чау, и с этим щенком занималась Эллочка. А когда чау-чау повредила себе лапку, Эллочка стала промывать ей рану, и собака вдруг как вцепится ей в руку, полруки отхватила, Эллочка после этого случая даже боялась к ней подходить и просила Лику ее усыпить, но той было ее жалко. Помимо квартиры на Фонтанке с ванными и джакузи, она еще построила себе трехэтажный каменный дом в Комарово и разъезжала по городу на «БМВ» с личным шофером.
Однако пару лет назад Лика поехала в Италию рожать ребенка от своего нового любовника, и там вдруг выяснилось, что ей не только нечем заплатить за услуги врачей в родильном доме, но и не на что купить ребенку даже детское питание и подгузники, тем более она не могла вернуться обратно, так как у нее не было даже билета, и Эллочка, ликина мама, бегала по всем знакомым и занимала у них деньги, чтобы срочно помочь Ликочке с ребенком. Фирма, в которой работала Лика, неожиданно разорилась, и деньги, которые должны были ей перевести на ее счет в Италии, так и не пришли, более того, владелец фирмы, итальянец, скрылся в неизвестном направлении, и теперь его разыскивала чеченская мафия, так как за фирмой числилось огромное количество долгов. По ходу всех этих глобальных событий, когда Эллочка у всех, в том числе и у марусиной мамы, занимала деньги, выяснились еще всякие мелочи. Например, что новый любовник Лики периодически ее бил и всячески Эллочку третировал, сама же Лика оказалась чуть ли не законченной алкоголичкой, все эти внезапно выяснившиеся факты сильно подмочили репутацию Лики в глазах мамы.
Правда, Лика опять неплохо устроилась, у нее теперь было целых два любовника — Юра, глава тамбовской группировки, и Хамат, лидер питерских чеченцев, они обеспечивали крышу для ее совместной российско-итальянской фирмы, на сей раз торговавшей мебелью, кроме того Лика открыла магазин на Литейном, где продавала итальянское женское белье, кружевные трусы, лифчики, боди, корсеты. Тут она завела себе нового любовника — Венедикта, он контролировал всю питерскую проституцию, а замуж выйти она решила за Магомеда, чеченца, потому что Магомед мог обеспечить ей надежную защиту. Вскоре на Лику стали наезжать какие-то люди, требовали отстегивать им бабки, создавалось впечатление, что ни Юра, ни Хамат, ни Венедикт, ни Магомед ни фига не делают…
Статья, которую Светик оставил у Костика на батарее, предназначалась, якобы, для одного из московских журналов, и ее действительно могли бы напечатать и в «ПТЮЧе», и в «ОМе», потому что Светика там все знали, но только кому там этот Тамбов интересен, да и статья получилась слишком объемная. Но Светик все равно ее написал, а черновик как будто случайно забыл у Костика, пусть почитает, а может быть, даже и вслух, своим братьям по разуму. Там ведь и Гоголя-то, наверное, никто не знает, поэтому Светик очень хорошо себе представлял немую сцену, которая последует за публичным чтением этой его «статьи» в кругу тамбовской братвы. Они ведь, кажется, все хотели прославиться, а теперь они уж точно войдут в историю. А для того, чтобы Маруся эту картину себе лучше могла представить, он эту «статью» ей тут же вслух со своими комментариями зачитал.
Для затравки Светик начал свою статью с лингвистических штудий, для солидности, чтобы больше на серьезную статью было похоже:
«В Москве фарцовщиков называют утюгами, а фирму, которую они опускают — «отутюженными», так и говорят — «вот отутюженный идет», или «хорошо его отутюжили». В Питере фарцовщиков раньше называли «центровики», а вот фирмачей, которых они кинули, «отцентрованными» никогда не называли, и тем более, никогда не говорят: «Вон отцентрованный идет, или «хорошо его отцентровали», в Питере лохов просто «кидают» и «опускают», как и в любом другом месте нашей необъятной родины. А в Архангельске фарцевать называется «бомбить», и фарцовщики там, соответственно, «бомбисты», как рэкетиры повсюду «ракетчики.» Ну а в Воронеже фарцовщиков никак не называют, их там просто нет, потому что «фирмы» там отродясь не было, это ведь не Золотое Кольцо, даже не Новгород или Владимир с их памятниками древнерусского зодчества, здесь одни местные, одни аборигены только, only , зато слово «жлобы» пошло именно из Воронежа, тамошних жителей так раньше называли, ну как «скобарей» из Пскова, и в Тамбове фарцы тоже нет, и даже словом никаким этот город не знаменит, разве что поговоркой «тамбовский волк тебе товарищ», то есть это такая глухая дыра, что этот город даже переименовать после революции забыли…»
После этого Светик вскользь коснулся замечательных пейзажей на берегу реки Цна, памятника Ленину в центре, дворца культуры «Юбилейный», задолженностей по зарплате на заводике по производству подшипников, в общем, всего того, о чем и должен писать журналист солидного столичного издания. И только после этого он постепенно перешел к тому, ради чего все это и затеял, то есть к описанию тамбовских жлобов, которые его там больше всего достали, хотя слово «жлобы» и воронежского происхождения, но местные волки и товарищи его вполне заслужили, потому что таких жлобов, как там, он в своей жизни больше нигде не видел.
Начал он с аспиранта местного филиала московского института культуры Константина Тютюника, который зажал ему обещанный гонорар за фотосъемку и даже билеты на поезд не оплатил. Тютюник в его «статье» представал перед читателями в качестве банального украинского националиста, превратившего помещение вверенного ему учреждения культуры в перевалочный пункт по доставке оружия и наркотиков чеченским боевикам, его он особо выделил, за особые заслуги, так сказать. А об остальных ему даже и выдумывать ничего не нужно было, он просто описал все, как было в действительности, чтобы особо не напрягаться, им и этого будет достаточно, ведь они, когда над ним измывались, наверняка думали, что трудятся на благо своего родного города и отечества, потому что такие жлобы никогда не ведают, что творят…
Когда Светик приехал в Тамбов, его там встречали как короля, потому что Костик уже всем успел натрепать, что к ним едет известный столичный журналист, корреспондент модного московского журнала «Бум», которому только в этом журнале платят по десять долларов за строчку, а об иностранных изданиях и говорить нечего, поэтому у него денег куры не клюют, но дело даже не в этом, главное, что одного светикова слова было достаточно, чтобы любой местный тюфяк или блядь сразу же прославились на весь мир со всеми вытекающими отсюда последствиями, то есть даже Иван Петрович с местной скотобазы, с его легкой руки, без проблем превращался в Иванушку-интернейшнла, а доярка Дунька — в блестящую космическую герл.
Светику выделили пятерых охранников, они его всюду сопровождали, и ни на минуту от себя не отпускали. Потом главный человек, местный авторитет Костик, который ему дорогу обещал оплатить, повез его вместе с охранниками кататься на катере по реке, она там называется Цна, и они всю ночь песни пели, а потом приплыли в такое место, где кувшинки цветут, этих кувшинок там просто хуева туча, и что интересно, никто их не рвет, но не из-за того, что они занесены в Красную Книгу, там про такую и не слышали, а просто люди, даже местные жлобы, любят красоту, и хотят, чтобы эта красота их постоянно окружала. Светик все же решил себе одну кувшинку сорвать, полез в это болото и чуть там не утонул, хорошо, его один из охранников, Слава, вытащил.
Вмазались черняшкой, Светик чуть не помер, хотя он все это уже давно бросил, но захотелось тряхнуть стариной, что ли, вспомнить прошлое, а потом все эти наркоманы к нему на квартиру заявились. Сперва он только в компании охранников жил, но они ему все до такой степени надоели, что захотелось ему одному побыть, что-нибудь такое написать, осмыслить происходящее, и он снял себе квартиру отдельно. В квартире хозяева оставили телевизор японский, и он этот телевизор иногда смотрел, их местные программы, но это все мелочи. А вот то, что было дальше, Светик в своей «статье» со всеми подробностями описал. Потому что, когда он поехал снова на катере кататься с Костиком, кто-то этот телевизор из квартиры спер, то есть Светик приехал, а телевизора нет, наверное, эти наркоманы, которые на него тогда нависали, или же охранники, они тоже оказались суками еще теми, особенно один из них, Кирюша. Он сперва к Светику подкатывал, и все на бабки раскручивал, говорил, что читал его статьи, и от них просто приторчал, а от него самого так вообще — так приторчал, что и словами сказать невозможно. А его жена, которая в магазине трудится, когда Светик послал ее за бутылкой и дал ей пятьсот рублей, вдруг вся сморщилась и говорит: «Ну разве ж это деньги!» А у самой зарплата двести рублей, и при этом рожу корчит. В общей сложности, Светик этому Кирюше выдал около двух тысяч, и все это они прожрали. Больше у Светика бабок не было, правда, он ожидал, что ему не сегодня-завтра из Лондона на счет переведут около трех тысяч баков, и тогда он с ними со всеми расплатится.
Прикинь, Светик, — говорил ему Кирюша, когда они первое время вместе оттягивались, — три тысячи баков, это же конкретно! Вообще, когда ты их получишь, у нас все будет реально!
Светик к нему очень хорошо относился, причем безо всяких задних мыслей, совершенно искренне, и думал, что Кирюша тоже к нему так же относится, что его интересует сам Светик, а не его бабки.
Еще в Тамбове Светик познакомился с одной бабой, они с ней очень подружились, такая конкретная баба, которая держала магазин народных промыслов, у нее продавались разные брошки, ложки расписные, сарафаны с вышивкой, она все это продавала еще и за границу, и в Тамбове у нее клиенты были в основном местные новые. Светик решил ее познакомить со своим другом Джерри, у которого тоже свой магазин при гостинице «Европейская», где он тоже продает народные изделия. Она Светика первым делом спросила:
А как ваше отчество?
Он ей ответил:
Александрович. Святослав Александрович Лемешев.
А как девичья фамилия вашей мамы?
Тут Светик возьми да и скажи:
Кацман.
Она сразу вся так приободрилась и говорит:
А моя настоящая фамилия Шнейдерман! И зовут меня Сара!
Хотя обычно она всем говорит, что ее зовут Екатерина Сердюкова, потому что у них в Тамбове свирепствуют местные националисты, недаром ведь этот город считается одним из центров РНЕ. Так что она очень обрадовалась, что нашла в Тамбове соотечественника, да и вообще, она Светика полюбила. Ее в своей «статье» Светик почти не тронул, просто написал, что она собирается эмигрировать в Израиль.
А ведь сперва, до телевизора, вообще все было хорошо, все вокруг Светика прыгали, прогибались перед ним и угождали, охранники бегали ему за пивом, причем даже не требовали, чтобы он им деньги возвращал. Он уже тогда созвонился с известным фотографом из журнала «Вог», который собирался приехать в Тамбов на фотосессию, и там сфотографировать звезду отечественной арт-критики, Святослава Лемешева, в окружении его охранников в обнимку с самым главным Костиком. И про банк из Лондона Светик им тоже так, между делом, намекнул. Ну вот они все этого и ждали, ждали-ждали, а потом не выдержали и спиздили у Светика из квартиры телевизор. Хозяева же стали требовать, чтобы он отдал им двенадцать тысяч рублей, иначе они грозились написать на него заявление в милицию. Короче, он попал в серьезный бидон. Светик хотел, было, уехать, но его посадили под домашний арест, а все пятеро охранников постоянно крутились вокруг, контролировали буквально каждый его шаг, даже в туалет он не мог самостоятельно отлучиться, а если они все куда-нибудь выходили, его на время даже к батарее приковывали, в общем, полный пиздец.
Этих охранников Светик изобразил жизнерадостными пидорами, особенно одного, члена местного РНЕ, который его утюгом пытал, потому что он, и в самом деле, говорил таким мяукающим голосом, как кастрат, а в «статье» у Светика, он разве что не пел, и все время предлагал Светику попытать его утюгом, потому что он без этого никак кончить не мог, а специальных клубов для таких, как он, где бы он и его товарищи могли всласть оттянуться, в Тамбове, естественно, не было.
Все кругом постоянно требовали от Светика денег, ведь он же сам натрепал, что скоро из Лондона ему переведут крупную сумму, и теперь пришло время расплачиваться и за прогулки на катере, и за квартиру, и за телевизор, и за пиво. Понятное дело, что теперь Светику захотелось обратно в Питер. А Костик тем временем решил устроить банкет в честь гостя из культурной столицы России, и на этот банкет собрались все руководители местной администрации, финансовые воротилы, короче, авторитеты. И когда все уже достаточно выпили, они стали вставать и произносить речи, какие-то совершенно бессмысленные выступления, то есть целью каждого было похвастаться перед столичным гостем и привлечь к своей персоне его внимание.
Встает, к примеру, директор местного банка и говорит:
Я хочу рассказать вам о своем сыне. Он, вообще-то, сейчас учится в Гарварде, и уже добился значительных успехов в изучении генетики, но скоро собирается приехать к нам, хотя бы ненадолго. Так вот сегодня он мне звонил и передавал огромный привет Святославу, кажется, у них даже нашлись общие знакомые… — И выпивает за здоровье Светика.
Потом встает глава местного универмага и лепит:
А моя дочь сейчас организует конгресс молодых славистов в Париже. И она была бы счастлива видеть у себя Святослава, она, кажется, уже выслала ему приглашение по дипломатической почте. Надеюсь, Святослав, мы с вами надолго останемся добрыми друзьями, и вы, даже после возвращения в родной город, нас не забудете…
А потом встает уже человек, который вообще контролирует всю местную проституцию, и заявляет:
А вот мой сын вообще мечтает с вами познакомиться, он уже сегодня утром вылетел из Нью-Йорка и спешит на нашу встречу. Надеюсь… — и он смотрит на свои часы, роскошный «Роллекс» — надеюсь, он скоро появится здесь. Он специальный корреспондент газеты «Нью-Йорк Таймс» и хочет сделать репортаж о поездке Святослава в наш город.
И так по очереди все встают, и каждый рассказывает такую основательную историю про своего сына или дочь, просто сами-то они уже такие солидные папики, а их дети по возрасту, да и по интересам, как им казалось, способны были больше заинтересовать Светика.
А тем временем очередь постепенно дошла до отца Костика, который тоже сидел рядом со Светиком и своим сыном, и все выпивал и выпивал при провозглашении очередного тоста. И он тем временем основательно набрался, и, когда до него дошла очередь, встал, поднял бокал и сказал:
А мой сын — алкоголик, наркоман, гомосексуалист, вор и извращенец. Но именно он пригласил в наш город Святослава, поэтому давайте выпьем за его здоровье!
И все так немного передернулись, но выпили, потому что не могли же они отказаться. А Костик, хоть и напился, но все равно глаз не спускал со Светика, и у дверей дежурили два здоровенных охранника, так что Светик даже и в туалет не мог выйти без сопровождения.
Светик этот банкет в своей «статье» тоже подробно описал, добавив от себя еще кое-какие подробности, которые ему Костик по секрету про каждого участника банкета сообщил. Например, что его собственный папаша, который так гордился своим сыном-педерастом, утащил с кладбища небольшую, но все равно достаточно увесистую могильную плиту, на которой было написано: «Иван Петрович Сидоров. 1900–1990. Покойся с миром, милый дедушка.». На ночь он поверх одеяла клал ее на себя и без этого просто не мог заснуть, и это, действительно, было так, потому что его сынок Костик сам рассказал об этом Светику, и Светик, кстати, не забыл на этот свой источник информации указать в «статье», пусть он с ним разбирается, если это неправда, потому что профессиональная совесть журналиста и глубокое уважение к скромным труженикам Тамбова не позволяли ему брать факты с потолка, а то бы он так всех обосрал, что эта могильная плита показалась бы им просто обычным пуховым одеялом, невинным свадебным подарком новобрачным от доброго дедушки, Ивана Петровича Сидорова.
Ну а директор банка, добрейшей души человек, который тоже очень гордился успехами своего сына, который обучался в Гарварде, видимо, ради будущего своего любимого чада был вынужден экономить буквально на всем, поэтому он и жил в огромном трехэтажном деревянном доме на берегу реки, очень запущенном и заброшенном, а маму свою держал в подвале, то есть она сама там жила, ради внука, и ей там было очень хорошо, потому что он ее не забывал и как заботливый сын два раза в день приносил ей туда овсяную кашу в алюминиевой миске, овсяная каша очень полезна для здоровья, и его мама очень ее любила — этот факт Светик тоже мог документально подтвердить, он слышал, как его новые друзья, тщательно охранявшие его покой, с нескрываемым восхищением и пониманием обсуждали альтруизм тамбовского банкира и сочувствовали его материальным проблемам.
Далее в «статье» приводилось еще несколько фактов подобного рода, и всякий раз Светик указывал на источник, откуда им были почерпнуты сведения из жизни самых влиятельных людей Тамбова, главным образом, таким «источником» были непринужденно болтавшие в соседней комнате его заботливые друзья, причем и Марусю он уверял, что все это чистая правда, и он не добавил от себя ни слова. В заключение же Светик писал, что, несмотря ни на что, пребывание в Тамбове оставило у него самые приятные и светлые воспоминания, и он никогда не забудет тот радушный прием, который ему оказали местные жители…
Но однажды Светику как-то все-таки удалось уговорить одного из этих охранников, Геночку, он оказался очень интеллигентным юношей, не таким жлобом, как все эти остальные, и они с ним ночью убежали и спрятались на одной местной туристической базе. Геночка заплатил свои деньги за комнату, и они там с ним жили. Светик даже побрился наголо, чтобы его не узнали, потому что, оказалось, у этого Костика всюду были агенты, по всему Тамбову, и он его отслеживал. Однажды Светик шел по улице, и вдруг видит — прямо навстречу ему бежит этот самый Костик, Светик испугался, а тот мимо пробежал и его не узнал, потому что он сильно изменился за это время. Кроме того, что он побрился, он еще очень сильно похудел, потому что жрать там было нечего. У Светика вообще лицо — как белый лист бумаги, что на нем нарисуешь, то и будет, жаль, что он местного мэра очень плохо знал, никогда не видел, а то он бы в него на время перевоплотился.
Гитлер у него тоже очень хорошо получался, как-то он в военном френче и с железным немецким крестом на груди даже хотел отправиться в праздник Девятого Мая на салют, его в последний момент удержали и заставили переодеться, а то его бы точно ветераны замочили. А он в тот день все же пошел на салют, но переоделся старушкой-ветераншей, надел седой парик, юбку защитного цвета, китель, ордена своего дедушки, серые нитяные чулки, и под эти чулки сделал такие катышки, как бывает у старушек с расширением вен, и так его никто не тронул, наоборот, он даже познакомился с какими-то подслеповатыми стариками, и они вместе пили портвейн на набережной Невы. Но Гитлером в Тамбове местных жлобов тоже вряд ли напугаешь, они сами его, как в гестапо, к батарее приковали и утюгом пытать стали, а он уже давно раскололся, признался во всем, что он не журналист никакой вовсе, но ему так никто и не поверил, ведь у него такой вид, как у миллионера, Светик и сам это знал, перед ним даже в Москве и Питере мало кто устоять мог.
Недалеко от турбазы стоял старинный замок, и они с Геночкой ходили его осматривать. Местные жители уверяли, что в этот замок нельзя заходить, иначе с тобой потом обязательно случится несчастье, и ты можешь даже погибнуть, потому что в свое время там какие-то упыри замочили владельца и его жену. А Светик с Костиком как раз незадолго до этого поспорили — кто такой на самом деле был Павел Первый, Костик доказывал, что его замочила его жена, а Светик говорил, что, наоборот, это его замочил собственный сын. Они позвонили в Питер одной светиковой подруге, и она им все рассказала. Светик, естественно, оказался прав, он во время разговора попытался ей намекнуть, что и его самого тут, как Павла Первого, мочить собираются, но она ничего не поняла, подумала, что он обкурился. Кроме того, выяснилось, что Костик очень любит Чехова, это был его любимый писатель. А Светик Чехову не мог простить страшного воспоминания детства. Конечно, с одной стороны, он внес серьезный вклад в отечественную литературу, но он ведь всегда исповедовал культ вуду, стоит прочитать хоть один его рассказ, и все: в этом ни у кого не остается ни малейшего сомнения! А вот у Костика такие сомнения были. Но у Чехова же все герои не люди, а какие-то реанимированные покойники, самый страшный рассказ Чехова Светик даже не мог вспоминать спокойно, все считают, что это очень смешной рассказ, а вот Светику никогда не было смешно его читать, он всегда у него вызывал настоящий ужас, это какое-то проявление чистого садизма, это где повествуется об одной писательнице, которая пришла к издателю и стала ему читать свой роман, а он все слушал, слушал, и под конец ее убил. Светик никак не мог понять, что тут смешного? Он допускал, что, может, кому-нибудь и покажется смешно, но разве что извращенцам, у них и концлагеря смех могут вызвать, и вообще человеческие мучения их развлекают.
А в тот замок все местные жители уже давно боялись ходить, потому что сперва, когда отдельные смельчаки туда отправлялись, потом их долгое время мучили страшные видения, и они вообще не могли спать. Но Светик туда все же зашел, потому что он был заговорен уже давно, он был не такой, как все люди, ведь его дед был родом из Румынии, потомок графа Дракулы, и Светику передались многие его качества.
Маруся должна была снова встретиться с Блумбергом через неделю и передать ему синопсис, то есть краткое изложение содержания будущего романа, о котором они с ним накануне договорились и, если он все это одобрит, то он даже обещал ей выплатить крупную сумму денег в виде аванса, а деньги ей сейчас были очень нужны, тогда бы она сразу пошла и купила бы себе сигарет и еды.
Поначалу Костя был категорически против этой затеи с детективом и даже заявил Марусе, что порвет с ней все отношения, если она за это возьмется. Но на следующий день его настроение вдруг резко изменилось, он сказал, что, в сущности, в этом нет ничего страшного, он даже готов сам все за нее сделать.
Конечно, Костя не сомневался, что и Маруся сможет сама без него справиться и написать вполне приличный детектив, но ему теперь очень хотелось попробовать себя в этом жанре и не просто из спортивного интереса, ему это было нужно еще и в качестве психотерапии, для его психического здоровья, так как Косте было важно проверить, достаточно ли он адаптировался к миру, и готов ли он к встрече с обыкновенным средним человеком, типичным представителем современной цивилизации в лице Блумберга, или же нет. Но Костя, конечно же, поставит на книгу имя Маруси и гонорар он тоже готов полностью уступить ей, потому что в данном случае, она будет выполнять очень важную роль своеобразного амортизатора между ним и миром.
Костя не сомневался, что он без труда справится с этой задачей. Правда за всю свою жизнь он прочитал всего один детектив, кажется Жапризо, и хотя это было очень-очень давно, еще в юности, но у него до сих пор осталось от этого чтения чувство глубокой тошноты. Более того, когда много лет назад он где-то вычитал, что Ахматова всегда держала у себя детектив под подушкой, он окончательно утратил всякий интерес к ее творчеству, а она к тому же любила еще и Булгакова, «Мастера и Маргариту», ну это уж и вовсе находилось за пределами костиного понимания…
В тот момент, когда Костя говорил об этом Марусе, его лицо вдруг исказилось какой-то страдальческой гримасой, и Маруся даже испугалась, что сейчас с ним опять случится припадок злобы, но Костя сдержался, взял себя в руки и снова вернулся к тому, что он собирается делать.
В сущности, ему совсем не обязательно было читать детективы, достаточно было того, что телевизор в его комнате был почти все время включен, и он за последние годы как-то между делом успел просмотреть огромное количество детективных фильмов и триллеров, и они, в отличие от книги Жапризо, почему-то не вызывали у него никаких особых эмоций. Так что он думал, что теперь ему не составит большого труда самому состряпать нечто подобное.
Если Маруся читала «Философию поэзии» Эдгара По, например, то она, наверняка, помнит, как тот описывает свои мысли перед тем, как приступить к сочинению поэмы «Nevermore»: «каркнул ворон: Nevermore и т д.». Сначала По задается вопросом, что является наиболее трагическим в этом мире. Самое трагическое — это смерть, тогда как самым поэтичным является «любовь». Поэтому По приходит к выводу, что сюжетом трагической поэмы должно стать не что иное, как «смерть любимой девушки»… Таким образом, Эдгар По последовательно, постепенно показывает, как он приходит к тому или иному образу своей поэмы, и ведь у него совсем неплохо получилось, не правда ли:
- И завес пурпурных трепет издавал как будто лепет,
- Трепет, лепет, наполнявший темным чувством сердце мне…
Но если так можно работать над стихами, то уж над каким-то паршивым детективом, состоящим из элементарных кубиков, и подавно… Нет, Костя не собирался следовать по стопам Умберто Эко, от одного имени которого Костю тоже тошнило, он собирается написать обыкновенный, банальный детектив. И если Маруся смотрела фильм Годара «Детектив», то она должна понять, что он имеет в виду, ведь любой детектив составлен из определенного набора штампов, своеобразных маленьких кубиков, которые более или менее искушенный в этом жанре автор, как правило, переставляет, меняет местами, не особенно напрягаясь и без особого труда выдавая все новые и новые сюжетные линии и интриги, в общем, эта задача по силам и ребенку или даже компьютеру. Потому что, если эти составляющие «кубики» — штампы ввести в электронную память, то компьютер, наверняка, тоже смог бы их варьировать не хуже, чем человек.
Например, Костя заметил, что персонаж, который сначала сотрудничает с преступниками, а затем помогает полиции, должен обязательно погибнуть, как это и произошло, например, в конце «Места встречи», когда Высоцкий стреляет в убегающего бандита, а Шарапов безуспешно пытается его остановить. Этот герой должен погибнуть, потому что по законам общества его следует наказать за совершенные ранее преступления, а с точки зрения общечеловеческой морали его следовало бы помиловать, так как он помогал органам правопорядка и, вообще, теперь вызывает симпатии у читателей и зрителей. Так что наказать его — означает поставить под сомнение моральную значимость существующих в обществе законов, а оставить на свободе — значит опять-таки усомниться в неотвратимости наказания за преступление, поэтому автор, как правило, и вынужден такого героя просто физически устранить, как говорится, «нет человека — нет проблемы». В общем, по костиным наблюдениям, устранение такого героя практически предопределено, особенно если действие детектива разворачивается на территории таких государств, как Советский Союз или США, которые, по глубокому убеждению Кости, один другого стоили в смысле ханжества.
Однако автор вынужден устранять такого героя не только из страха общественного порицания, но еще и потому, что, оставив его в живых и поставив под сомнение законы социума, он, безусловно, утяжелил бы этот, в общем-то, такой легкий и непритязательный жанр, как детектив, отяготив его совершенно ему не свойственной и не нужной философией. А тот, кто нарушает законы жанра, не только нарушает заранее оговоренные правила игры и вызывает раздражение читателей, но еще и грешит против чистоты Стиля и Красоты, что и вовсе непростительно, так как именно Стиль в общей иерархии человеческих ценностей, как эстетических, так и житейских, безусловно, занимает, по мнению Кости, самое главное место и пока еще никто не доказал обратного.
Поэтому, например, и то, что на смену аристократии повсеместно в современном обществе приходит интеллигенция, является достаточно явным и очевидным знаком вырождения жизни как жанра, так как для интеллигенции важны ум и знания, а аристократию прежде всего характеризовали хорошие манеры, то есть это были люди Стиля, Костя был в этом убежден.
Именно поэтому такой аристократический мыслитель как Конфуций так много внимания уделял церемонии, которая по-китайски называется ли . И если Маруся внимательно вглядится в свою душу, то она должна будет признать, если, конечно, она сможет отбросить все, что ей так долго внушали все кругом, за исключением, разумеется, Кости, который ей ничего подобного никогда не говорил, так вот, если она вглядится в свою душу, то она должна будет признать, что кавалергард Дантес, например, на голову выше поэта Пушкина, не говоря уже о таких недоделках, как Лобачевский, академик Павлов или Эйнштейн.
Фюрер был прав, когда приказал сжечь огромное количество книг, жаль только, что он отбирал их по национальному признаку, будь его, Кости, воля, он уничтожил бы все книги, которые считал умными, потому что они оскорбляли его эстетическое чувство. Сам Костя уже давно сжег свой диплом, хотя он и признавал, что до конца избавиться от всего умного в себе ему так и не удалось, и эта «каинова печать» интеллигентности лежит на нем до сих пор. Но если бы люди все-таки смогли избавиться от ума, то тогда, возможно, человечество по-настоящему очистилось бы, а жизнь возродилась, и не была бы такой плоской и скучной, как теперь, а пока она уступает даже самому паршивому детективу, и от одной мысли об этом его тошнит больше, чем от воспоминания о чтении Жапризо…
Поэтому, собственно, Костя и решил помочь Марусе в этом неприятном деле, и помочь ей материально, раз уж он до сих пор жив, то в сравнении с этим его проступком и непростительной оплошностью написание детектива кажется ему просто детской забавой, каковой оно, на самом деле, и является.
Но хотя детектив и является детской забавой, тому, кто собирается его сочинить, не стоит забывать, что люди либо вообще не читают детективы, как, например, сам Костя, либо читают их в огромном количестве, и поэтому автор, составляя свой занимательный роман из заранее заготовленных штампов, которые по-своему, конечно, тоже должны даже радовать любителей подобного фуфла, как радует человека вкус знакомой пищи, «тот самый вкус», вкус чая или кефира, который «муж пил в детстве», так вот, автор все-таки все равно должен приготовить читателю хотя бы один неожиданный новый ход, если не в дебюте, то в конце, эндшпиле, иначе читатель может разгадать замысел книги в самом начале, и тогда ее создатель, выражаясь шахматным языком, сам получит мат, так как его книгу просто никто не будет дочитывать до конца, а значит, она не будет продаваться, а тогда вообще, для чего она писалась, не из любви же к искусству.
Тут, по мнению Кости, все внимание следует сосредоточить на личности главного подозреваемого, вокруг которого, собственно, обычно и крутится все повествование, этот последний штрих, ответ на заданную загадку, прежде всего, не должен разочаровать читателя. На этот счет у Кости тоже были свои соображения, он тут тоже кое-что успел подглядеть по телевизору, например, у Агаты Кристи, когда персонаж, который считался погибшим, вдруг в конце оказывается виновником всех бед, так как, на самом деле, вдруг выясняется, что он совсем не умер, а жив. Это как в карточном фокусе, когда из колоды, вроде бы, удаляется одна из карт, и ее там быть не должно, но потом именно на нее и натыкается изумленный зритель.
В конце концов, Костя не исключал, что и все человечество стало жертвой подобного фокуса, ведь и Христос, как известно, сначала умер, а потом, якобы, должен явиться всему человечеству и даже уже однажды явился своим ученикам, чтобы предупредить их об этом. Если такой фокус и в самом деле удастся, то для очень многих, он не сомневался, это окажется совершенно неожиданным, да, пожалуй, и для самого Кости тоже. В последнее время ему даже стало порой казаться, что и он сам тоже всего лишь лежит на диване в темной тесной комнате, а не стоит на капитанском мостике и не управляет незримыми галактиками, во всяком случае, это сомнение в последнее время стало все сильнее закрадываться в его душу… Может быть, и он тоже читал раньше не те книги, и часть из них тоже предназначена для массового пользования, то есть как детективы и триллеры, для дурачков…
Ведь, например, героям Древней Греции или же Рима, Александру Македонскому, Юлию Цезарю, прежде чем попасть на страницы книг Плутарха или Светония, все-таки нужно было сначала совершить вполне реальные жизненные подвиги, завоевать мир, расширить границы империи, побеждать в сражениях и тому подобное, в то время как при внимательном чтении Библии — Костя задумался над этим совсем недавно — от ее героев, как правило, ничего подобного не требовалось, это могли быть совсем обычные люди или даже цари, но ничего особенного не совершающие, никаких особых побед и деяний. Просто им на голову то сыплется манна небесная, то им является огненный куст, то ангелы, то лестница в небо, а без этих сверхъестественных и ирреальных событий все герои Библии, в общем-то, самые обычные люди.
То же самое можно было сказать и про Евангелие, эта книга тоже целиком состояла из каких-то фокусов, хождений по воде, воскрешений из мертвых, превращения воды в вино и тому подобного, а без этих сверхъестественных событий она тоже превращалась в собрание банальных людей, поступков и слов. Если, к примеру, как писал Флоренский, во время церковной службы душа его умершего друга действительно летала вокруг него, превратившись в пчелу, то тогда, вероятно, это факт, достойный описания. Но Костя в последнее время как-то утратил интерес к подобного рода фактам, все это больше не казалось ему даже остроумным. А ведь та же самая пчела вполне могла бы стать героиней дзенского стихотворения, повествующего о быстротечности человеческого существования, например. Но тогда ее полет перестал бы быть карточным фокусом, а стал бы образом, символом, но это требует уже совсем иного отношения к жизни, иного духовного опыта…
Да и в детективах, пожалуй, тоже это, скорее, шулерский, запрещенный прием, потому что, если вы играете в карты и видите, что эта карта уже ушла, а потом вдруг она снова появляется в колоде, то это ведь не совсем честно, зато этот прием действует безотказно, но только до поры, так как не стоит забывать, что любители детективов читают их в огромном количестве, и это сильно действующее средство может им очень быстро приесться, и наверняка уже приелось…
В общем, хотя Костя и не собирался забивать себе особо голову всей этой чепухой, но лично он не сомневался, что его познаний в этой сфере хватит на десять блумбергов… Что касается конкретного плана, то можно было бы состряпать какой-нибудь триллер, вроде «Психо по-русски», главный герой которого был бы уже вовсе не молодой человек, которого била в детстве мама, как в американском варианте, так как это в Америке все помешаны на психоанализе, что Хичкок, вообще-то, верно подметил… Нет, в нашей отечественной вариации на эту тему, по мнению Кости, на роль маньяка больше всего подошел бы пенсионер-ветеран, который бы на досуге тайком мочил «новых русских», а затем бы обливал бензином их новенькие иномарки, сажал туда труп и поджигал. В общем, такой триллер был бы чем-то вроде «Ворошиловского стрелка», только с несколько иначе расставленными акцентами. В конце же, после разоблачения, этот герой, соответственно, должен был бы не вспоминать свои детские обиды, а выводить на доске мелом формулу прибавочной стоимости, наглядно показывающую, куда, в чьи руки утекает заработанный честным трудом пролетариата капитал, желательно еще, чтобы при этом он разражался мефистофельским смехом. Конечно, может быть, Костя этого не исключал, этого ветерана тоже в детстве била мама, но, скорей всего, его била бабушка, так, по мнению Кости, было лучше, симметричней. И именно такой герой, по его словам, был для современной России наиболее актуален и архетипичен…
В этом Маруся была, пожалуй, полностью согласна с Костей. Она помнила, с каким нетерпением ее мама ждала просмотра фильма «Ворошиловский стрелок» по телевизору, и как она настоятельно советовала Марусе обязательно его посмотреть. Сюжет мама в общих чертах уже знала: разгневанный ветеран мстит «новым русским» за изнасилованную внучку. В конце концов, мама даже специально пригласила Марусю в день премьеры фильма по телевизору к себе, что с ней редко бывало, и накрыла праздничный стол. Может быть, конечно, это было случайное совпадение, но все-таки, других поводов для этого, вроде, в тот день не было. Правда, сам фильм маму немного не удовлетворил, ей там чего-то явно не хватало, она не могла скрыть своего разочарования, она даже так тогда и сказала Марусе: «Ну, могли бы и еще получше все показать.»
Вот это «еще получше», видимо, Костя и намеревался воплотить в своем триллере, правда, он еще окончательно не решил, на какой теме ему остановиться. Возможно, это будет эротический триллер о секс-террористке, заражающей СПИДом своих сексуальных партнеров, причем не по заданию, а просто так, из любви к искусству. «Все остается людям» — такое название для этого триллера казалось Косте наиболее подходящим… А может быть, и что-нибудь еще… Косте нужно было еще немного подумать, но пусть Маруся не волнуется, он предоставит ей синопсис точно к намеченному сроку, Блумберг будет доволен…
Были и еще кое-какие мелочи, например, если главную героиню преследует маньяк, то ее подруга или же сестра обязательно тоже должны были погибнуть. Этот прием, по словам Кости, заставляет читателя сильнее почувствовать приближение опасности, а всех этих героев, наряду с теми, о ком он уже говорил, Костя относил к числу так называемых «обреченных». Вообще, на этих «обреченных» персонажей у Кости, судя по всему, был особый нюх. Стоило ему минут десять-пятнадцать посмотреть фильм, как он сразу же чувствовал, кто из героев будет убит, у него на них выработалось особенное чутье. А ведь иногда это бывает не так просто определить. Например, Костя далеко не сразу заметил, что, если какой-нибудь из героев фильма как-то уж очень симпатичен, жизнерадостен, неестественно много шутит и смееется, то он тоже обязательно должен был погибнуть, но это делалось уже, видимо, для того, чтобы у зрителей не оставалось никаких сомнений в справедливости неотвратимого наказания преступника или маньяка, посягнувшего на их любимца…
Они договорились встретиться через несколько дней, и Маруся радостно побежала домой звонить Блумбергу.
Через два месяца после Полнолуния и премьеры «Лунной сонаты» Маруся снова натолкнулась на «новых диких», но уже в музее Неофициального искусства, который находился в том же доме, что и Большой концертный зал Академии Мировой музыки, на той же лестнице, только этажом ниже, музей занимал самую большую сорокаметровую комнату огромной коммунальной квартиры, которая, как и все квартиры этого дома, давно была расселена.
На сей раз «новые дикие» презентовали там свой поэтический сборник, на эту презентацию Марусю затащил опять-таки Алексей. Параллельно с презентацией, тут же, в Большом выставочном зале музея неофициального искусства, проходила выставка «Фото на память», в связи с чем на всех стенах комнаты в большом количестве были развешаны белые листы бумаги разных форматов и размеров с многочисленными разнообразными надписями, сделанными карандашом и чернилами, вроде: «Дорогому дедушке от внучка Славочки. Сочи, 1972 г.» или «Любимому Пусику от его Мурки. Ленинград. июнь,1987.», а так как выставка была организована при поддержке Института Гете, то часть подписей была на немецком языке: «Дорогой Герде от Клауса, январь 1943 года, Восточный фронт» и т. п.,- все листы были просто прикреплены к стене кнопками.
В комнате на расставленных стульях сидело не более десяти человек. Маруся опять увидела знакомый таз в руках Отрубева, только ноты перед ним на сей раз были разложены на настоящем пюпитре, Скворцов сидел за столом с маленькой книжечкой в руках лицом к зрителям, а Степанов, очевидно, тем временем лежал, накрытый с головой одеялом, на поставленных у стены стульях у Скворцова за спиной, точно это Маруся определить не могла, потому что лицо лежащего было закрыто, на всякий случай Маруся села в самый задний ряд, подальше от выступающих, предварительно тщательно осмотревшись по сторонам, сзади у нее была только стена, а дверь в комнату находилась с противоположной стороны, за импровизированной сценой.
Внезапно возникший из этой двери философ Нежинский — тот самый, которого Торопыгин называл «русским Кастанедой» и сравнивал с Вергилием в царстве мертвых — сразу же поздравил собравшихся с тем, что наконец-то в нашем городе возрождается утраченная было традиция литературно-музыкальных вечеров русских салонов девятнадцатого века, это явление, значение которого, по его мнению, сегодня, в постмодерную эпоху, могло быть сопоставлено разве что с открытием Ньютоном закона тяготения в эпоху Просвещения… В это самое мгновение на головы присутствующих совершенно непонятно откуда вдруг посыпалось огромное количество яблок, в комнате началась какая-то беспорядочная возня, отовсюду раздавались визг и хихиканье… Маруся, со своей стороны, все-таки пожалела, что, тщательно оглядевшись по сторонам, она почему-то позабыла посмотреть наверх, и только теперь, подняв глаза к потолку, она заметила, что сверху, у основания люстры, каким-то образом был закреплен деревянный ящик, в котором и хранились заранее заготовленные яблоки, а тоненькая едва заметная бечевка тянулась от него к ноге вроде бы безмятежно сидящего за столом Скворцова. Тем временем сидевший с тазом Отрубев опять торжественно вскинул руку вверх и с грохотом ударил по тазу, а мужик, лежавший на стульях под одеялом, резким движением сорвал его с себя и предстал перед зрителями совершенно голым, более того, он тут же скатился со стульев на пол, потом поднялся и опять гордо лег на стулья, сложив руки на волосатом животе, как обычно складывают руки покойникам, это действительно был Степанов, при следующем ударе в таз он проделал то же самое, примерно после пятого падения, когда он снова улегся на стулья, его огромный красный член вдруг неожиданно встал, и его пришлось срочно снова на время прикрыть валявшимся на полу одеялом. Нежинский и Скворцов стали настоятельно советовать ему взять себя в руки и успокоиться, из обрывков фраз, доносившихся во время возникшей между ними бурной перепалки, когда они сгрудились вокруг Степанова, а также из отдельных реплик и шушуканий сидящих в зале, Марусе стало ясно, что все участники презентации были чрезвычайно встревожены поведением Степанова, главным образом, из-за денег Сороса, который выделил им на эту акцию что-то около двух тысяч баксов, через некоторое время Степанов наконец успокоился, и все началось сначала: Отрубев бил в таз, а Степанов опять падал…
Маруся поняла, что ей пора уходить, так как литературно-музыкальные чтения могли затянуться допоздна, она поднялась со своего стула и тихонько, еще раз тщательно оглядевшись по сторонам, пробралась к выходу, а если бы она заранее знала, что все это проводится на деньги Сороса, то, возможно, вообще поостереглась бы сюда приходить, так как на такие бабки, помимо яблок, которые стоили в это время года примерно рублей пятьдесят за килограмм, можно было накупить еще и такого, о чем ей было даже страшно подумать.
Уже в прихожей ее догнал Алексей, он вцепился ей в локоть и забормотал: «Ах Маруся, коварная, куда же вы, как вы непостоянны и переменчивы, вы же пропустите самое интересное, ну возьмите же хоть это!» — Маруся даже не пыталась от него вырываться, так как знала, что это бесполезно, и покорно взяла тоненькую книжечку, которую он ей протягивал и на обложке которой значилось: «Отрубь Скворцени-Степанов. И ныне дикий. Стихи и переложения для таза и голоса». Она наугад открыла книжечку, где слева на странице обнаружила стихотворение Кузмина:
- На берегу сидел слепой ребенок,
- И моряки вокруг него толпились… —
а справа — его «переложение для таза и голоса»:
- На берегу сидел слепой ублюдок,
- Бойцы вокруг него, сопя, толпились,
- Оскалившись, ублюдок громко кыркнул: «Баста,
- Кончай базар, куда канаю, кто я,
- Никто из чуваков не прошпандорит мимо.
- И бабками меня никто не купит,
- Мне все до фени: бивень, лабух, фраер,
- Я сам балдею от своих прихватов,
- Одним я лажа, а другим по кайфу,
- Бакланы тащатся, зовут меня улетным.
- Олдам — кранты, мажорам — выше крыши. Кто я?»
Каждое из таких «переложений» в книжечке сопровождалось еще и нарисованными снизу «нотами» в виде всевозможных палочек, кружочков и человечков, наподобие тех, какие обычно находят археологи на стенах пещер.
В сопроводительной статье к сборнику Нежинский развивал и доводил до логического конца мысль, которую он уже начал излагать в начале презентации, но не успел завершить из-за обрушившихся на головы присутствующих яблок, точнее говоря, он писал, что некий петербургский поэт-самородок Отрубь Скворцени-Степанов, на его взгляд очень смелым и оригинальным образом сумел возродить в Петербурге уже угасшую было совсем традицию русских дворянских литературно-музыкальных салонов, давших русской культуре множество гениальных поэтов, певцов и композиторов: Чайковского, Апухтина, Алябьева, Шаляпина, Варю Панину, Фета и, наконец, Михаила Кузмина, умело сочетавшего в своем творчестве таланты музыканта, поэта и композитора, — появление же в нашу постмодерную эпоху такого самородка, как Отрубь Скворцени-Степанов, является столь же органичным и одновременно неожиданным, сколь естественным и неожиданным было открытие Ньютоном в эпоху Просвещения закона всемирного тяготения.
Маруся вышла на улицу, Алексей бежал следом, он говорил, что его всю жизнь раздирало противоречие между тягой к утонченности и естественностью. Загорулько и Кондратюк были очень утонченными, но им не хватало естественности и природной силы, которую он находил в Скворцове и Степанове, это были его Сцилла и Харибда, Гретхен и Маргарита, поэтому он был вынужден метаться между ними, попеременно склоняясь то в одну, то в другую сторону, но никто из них в полной мере, конечно, не сумел воплотить в себе того, что мог бы воплотить настоящий поэт, им всем не хватало универсальности, и только Маруся была его слабым утешением в этом мире, потому что она явилась к нему как богиня, как вечная женственность — его бренной и хрупкой мужественности…
В то же время, Загорулько, несмотря на свою утонченность, однажды послал его за пивом, он сначала не хотел идти, а потом решил, раз Загорулько посылает его за пивом, значит он — женщина, за пивом он пойдет, но Загорульку так и будет для себя считать женщиной, Загорулько — женщина, ведь такой жест могла позволить себе только женщина, а ведь он же был офицер и его прадед был подданым его Величества Короля Швеции Густава Пятого. С другой стороны, и «новые дикие», когда они собирались на фестиваль Современного Искусства в Хельсинки, они тоже, тоже стали спорить между собой, кто из них более дикий, потому что на Фестиваль могли поехать только два человека, а их было трое, а об Алексее они совсем забыли, и его учитель, поэт Ельник, тоже не обошел вниманием своего ученика, назвал его в своей книге девочкой, «эта девочка», а Екатерина Семеновна, которая посещала с ним литобъединение Ельника и жила в Гатчине, посвятила ему замечательные стихи:
- Твоя душа — цветок прекрасный —
- Дышала ночью и весной,
- А наша жизнь, как дар напрасный,
- Прошла… Не мы ль тому виной?
- …
- …
- Возьмемся за руки друзья,
- Пусть друг сжимает руку друга,
- И лед твоей руки, скользя,
- Сжигает мне ладонь упруго!
Но Загорулько, когда он принес ему это стихотворение, отказался печатать его в газете «На обочине», где он тогда работал, а ведь это замечательные стихи, в них так много чувства, Маруся и Екатерина Семеновна — вот два автора, которых он больше всего любит сейчас и все время перечитывает, критик же Торопыгин, когда его belle amie Светлана пришла к нему брать у него интервью, отозвался ей о нем в том смысле, что он педераст, а Даня, молодой человек с косичкой, тот самый, который захлопнул перед носом у Кости после выступления Волковой дверцу такси, многократно захлопывал такие дверцы перед самым носом Алексея, и не только такси, но и жилых помещений, и вообще, всякий раз, когда он его видел, он почему-то старался повернуться к нему спиной и делал вид, что Алексея совсем не замечает, когда же Алексей приближался к нему, то Даня как-то боком, незаметно для других, начинал его оттеснять в сторону и таким образом старался вытолкать за дверь, правда, однажды, после фильма Киры Муратовой «Увлечение», Алексей, проходя мимо него в фойе кинотеатра, краем уха слышал, что Дане, который в это время делился впечатлениями от фильма со своей знакомой, этот фильм, как и Алексею, тоже понравился, поэтому он сделал для себя вывод, что Даня все-таки не совсем мертвый человек, и наконец, когда Алексей пришел в гости к Николаю в его коммунальную квартиру на Загородном, к нему на день рождения, куда его, правда, никто не приглашал, и, сидя за столом, долго-долго говорил по-французски, то сидевший напротив Леша Сокольский, и вовсе вдруг, глядя на него, громко сказал: «Боже, какой дурак!»…
Маруся шла по залитой солнечным светом улице, была суббота и вокруг было полно людей, у нее слегка кружилась голова, вот уже два дня, как она ничего не ела, у нее дома не было даже хлеба. Несмотря на слабость, она чувствовала какой-то подъем, похожий на опьянение, а мысли в ее голове, наоборот, даже обрели какую-то неожиданную ясность и стройность, которых ей редко удавалось достичь в нормальном состоянии. И все-таки она не понимала, почему в конце двадцатого века, в мирное время у себя дома она не могла купить себе не только мороженое, но даже хлеба, и должна была голодать, почти как в блокаду. От осознания собственного бессилия она вдруг почувствовала жуткое озлобление на весь мир, но этого никто не должен был заметить, никто не должен был знать, как ей тяжело. Костя говорил, что, чем тебе хуже, тем веселее и беззаботнее нужно выглядеть, так как это твой единственный шанс выжить. Если же окружающие заметят твою слабость, они обязательно набросятся на тебя и окончательно растопчут. Ошибается тот, кто надеется кого-то разжалобить, все эти бабьи причитания абсолютно ни к чему, ибо такова человеческая природа, и с этим ничего не поделаешь.
Жизнь похожа на карточную игру, и если у тебя сейчас на руках нет козырей, то нужно блефовать, если ты, конечно, собираешься продолжать игру, и главное, не надо отчаиваться, так как в колоде еще много карт, и в следующее мгновение у тебя могут оказаться совсем другие карты. И потом, все люди разобщены, они не думают только о том, как бы тебя уничтожить, каждый играет сам за себя, поэтому между людьми всегда можно проскочить, как корабль между рифами, важно только не подавать виду и быть сосредоточенным.
Именно поэтому самый крупный куш чаще всего срывает тот, кому не на что рассчитывать, так бывает, потому что по законам блефа самую крупную ставку нужно делать тогда, когда у тебя совсем нет козырей, а жизнь — это и есть блеф. История Золушки — это сказка, а жизнь — это блеф. Но не каждый на это способен, сделать такую ставку, для этого нужно быть по-настоящему сумасшедшим. Во времена социальных катаклизмов и потрясений стройные человеческие ряды на мгновение размыкаются, в тесных стенах социальных ограничений возникают бреши, через которые и проходит тот, у кого в другое время нет никаких шансов, какой-нибудь сумасшедший, вроде Наполеона или Гитлера. В искусстве то же самое, ведь гений — это сумасшедший, у которого в благополучные времена очень мало шансов, и которого никто не ждет, так как истина, которую он несет людям, на самом деле, никому не нужна, она не так сложна, как это часто стараются представить, она просто никому не нужна… В последнее время это была любимая костина мысль, и он часто повторял ее Марусе.
И все-таки, у Маруси было очень хорошее настроение, потому что у нее в руках наконец-то была папка с проектом будущего романа, который она только что, полчаса назад, взяла у Кости и еще не успела прочитать, так как очень спешила в издательство, но сейчас она находилась уже в двух минутах ходьбы от «Блум-пресс», а у нее в запасе было еще минут пятнадцать, поэтому она решила зайти в Екатерининский садик, присесть на скамейку и хотя бы мельком ознакомиться с содержимым папки.
Весь синопсис размещался на полутора страницах, правда, написан он был мелким убористым почерком. У Кости не было ни компьютера, ни машинки, поэтому все свои тексты он всегда писал от руки, что, правда, бывало крайне редко, потому что Костя постоянно говорил и почти никогда не записывал своих мыслей, во всяком случае, Маруся никогда не видела его за этим занятием.
В верху страницы крупными печатными буквами было выведено «Гений сыска». Далее следовало краткое изложение сюжета будущего романа, который начинался вполне традиционно. Молодая выпускница юрфака Марфа Гройс получила распределение в управление по борьбе с организованной преступностью, где ей сразу же поручили расследование громкого убийства видного политика, кандидата в депутаты городского законодательного собрания, который был застрелен в упор в небольшой комнате в присутствии чуть ли не двадцати человек. При этом стрелявшего видели чуть ли не пятнадцать из них, однако убийцу почему-то не только никто не задержал сразу, но и потом, на протяжении времени, его никто не арестовывал, хотя он, вроде бы, даже не собирался никуда скрываться и спокойно продолжал жить своей обычной жизнью у всех на виду.
Марфа тщательно опрашивает всех свидетелей, собирает увесистое дело в трех объемистых папках, и с этими папками начинает ходить по инстанции от начальника к начальнику, но никто из них никак не реагирует на то, что дело завершено, преступление раскрыто, и не предпринимает по этому делу никаких следующих действий. Вместо этого один добродушно предлагает ей попить чайку, другой осведомляется о ее здоровье, третий предлагает ее трахнуть, четвертый просто зевает и отворачивается…
Вконец измотанная от бесконечных хождений по коридорам и этажам с тремя тяжелыми папками дела в руках, она все-таки отправляется в Москву. И там снова ходит из кабинета в кабинет. Наконец она попадает к самому главному начальнику, им оказывается обрюзгший жирный полковник ФСБ, который явно пьян и сидит, развалившись в кресле, неподвижно уставившись на нее своим бессмысленным мутным взором на протяжении всего времени, пока она излагает ему суть дела. В заключение полковник бормочет заплетающимся языком:
— А не пошла бы ты на хуй, дорогая! Неужели ты не понимаешь, что истина совсем не так сложна, чтобы расписывать ее в трех томах, просто она никому не нужна. Тоже мне, гений сыска!
На этой фразе, несколько раз подчеркнутой красной ручкой, повествование обрывалось.
Дойдя до этого места, Маруся вдруг почувствовала, что все ее надежды рушатся, и она уже не просто находится на краю пропасти, а проваливается в нее, больше ей было некуда и незачем спешить. Ясно, что показывать Блумбергу этот текст не было никакого смысла, а шутить с ним у нее не было никакого желания. Она поняла, что у Кости, наверное, стоило ей уйти, опять резко изменилось настроение, и он просто записал то, что не успел ей высказать вслух. Наверное, Костя специально так все подстроил, тянул до последнего, чтобы она в спешке не успела прочитать то, что он написал, и не глядя передала текст в издательство… Маруся медленно закрыла лицо руками и разрыдалась.
Литературному приложению к московской газете «Универсум», с которой тоже сотрудничала Маруся, срочно понадобилась статья про Роальда Штама, андеграундного поэта, который в пятидесятые годы жил в Петербурге и покончил с собой, не дожив до тридцати. В «Универсуме», помимо литературного приложения «Букинистический Универсум», «БУ», существовало еще множество всевозможных приложений: «Региональный Универсум», «Военный Универсум», «Культурный Универсум», «Религиозный Универсум» и т. п. И вот теперь в «БУ» вдруг кто-то вспомнил, что Роальду Штаму скоро исполнилось бы семьдесят, а так как Маруся жила в Петербурге, то есть в городе, в котором в свое время жил Штам, то статью о нем поручили написать именно ей. Она должна была побеседовать как можно с большим количеством людей, знавших Штама, и вообще собрать как можно больше фактического материала, так как в его биографии до сих пор было очень много «белых пятен», не до конца ясны были даже обстоятельства его смерти.
Главный редактор «БУ» Сеня Загоскин сразу же посоветовал Марусе обратиться к его дяде, Самуилу Гердту, который был театральным художником, в свое время работал с Михоэлсом, а в пятидесятые годы, наверняка, знал Штама, так как некоторое время был близок с группой ленинградских художников, возглавляемой неким Маресьевым, к которой также примыкал и Штам. По словам Сени, у его дяди, Самуила Иосифовича, в свое время был по-настоящему большой талант, но он его постепенно разменял по мелочам, работая сначала в театре, а потом в кино. Сам Сеня сейчас не мог ему даже позвонить, потому что с ним поссорился, причем до такой степени, что и Марусе он не советовал в разговоре с его дядей даже упоминать его имя, она могла обратиться к нему просто как журналист, собирающий материалы для статьи о Штаме.
Самуил Иосифович уже двадцать пять лет безвыездно жил в деревянном маленьком домике в Вырице, переехать куда в свое время он был вынужден из-за редкой болезни крови, требующей повышенного содержания кислорода в воздухе. Пару лет назад Сеня, еще будучи студентом театроведческого отделения ГИТИСа, проводил у дяди свои летние каникулы, он жил у него в Вырице в течение двух месяцев, дядя же, по словам Сени, все это время кормил его исключительно холодцом и даже не давал ему звонить матери в Москву по своему домашнему телефону, из-за чего Сеня был вынужден ходить на станцию, которая находилась в нескольких километрах от их дома. Кроме того, к концу второго месяца пребывания Сени у дяди, он почему-то решил, что Сеню заслало к нему ФСБ, чтобы тот за это время собрал о нем всю необходимую информацию, что он там, в своем уединении, думает и замышляет, какие картины рисует, и все потому, что иногда Сеня, как и положено племяннику, действительно справлялся о здоровье Самуила Иосифовича и о его ближайших творческих планах, которые, в сущности, его очень мало интересовали, и делал он это исключительно из вежливости. Самуил Иосифович, конечно, не сказал так прямо об этом Сене, но поделился своими соображениями на этот счет по телефону со своей сестрой, сениной мамой, которая, в свою очередь, все это передала Сене. В конце концов, Сеня не выдержал, послал дядю на хуй, хлопнул дверью и решил больше туда никогда не возвращаться, чему дядя, в свою очередь, видимо, тоже был искренне рад.
Все это Сеня сообщил Марусе просто так, на всякий случай, чтобы она все это учла, ибо одно неосторожное слово с ее стороны, которое каким-то образом вызвало бы у Самуила Иосифовича ассоциации с его племянником, могло серьезно повредить делу, и она рисковала уже никогда не получить ценных сведений о замечательном ленинградском поэте, которые таким образом и вовсе останутся не известными потомкам.
В Вырице Самуил Иосифович Гердт жил в небольшом домике на берегу озера с женой Ксюшей и собакой, Ксюша была лет на тридцать младше Самуила Иосифовича и очень хорошо готовила. Маруся приезжала к Самуилу Иосифовичу несколько раз, и ее там всегда очень хорошо кормили, причем не один, а два или три раза, когда она задерживалась допоздна. Поэтому она не совсем понимала и вообще с трудом могла себе представить, как и почему Самуил Иосифович кормил своего племянника исключительно холодцом, да и против марусиных звонков по телефону в Петербург и в Москву он тоже никогда не возражал, и даже пару раз сам предложил ей позвонить в Париж, чего ей и мама никогда не разрешала.
Самуил Иосифович, действительно, какое-то время был знаком и с Маресьевым, и с его окружением, поэтому и Роальда Штама он тоже знал довольно хорошо, хотя сам в эту группу он никогда не входил, потому что все это были, конечно, «очень темпераментные и талантливые люди», но совершенно деклассированные и неуправляемые, он же сам в то время заканчивал Академию Художеств, поэтому он с ними иногда общался, но знакомство его было, скорее, шапочным, и поверхностным. Роальд Штам, по его словам, был юноша с очень бледным одухотворенным лицом и чрезвычайно начитанный и эрудированный, до такой степени, что подобного рода эрудитов в дальнейшем в своей жизни ему уже редко когда приходилось встречать. А встречался он со многими: и с Михоэлсом, у которого даже какое-то время успел поработать в театре художником, и с Шостаковичем, и с Прокофьевым, и с Тарковскими, с отцом и с сыном, и с Окуджавой, который даже некоторое время, как и Сеня, жил у него здесь в доме, и с Высоцким, который, по его словам, был человеком очень непростым и скрытным, с Никитой Михалковым, с Кончаловским, с Акимовым, и с Вертинским, когда тот только что вернулся в Союз, и еще много-много с кем…
Соломон Михоэлс, например, был тоже очень и очень непростой человек и с очень развитым чувством юмора. Он рассказывал Самуилу Иосифовичу, как незадолго до него у них в театре работал один народный артист, который к приходу Самуила Иосифовича уже год как умер от бесконечных запоев, он вообще последние годы жизни очень много пил и даже на сцену выходил в нетрезвом виде, текст читал кое-как, да и память у него была плохая, слов не помнил, суфлеры с ним намучились.
А все дело в том, что в тридцатые годы проводилась такая кампания, когда каждому из видных деятелей искусств того времени поручалось пойти на какой-нибудь завод и отобрать там у станка несколько потенциальных гениев, так как предполагалось, что таковые могут существовать только в рабочей среде. Эта обязанность была возложена и на Станиславского, а тот, недолго думая, отправился на какой-то завод, вошел в цех, подошел к первому попавшемуся слесарю, попросил ему почитать что-нибудь на память, ну тот ему и прочитал что-то вроде «Однажды в студеную зимнюю пору», три первые строчки, которые он помнил, а Константин Сергеевич, чтобы долго по цеху не ходить, сразу же и сказал: «Вот, настоящий выдающийся талант, сразу видно, у этого молодого человека недюжинные способности, ему надо обязательно учиться и работать над собой, шлифовать свое дарование!». Этого слесаря и отправили сразу же в Москву учиться, а потом во МХАТ, а потом, так как фамилия его была то Синдлер, то ли Шифман, по разнарядке в театр Михоэлса, он к тому времени был уже народным артистом, тут он и стал всех доставать своим «выдающимся талантом», в результате, после очередной его пьянки и прогула, было решено собрать собрание творческого коллектива, где его попытались слегка привести в чувство и по-товарищески пожурить, а он вышел на сцену и громко, даже вроде неплохо поставленным голосом, что у него во время спектаклей никогда не получалось, сказал:
— Я на всех вас положил! — причем с ударением на втором слоге, — Меня сам Константин Сергеевич признал, а ваше мнение мне до лампочки!
Все знакомые Самуила Иосифовича были в основном из музыкально-театральной среды, так как долгое время он работал в театре художником, оформлял спектакли, а потом как-то незаметно перешел в кино, где уже делал костюмы, главным образом, к экранизациям русской классики. Он даже был членом Союза кинематографистов, а в Союз художников его так и не приняли.
Самуил Иосифович сразу же пообещал рассказать Марусе кое-что интересное про Роальда Штама, но всякий раз свой рассказ он начинал как-то очень издалека, забираясь в самую глубину своего детства. Он рассказывал Марусе о том, как он впервые решил стать художником, потому что, когда он еще был совсем маленьким, он шел по Невскому и увидел в витрине магазина огромную старинную картину, на которой были нарисованы какие-то сказочные львы и птицы, вот тогда он почему-то и сказал себе: «Когда я вырасту, я стану художником.» В детстве он вообще очень любил рисовать, правда, от запаха краски ему часто становилось плохо, и он начинал задыхаться, поэтому у него над кроваткой висела маленькая светелочка. Его дед был главным раввином Петербурга, а отец был часовым мастером, мать вообще нигде не работала, а сидела с детьми, с его старшей сестрой и с ним. Сестра у него была очень красивая, у нее было много поклонников, и она часто брала его с собой в Эрмитаж и в Русский музей на художественные выставки, там он и увидел впервые полотна Рембрандта, Тициана, Рубенса, Нестерова, Перова и Левитана… У Самуила Иосифовича в доме тоже висело несколько его небольших работ, в основном, это были пейзажи, чем-то отдаленно напоминавшие пейзажи Левитана.
А потом, в тридцать пятом году, отца арестовали, а их с матерью и сестрой сослали во Фрунзе, где тогда был очень странный состав ссыльных, и можно было встретить самых невероятных людей, от рядовых инженеров, врачей и учителей до внуков Льва Толстого и Мережковского, учеников Блаватской, бывших офицеров белой армии, монархистов, буденновцев, последователей Кропоткина, махновцев, антропософов, православных, оккультистов, меньшевиков, в общем, кого там только не было. Эта разношерстная среда самым неожиданным образом подействовала на Самуила Иосифовича, и именно там он впервые стал приобщаться к искусству, впервые услышал многие имена, Мережковского, например, или же Соловьева, о существовании которых в иных условиях он, наверняка, узнал бы на тридцать-сорок лет позже. Там же он впервые начал заниматься живописью под руководством внучатой племянницы Нестерова, которая потом и дала ему рекомендательное письмо в театр Соломона Михоэлса, который, в свою очередь, поспособствовал его поступлению в Академию Художеств, что по тем временам для сына репрессированного из числа ссыльных казалось почти невероятным.
Примерно же через год после поступления в Академию, его как-то вызвали к декану их факультета и предложили выступить на собрании с обличительной речью в русле пропагандистской кампании, связанной с известным «делом врачей», его кандидатура для такой речи, по мнению декана, была наиболее подходящей из-за его имени и фамилии. Но Самуил Иосифович отказался и до сих пор очень гордился этим, потому что тогда он стоял перед очень серьезным и рискованным выбором, так как последствия его отказа могли быть самые непредсказуемые. Но он все равно сказал декану, что пусть лучше они доложат вышестоящему начальству, что у него не все в порядке с головой, и на него положиться нельзя, а он пока, для отвода глаз, возьмет академотпуск, как бы по состоянию здоровья. В результате декан почему-то неожиданно пошел ему навстречу, и Самуил Иосифович тогда целый год не учился в Академии, а работал в детском саду художником и вел там кружок рисования, в том числе и здесь, неподалеку, в Вырице, куда детские сады тогда выезжали на лето.
В дальнейшем он все-таки сумел вернуться в Академию и даже ее закончить. Само обучение в Академии оставило в памяти Самуила Иосифовича противоречивые чувства. С одной стороны, там были неплохие художники, профессионалы, которые сумели ему поставить руку, и эти навыки очень пригодились ему в дальнейшем, с другой стороны, ему явно тогда не хватало общеобразовательных дисциплин, знакомства с новейшими течениями искусства, с многими из которых он познакомился впервые чуть ли не тогда, когда ушел на пенсию, то есть буквально лет пятнадцать назад, а с некоторыми — и еще позже, только после начала перестройки и наступления гласности, поэтому, долгое время занимаясь живописью, он почти ничего не слышал ни о кубистах, ни о постимпрессионистах, ни об экспрессионистах, не говоря уже о каких-нибудь там дадаистах и сюрреалистах, с их работами, хотя бы в виде репродукций, он сумел познакомиться гораздо позднее и очень об этом жалел. В Академии их учили в основном на образцах либо глубокой древности и Возрождения, либо Брюллова и передвижников, даже Мир Искусства там никогда никто не упоминал. Самуил Иосифович очень завидовал Марусе, что она была в Париже и видела Лувр, где ему так и не удалось побывать.
После окончания Академии, он некоторое время работал у Акимова, потом перебрался к Товстоногову, а потом долго работал на Ленфильме, делал эскизы костюмов. Когда Высоцкий снимался у Швейцера, он встретился с ним в баре на Кировском, но когда он узнал, что Самуил Иосифович является членом Союза Кинематографистов, то вообще не захотел с ним разговаривать и повернулся к нему спиной, тогда Булат, которого Самуил Иосифович знал уже тогда несколько лет, сказал потом Высоцкому: «Володя, ты напрасно с ним так, Самуил не такой!», — и после этого Высоцкий изменил к нему свое отношение. А вообще, это был очень сложный человек, совсем не такой, как его теперь представляют, в нем было все, буквально все, он вбирал в себя всю гамму человеческих чувств, это был настоящий артист, таких, как Высоцкий, Самуил Иосифович тоже очень мало встречал в своей жизни… Ну разве что Тарковского-младшего, который был очень замкнутым и неразговорчивым и с которым тоже было очень тяжело вступить в контакт, в отличие от его отца, которого Самуил Иосифович знал гораздо лучше и общаться с которым было куда проще…
Тут Маруся заметила, что Самуил Иосифович как-то незаметно для нее перескочил через время своего окончания Академии, а ведь именно тогда, по его словам, он встречался с Роальдом Штамом и другими «маресьевцами», и он ведь обещал Марусе рассказать про Штама еще кое-что очень интересное, зачем, собственно, она к нему и приехала. А Самуил Иосифович заскочил далеко вперед, уже в семидесятые, все это тоже, конечно, было очень интересно, но на улице было уже темно, а статью ей нужно было сдавать уже через две недели, пока же она знала про Штама только то, что это был «очень бледный, замкнутый, и очень эрудированный юноша».
Между тем, она совершенно не могла ни прервать, ни направить в нужное русло речь Самуила Иосифовича, потому что, стоило ей открыть рот, как он начинал махать руками и говорить: «Подождите, подождите, сейчас, сейчас, вы еще не слышали самого интересного!», — к тому же, после такой паузы у него сразу же обрывалась нить предыдущего повествования, и он мог либо снова начать со своего детства и пересказывать его со всеми подробностями, но в другой последовательности: как он ходил в Эрмитаж со своей сестрой, как он решил стать художником, как он жил во Фрунзе… А по второму, а потом по третьему и по четвертому разу слушать то же самое, но в других вариациях, Марусе было совсем не интересно, поэтому вскоре она решила вообще не прерывать Самуила Иосифовича, чтобы он хотя бы не возвращался к тому, что он уже говорил, и если уж она его слушает, то пусть уж лучше он говорит что-нибудь новое, хотя бы будет какая-нибудь свежая информация, так как повторения одного и того же плохо действовали ей на психику, она с трудом могла усидеть на месте, ей хотелось вскочить и выбежать на воздух. Вероятность же того, что после ее вопроса и возникшей в связи с этим заминки Самуил Иосифович вдруг начнет именно с того места, которое нужно, то есть, хотя бы со времени обучения в Академии и на сей раз уже не проскочит мимо интересующей ее темы о Роальде Штаме, а как-то незаметно для себя все ей о нем расскажет, так вот, вероятность этого, как она скоро сумела в этом убедиться на собственном опыте, судя по всему, была равна практически нулю. Потому что всякий раз, после того, как она его прерывала, он сразу же погружался в воспоминания еще более раннего детства, чем до того, начинал рассказывать ей о том, как он ловил бабочек, рассматривал рыбок в аквариуме, и переливы воды вызывали у него первые живописные ощущения, уже тогда он самостоятельно открыл некоторые особенности цветовой гаммы, которые были свойственны первым работам импрессионистов, и о которых, само собой разумеется, в четыре годика он еще ничего не знал…
Как только он оказывался в этой точке своей жизни, Маруся мысленно измеряла, сколько лет ему надо будет пройти, чтобы добраться до середины пятидесятых, и ей едва не становилось дурно. В результате, она решила для себя ни в коем случае не открывать рот и ничего не говорить, иначе будет только хуже. Если уж ей не повезло на сей раз, и Самуил Иосифович перескочил через нужный ей период времени, то надо подождать, набраться терпения, и может быть, в следующий раз, с нового захода, в ее сетях все-таки окажутся нужные ей факты. Во всяком случае, уезжая от Самуила Иосифовича, она твердо решила для себя, что постарается дома составить несколько наводящих вопросов, чтобы сразу, со всех сторон окружить его, отрезать ему пути к отступлению, подвести его году примерно так к пятьдесят третьему, чтобы он поглубже вошел в эту тему, тогда, возможно, в его памяти и всплывут столь необходимые ей факты жизни загадочного поэта.
В последний раз более или менее отчетливо Маруся видела Алексея Б. около Дома кино, перед очередной премьерой, где он стоял, поеживаясь от холода и нервно озираясь по сторонам, сначала она, было, даже подумала, что это он ждет ее, потому что обычно он всегда приходил на место их предполагаемой встречи заранее, и, стоило ему ее заметить, как он сразу же кидался к ней навстречу, жестами выражая бурный восторг, но на сей раз они, вроде бы, ни о чем не договаривались, более того, он не звонил ей уже целых три дня, что само по себе было странно, так как до сих пор он звонил ей практически каждый день, а иногда по два раза, теперь же он вообще будто не замечал Марусю, даже, когда она уже приблизилась к нему на расстояние десяти-восьми метров, он только скользнул по ней равнодушным взглядом, напряженно вглядываясь куда-то вдаль, ей за спину… Вдруг он весь вздрогнул, радостно вскинул руки вверх и кинулся навстречу Марусе, она даже с некоторым раздражением подумала, ну вот, наконец-то он ее узнал и сейчас опять в нее вцепится своими железными ручками, которые у него, действительно, были какими-то неестественно сильными и цепкими для его, скорее, хрупкого сложения, однако Алексей промчался мимо нее и даже, как ей показалось, слегка задел ее локтем. Она невольно оглянулась назад, там она заметила Артема Живкова и рядом с ним какую-то маленькую хрупкую девушку, это, как выяснилось позже, была первая жена Артема, которая на время приехала в Петербург из Израиля, Алексей прыгал и скакал вокруг нее, выражая тем самым ей свой бурный восторг, он уже вцепился ей в обе руки и даже на мгновение припал перед ней на одно колено, чего он даже перед Марусей никогда не делал…
Маруся по-прежнему никак не могла понять причину происшедшей с Алексеем перемены, все это — особенно этот резкий перепад в отношениях — очень сильно ее раздражало, она даже чувствовала, что это плохо действует ей на психику, как будто кто-то взял и высосал у нее всю ее жизненную энергию, и некоторое время она даже вообще почти ничего не могла делать. От раздражения она даже отдала Светику золотое кольцо, которое Алексей в один из своих порывов ей подарил, он тогда ей это кольцо буквально навязал, а взамен взял себе ее серебряное, попроще, это, как он говорил, был обряд их обручения. Светик, правда, сразу же стал всем вокруг трепать, что это кольцо ему подарила Лив Тейлор во время своего приезда в Петербург, на премьеру «Евгения Онегина», и Маруся скоро пожалела, что отдала ему это кольцо, лучше бы она его выбросила на помойку или снесла в ломбард…
Однажды, уже много лет назад, Марусе нужно было срочно ехать в Москву для получения своего первого в жизни гонорара за перевод, ехать обязательно нужно было уже на следующий день, а денег на билет у нее не было и достать их казалось совершенно невозможно, даже мама в тот раз ей категорически отказалась их давать, мама всегда так поступала, когда чувствовала, что Марусе что-то опять очень-очень нужно. Они шли тогда с Костей по Кузнечному переулку и обсуждали эту проблему, Костя же, по своему обыкновению, смотрел не прямо перед собой, а себе под ноги, и вдруг он увидел на тротуаре маленькое золотое колечко с бирюзой, которое сверкало и переливалось в свете вечернего фонаря. Маруся сразу же тогда сдала это кольцо в ломбард и купила себе билет… Сейчас же она совсем не понимала, что случилось с Алексеем.
Правда, примерно через два месяца после всех этих событий ей в руки попалась крошечная брошюрка «Пара Russian Books», которую, оказывается, уже некоторое время назад начал издавать Артем Живков, этот бюллетень выходил еженедельно, и в нем каждый раз публиковалось по две рецензии на новые книги, преимущественно питерских авторов, как правило, одна положительная, одна отрицательная. В брошюрке, которую она держала в руках, Маруся обнаружила рецензию на книгу Алексея Бьорка «у О», рецензия была очень хвалебная, почти восторженная. Бьорк сравнивался с изумрудом, переливающимся всеми лучами своего таланта, однако изысканная и тонкая отделка делала этот талант доступным пониманию только очень редких и самых искушенных ценителей отечественной словесности, что давало повод автору рецензии Артему Живкову посетовать на слепоту современной отечественной критики и публики, причины которой, впрочем, ему, как человеку в высшей степени искушенному, были вполне понятны… Причем, как заметила Маруся, до сих пор в бюллетене Живкова хвалились в основном книги, вышедшие у Блумберга, и, в этом смысле, Бьорк был, скорее, исключением, так как его опубликовал издатель из Перми, с машиной…
А уже буквально через два номера в том же самом книжном бюллетене «Пара Russian Books» Маруся, к своему ужасу, обнаружила разгромную статью на себя под названием «Страшнее атомной войны», подписанную неким Шнеерсоном, о котором она вообще никогда ничего не слышала. Автор рецензии поносил Марусю последними словами, ставя ей в вину многое такое, чего она себе даже никогда не могла бы и вообразить.
В начале Шнеерсон, как бы вскользь, заметил — правда, не скрывая своего раздражения по этому поводу — что марусина известность к настоящему моменту приобрела такие масштабы, что это уже просто невозможно не замечать, то есть, по его мнению, на это уже нужно было как-то реагировать. Главный пафос статьи заключался в том, что Маруся достигла своей невероятной и сногсшибательной популярности исключительно за счет того, что умудрилась создать еще один жанр массовой литературы, наподобие тех, в которых работают Агата Кристи, Барбара Картленд и Стивен Кинг, только, в отличие, например, от тех же женских романов, где все чувства преподносятся в утрированно возвышенной и неземной форме, у Маруси все это перевернуто с ног на голову, и она описывает исключительно грязь и низменные человеческие инстинкты.
Все герои марусиных романов, а по преимуществу это жизнерадостные гомики, только и думают о том, у кого бы еще на халяву отсосать, кому бы полизать зад или вставить пистон, а также они не прочь облапошить любого зазевавшегося простака, пожрать за его счет и повеселиться, а вместо благодарности, как это обычно бывает у нормальных людей, они способны в любой момент своего благодетеля кинуть, подставить, опустить, а может быть, даже и замочить. Стоит героям Маруси кого-нибудь увидеть, первое, что им приходит в голову — это мысль: «Хоть разок с ним посношаюсь!» И им совершенно не важно, кто перед ними: такой же, как они сами, извращенец-гомосексуалист, или же пожилой уважаемый человек, ветеран войны, пенсионер, заслуженный работник искусств, деятель культуры, ученый, капитан дальнего плавания, учитель, космонавт, милиционер, донской казак, член ЦК КПСС, депутат Государственной Думы, рабочий или колхозник, — им на это глубоко плевать, и они любыми средствами стараются добиться своей цели, об этом, собственно, и написаны романы Маруси. Пределом мечтаний подобного рода героев, помимо сношений, отсасывания и подставления собственного зада, естественно, является попадание за бугор, а для этого они готовы еще на большее и худшее, на такое, что даже трудно себе представить человеку в здравом уме, то есть для того, чтобы жить в Париже или в Нью-Йорке, они готовы ехать туда в коробках из-под говна, пустых контейнерах из-под радиоактивных отходов, багажниках машин или даже просто спрятавшись в просторном чемодане какой-нибудь доверчивой старушки. Верхом извращения, совершенно неправдоподобной, но весьма характерной, рецензент считал, например, историю о том, как один из марусиных персонажей решил переправить себя за границу по частям, для чего он последовательно отрубал себе руки, ноги, эта затея, естественно, провалилась, все закончилось на голове, а тем временем его безутешный друг-хирург, который должен был его там собрать и сшить, напрасно ждал его в Тель-Авиве. Ну а о таких само собой разумеющихся вещах, как угон самолета, кража загранпаспорта, фиктивный брак или же незаконный переход границы, тут и говорить нечего. Из всего этого уже и так видно, что они не очень любят свою родину, а поэтому они делают здесь, что хотят. Они могут насрать своему начальнику на стол, потому что их совершенно не интересует собственное будущее, служебное положение, успехи в работе, они вообще не хотят работать, а только отдыхать и веселиться, в любой момент они способны подложить свинью своему ближнему, причем не только в переносном, но и в самом прямом смысле, так как в романах Маруси этим типам не лень бывает ради этого съездить куда-нибудь в отдаленный колхоз и украсть там настоящую живую свинью, потом связать ее, заткнуть ей рот и подложить кому-нибудь в постель, чаще всего, женщинам, которых они тоже совсем не любят, всячески третируют их, унижают и достают. Любимым же их развлечением у себя на родине, помимо траханья, кувыркания и стояния на ушах, является, опять же, публичная демонстрация своих гениталий, во всяком случае, автор рецензии насчитал в ее романах не меньше восьми сцен, когда ее герои умудрялись бить друг друга своими членами по лбу…
И это была только малая толика того, что, по мнению рецензента, можно было обнаружить в романах Маруси, которую он вообще считал большим специалистом по грязи, это был ее конек, в этом ей сегодня не было равных, о грязи она знала абсолютно все, так что если, к примеру, в свое время тульский умелец подковал блоху, то Марусе, по его мнению, не составило бы большого труда со всеми подробностями живописать, как комар эту блоху оттрахал. А вот о природе, погоде, возвышенных чувствах, доброте, отзывчивости, трудолюбии, скромности, бескорыстии и просто нормальных людях — она знала очень мало, практически ничего. Так что, если кому-нибудь подобные вещи нравятся, то тот, конечно, будет с упоением читать марусины книги — себя самого, естественно, автор рецензии к таким людям не причислял, ибо, по его мнению, ее творчество представляло собой одно из самых ярких проявлений гипертрофированно развившейся в последние годы пара-культуры, то есть не культуры в самом обычном и традиционном ее понимании, а того, что на нее похоже, но, на самом деле, таковой не является.
Гипертрофированно раздутую значимость этой культуры, по мнению рецензента, ярко продемонстрировала презентация в конференц-зале Публичной библиотеки последнего романа Маруси, на которой ее обезумевшие поклонники выломали двери и выдавили несколько стекол, а длинная очередь из тех, кто не сумел попасть в зал, выстроилась чуть ли не до самого Невского. Этот приведенный в рецензии факт особенно поразил Марусю, так как на презентации ее последнего романа, вышедшего тиражом двести экземпляров, которая состоялась в задней комнате Академии мировой музыки, едва ли присутствовало и двенадцать человек, и это с учетом того, что она, опасаясь того, что мероприятие может провалиться, на всякий случай пригласила еще сестру Кости и трех ее подруг, они были люди обязательные и пришли в полном составе. Разгадку же невероятного, по мнению рецензента, по масштабам и массовости успеха книг Маруси и следует искать в том, что она сумела изобрести и создать совершенно уникальный и новый для наших дней жанр массовой литературы, в которой герои и персонажи живут и действуют с точностью до наоборот в сравнении с тем, как обычно живут и действуют герои традиционных жанров массовой литературы, то есть детективов, женских романов, фэнтези, и т. п.
Помимо всего этого, в рецензии еще присутствовало рассуждение о том, что Маруся, конечно же, как профессиональная переводчица Селина и Жене, пишет гораздо лучше той же Барбары Картленд, однако, если бы Барбара Картленд, которая, по мнению рецензента, писала плохо, работая в своем жанре, научилась бы писать хорошо и даже блестяще, как Маруся, то она все равно не стала бы писать так, как Вирджиния Вульф. Логика этого длинного рассуждения немного ускользала от Маруси, но с выводом насчет Вирджинии Вульф она, в общем-то, была согласна…
В завершение же статьи, как Маруся и ожидала, автор не упустил случая слегка обыграть ее название, то есть он сначала, как бы обращаясь к читателям, задавал им вопрос: «Что же после всего этого страшнее атомной войны?», — и тут же сам на него отвечал: «Писательница с зубами!».
Еще через пару месяцев в том же «Пара Russian» был объявлен шорт-лист премии имени Ивана Коневского (Ореуса), в котором тоже в числе первых по жанру прозы значился Алексей Бьорк с его романом «у О». Эта премия, насколько знала Маруся, существовала еще в застойные времена, теперь же, судя по всему, с легкой руки Артема Живкова, эта премия снова возрождалась к жизни, правда, с практически полностью обновленным составом жюри, в которое, помимо самого Живкова, вошли еще Загорулько, Кондратюк, некий Отпадов, Нежинский, а также совершенно не известный Марусе профессор славистики мичиганского университета Густав Бренд, из прежних учредителей, старых кадров, остались только Петров и Голимый. Вручение премии должно было состояться уже через месяц, то есть в декабре. Маруся почему-то не сомневалась, что премию на сей раз получит именно Алексей Б., однако, совершенно неожиданно для нее, первым лауреатом возрожденной премии стал писатель Кирилл Пересадов, который в это время как раз находился в Соединенных Штатах Америки, где читал лекции и встречался со своими читателями.
Возможно, Маруся об этом даже никогда бы и не узнала, так как специально не следила за развитием всех этих событий, если бы, спустя почти полгода после того, как премия, вроде бы, должна была быть уже вручена, ей не позвонила жена Кирилла Пересадова Любаша, с которой она была уже несколько лет знакома. Любаша обращалась к ней в данном случае как к «представительнице богемы». Оказывается, она и ее муж, который сейчас уже вернулся из Америки и жил в своей квартире в Москве, только сейчас услышали, что несколько месяцев назад он был награжден какой-то полуофициальной литературной премией. Любаша теперь очень интересовалась, что это за премия, как она называется и, самое главное, каков ее размер, так как они только что завершили евроремонт в своей московской квартире и начинали такой же ремонт в своей квартире в Петербурге на Невском, и деньги им сейчас очень бы не помешали. Квартира на Невском была, действительно, огромных размеров, и поэтому Маруся вполне понимала Любашу, однако после того, как Маруся подробно и со всеми деталями объяснила Любаше название, смысл и назначение награды, которой удостоился ее муж, Любаша вдруг громко и истерично заверещала и бросила трубку.
Эта премия существовала в Ленинграде еще с застойных времен, и Ореус, поэт начала двадцатого века, который утонул в возрасте двадцати четырех лет, казался тогда фигурой очень символичной для деятелей ленинградского андергаунда, так как его ранняя смерть и вообще малая известность при жизни на фоне звезд того времени: Блока, Белого, Соллогуба и других, — как нельзя лучше соответствовали их собственному положению в тогдашней культуре. По традиции, существовавшей с давних времен, лауреат получал ласты, плавки и полотенце, а также три копейки, так как именно столько в те времена стоил билет на трамвай до Стрельны, где, вроде бы, по преданию, во время купания и утонул Коневской и куда, видимо, по замыслу учредителей премии, и в наши дни мог отправиться лауреат, чтобы там утопиться. На самом деле, Ореус утонул совсем не там, а где-то в Прибалтике, но во время первого вручения этот факт как-то забыли уточнить, а потом решили оставить все, как есть, чтобы не менять традицию. Во всяком случае, именно так смысл этой премии трактовался в те далекие годы во время вручений, в том числе и самими учредителями в их поздравительных выступлениях и напутствиях лауреатам, на одном из таких вручений Марусе даже как-то довелось присутствовать. Все это, и ничего более, Маруся подробно и изложила Любаше, после чего та истерично бросила трубку, чем несколько озадачила Марусю.
Любаша была филологом, изучала сказки, и вот уже несколько лет писала диссертацию про Кощея Бессмертного, своего мужа она тоже считала чем-то вроде Иванушки-Дурачка, а все его жизненные и творческие успехи, продвижение по служебной лестнице, высокие должности в ПЕН-клубе и прочую «шелуху» она считала чистой случайностью, просто необыкновенно благоприятным для ее Кирюши стечением обстоятельств. Костя с Марусей пару раз приходили к Кирюше и Любаше в гости, и те очень радушно их встречали, накрывали на стол, наливали выпить, именно там Маруся, впервые после долгого перерыва, наконец-то поела настоящего украинского борща с мясом, он был такого ярко-красного цвета, жирный, наваристый, и подавала его Любаша тоже в очень красивой фарфоровой супнице. Любаша вообще очень хорошо готовила, принимала у себя много гостей, и у нее была очень красивая посуда, тарелки и салатницы с выпуклыми донышками, отчего наложенных в них продуктов всегда казалось чуточку больше, чем их там было на самом деле. Спиртного у них в доме тоже всегда было достаточно, но рюмки для водки у Любаши тоже были совсем крошечные, поэтому одну бутылку могло пить огромное количество гостей очень долго. Помимо сравнений с Иванушкой-Дурачком, Любаша еще несколько раз намекала Марусе на то, что ее Кирюше совсем ничего не надо в этой жизни, что он, как и Костя, создан только для того, чтобы мыслить, и если бы не вся эта суета и все эти бессмысленные стечения обстоятельств, вынесшие его на вершину славы и благополучия, то он вполне мог бы жить и на помойке. В это время как раз приближался шестидесятилетний юбилей Кирюши, который был старше Любаши почти на двадцать лет, и она была уже, кажется, пятой по счету его женой, и Маруся не исключала, что Любаша таким образом, как бы тактично и ненавязчиво, пытается подвести ее к некоторым темам его большого юбилейного интервью для все той же московской газеты, в которой Маруся тогда все еще печаталась и которое, как она успела обмолвиться при Любаше, было ей там уже заказано. Марусино интервью с Кириллом Пересадовым в конечном итоге, как и было задумано, появилось в этой газете точно в срок, Маруся в нем всячески постаралась учесть все эти скрытые намеки и тактичные любашины пожелания, оттенить все ответы ее Кирюши таким образом, чтобы он предстал в этом интервью именно в образе непритязательного Иванушки-дурачка, человека, следующего путем даосского недеяния и непротивления, и готового покорно и безропотно принимать все свалившиеся на него удары судьбы, для которого важнее всего в жизни мысль, творчество, и который, если бы не благоприятное стечение обстоятельств, вполне мог бы даже жить и на помойке, голодать, в общем, подвергаться всяческим притеснениям и унижениям, которые в это время переживали многие рядовые граждане России. Вместе с тем, в небольшой вступительной заметке к этому интервью, она совершенно без задней мысли, не желая никого задеть, просто для того, чтобы как-то немного обыграть постмодернистское смешение вещей и стилей в обстановке, окружающей писателя Пересадова, она все-таки вскользь, буквально одним словом, упомянула только что закончившийся евроремонт в его московской квартире. Это случайно оброненное слово вызвало совершенно неожиданную в тот момент для Маруси бурную реакцию Любаши, которая привела к их первой размолвке, после которой Любаша и Кирюша не общались с Марусей в течение года.
Руслан всюду носил с собой слуховой аппарат, его глухота была следствием болезни, связанной с мозгом, которая обрушилась на него совершенно неожиданно. Он как раз собирался в Америку на фестиваль современной музыки и уже полетел туда, но в самолете ему стало плохо, ужасно болела голова, поэтому он вернулся в Петербург. Руслан уверял Марусю, что ему неоднократно предлагали сделать операцию, которая могла бы вернуть ему слух, но ему не хотелось лежать целый год со снятой черепушкой и открытым мозгом, откуда будут торчать разноцветные трубочки, и каждый, при желании, сможет покопаться в его мозготуре — так было с одним его приятелем, который ослеп, и который, правда, после этого все же стал кое-что видеть.
Злые языки говорили, что у Руслана СПИД, говорили также, что он вообще ничего не слышит и слуховой аппарат носит просто для видимости, поэтому его всегда обязательно кто-нибудь сопровождал, чаще всего какой-нибудь юноша. Кроме того, как инвалиду первой группы Руслану полагались большие скидки на транспорте, эти льготы распространялись и на его спутников, и этим часто пользовались его знакомые, которые охотно ездили с ним в Москву и другие города. Другие же наоборот, уверяли, что Руслан имитирует глухоту, чтобы подслушивать чужие разговоры и плести интриги. Как могла заметить Маруся, Руслан научился довольно хорошо распознавать общий смысл сказанного по губам собеседника, кроме того, общаясь с ним, Маруся постепенно овладела основными жестами сурдоперевода, но если в помещении было слишком темно, или собеседник находился сзади от него, то Руслан вообще никак не реагировал на обращенные к нему слова, так что, скорее всего, он действительно ничего не слышал.
Тем не менее, Руслан регулярно посещал все более или менее значимые концерты в филармонии, куда обычно приходил во фраке с в каким-то старинным орденом в виде восьмиконечной звезды на левом лацкане и с тростью. Он всегда садился в первый ряд и в течение всего концерта сидел совершенно неподвижно, склонившись вперед и положив подбородок на трость с золотым набалдашником, закрыв глаза и как бы внимательно слушая. После концерта он обязательно отправлялся за кулисы, где по очереди жал руку всем исполнителям и дирижеру, поздравляя их с замечательным исполнением.
Сам он тоже продолжал сочинять музыку, правда, в последнее время все его сочинения представляли из себя, главным образом, коллажи. У него дома даже был целый пункт звукозаписи, почти как на радио, и даже профессиональный магнитофон с огромными бобинами, при помощи которого Руслан и конструировал свои коллажи, склеивая наугад куски пленки с записями симфонических произведений разных композиторов, чаще всего это были Вагнер и Карл Орф, которых он особенно любил. Работу над очередным своим произведением Руслан заканчивал не реже, чем раз в месяц, и всякий раз неизменно устраивал организованную с большой помпой премьеру. Печаталось огромное количество пригласительных билетов, которые обычно начинались с фразы: «Академия Мировой Музыки имеет честь пригласить Вас на премьеру симфонического сочинения классика современной мировой музыки Руслана Серебрянского» и далее: «Концерт состоится в Большом концертном зале Академии по адресу…» Приглашения рассылались в мэрию, Союз композиторов, журналистам и просто знакомым.
«Большой концертный зал» находился на чердаке расселенного и уже несколько лет простаивающего в ожидании капремонта дома, куда надо было подниматься по темной из-за отсутствия лампочек, грязной лестнице без перил, на дверях чердака белой светящейся в темноте люминисцентной краской была нарисована огромная лира с порхающим над ней крохотным голубком. В самом же зале повсюду были расставлены сбитые из досок скамейки для зрителей, а у стены из таких же досок была сколочена небольшая сцена со столом, на который во время премьеры и выставлялся магнитофон с двумя колонками для прослушивания очередного сочинения Руслана, которое обычно длилось не меньше двух-трех часов. Сам Руслан сидел на стуле в зале так же неподвижно, как в филармонии, и наблюдал за происходящим вместе со зрителями. Над сценой висел огромный плакат: «Сейте разумное, доброе, вечное!». На стене слева от сцены была укреплена небольшая стеклянная витрина, за которой на полке стояла пустая металлическая банка, к витрине была привинчена медная табличка с выгравированной на ней надписью: «Банка из-под супа «Кэмпбелл». Подарок Энди Уорхолла. Нью-Йорк, 1985 год.»
Из-за того, что помещение чердака отапливалось только при помощи переносных обогревателей, иногда зимой во время сильных морозов концерты приходилось отменять, но и осенью, и весной на чердаке было не жарко, так что зрители, как правило, сидели там прямо в пальто. Иногда, правда, премьеры проходили в иной, более торжественной обстановке.
Один из таких особо торжественных премьерных концертов хорошо запомнился Марусе, так как он увенчался громким скандалом. Накануне Девятого Мая, Дня Победы, Фонд помощи жертвам Холокоста при поддержке Фонда Сороса наметил провести Фестиваль Современного Искусства, в рамках которого, помимо выставки живописи в Манеже, должен был состояться праздничный концерт в Малом зале Филармонии. Каждый из участников, проект которого был предварительно одобрен организационным комитетом, помимо всего прочего, получал еще и крупную сумму денег, необходимую для реализации своего замысла. Поэтому Руслан тоже заявил Большую Симфоническую Ораторию, посвященную жертвам нацизма, и этот проект, в числе прочих, был одобрен организаторами.
Накануне премьеры, о которой, как обычно, с помпой было объявлено петербургской общественности, все сотрудники Академии Мировой Музыки собрались около дома, где располагалась Академия, и где их уже ждал специально арендованный автобус. На сей раз, так как премьера была в Малом зале Филармонии, предполагалось поставить фонограмму, а большинство из них должно было изображать хор и музыкантов, имитируя игру на скрипках, рояле, барабане, виолончели, на которых почти никто играть не умел и которые были спешно позаимствованы у знакомых или взяты напрокат. Дирижировать должен был Светик, а сольную партию в хоре было поручено исполнить Николаю. Николай, как всегда, опаздывал и, видимо, должен был подъехать прямо к Филармонии, Светик же всю дорогу пребывал в диком возбуждении, бегал по автобусу и просил у всех пятьдесят рублей на водку, обещая сегодня же вечером отдать, потом он немного успокоился и стал приплясывать под звуки Седьмой, Ленинградской, Симфонии Шостаковича, которую Руслан поставил в записи на полную громкость, эта симфония, в частности, звучала в музыкальной передаче, которую Руслан вел на одной из молодежных питерских радиостанций. Симфония периодически прерывалась биографическими справками из жизни Шостаковича, комментариями Руслана, а также не имеющими прямого отношения к теме передачи его обращениями к питерской молодежи: «Дети, отнимайте у своих родителей наркотики и порнографию. Не разрешайте им пить и курить!»- вообще-то, на этом месте должна была быть рекламная заставка, но Руслан настоял, чтобы звучала именно эта фраза. Вскоре передачу все-таки сняли с эфира, и скорее всего, именно из-за этого.
Оратория называлась «Розовые треугольники», поэтому у всех оркестрантов и хористов на полосатых робах заключенных были наклеены розовые треугольники — так нацисты в концлагерях метили гомосексуалистов. Кроме того, каждый из них имел при себе свечу, так как все происходящее, отчасти, было стилизовано под прощальную симфонию Гайдна. Когда хор и оркестранты расположились на своих местах, на сцене появился Светик в костюме Людовика XIV и в огромном белом парике, сильно напудренный и накрашенный, что тоже было стилизовано под Гайдна. Помимо всего прочего, на возвышение, где должен стоять дирижер, он зачем-то еще поставил небольшую табуреточку и встал на нее, кокетливо и жеманно кланяясь и посылая во все стороны воздушные поцелуи. Вскоре в зале погас свет, скрипачи вскинули смычки, Светик взмахнул дирижерской палочкой и тут раздались первые аккорды известного сочинения Рихарда Штрауса «Так говорил Заратустра», которое Руслан почему-то решил выбрать в качестве вступления. Далее у него должны были звучать отрывки из «Кольца Нибелунгов» Вагнера и «Кармина Бурана» Карла Орфа. Однако до них на сей раз дело не дошло. При первых звуках музыки на сцену с накрашенными губами, синей бородкой и в золотых колготках, в костюме а-ля Людвиг Баварский жеманной походкой вышел Николай. Нашить на свои наряды розовые треугольники и Светик, и Николай категорически отказались.
Тут в зале воцарилась гробовая тишина. Светик продолжал кланяться во все стороны с дирижерской палочкой в руках, старательно имитируя управление оркестром, при этом грациозно балансируя и едва удерживаясь на шаткой табуретке. В момент же, когда Николай сладким, как у Фредди Меркьюри, голосом затянул: «Треугольник, треугольник, мне сегодня очень больно…» — этот текст был накануне написан Светиком по просьбе Руслана и также оплачен ему из выделенных организаторами денег, так как все это было заранее включено в смету — в этот момент какая-то злобная старушка из третьего ряда, вся обвешанная золотом, с воплем: «Это совсем не смешно!» — внезапно бросилась к сцене и столкнула Светика с табуретки. В зале поднялся невообразимый гвалт, Светик с грохотом рухнул прямо на музыкантов, зацепив своим роскошным шелковым плащом, сшитым накануне из вечернего маминого платья, канделябр, от упавших свечей даже загорелся воздушный шарфик, обвивавший его шею, но фонограмма музыки «Так говорил Заратустра» продолжала звучать все громче и громче. В это мгновение Руслан, который, как обычно, сидел в первом ряду, резко повернулся к залу и широким жестом швырнул туда пачку заранее заготовленных программок и оставшихся у него пригласительных билетов, в которых было обозначено название сочинения — «Розовые треугольники» и посвящение — «Рудольфу Гессу». Далее шла небольшая аннотация, из которой следовало, что «Рудольф Гесс покинул Германию и улетел в Англию из-за своей сексуальной ориентации, так как не мог выдержать преследования гомосексуалистов и опасался за свою жизнь — перед его глазами постоянно маячил печальный призрак Эрнста Рема».
В следующий раз, когда Маруся приехала в Вырицу, Самуил Иосифович вдруг, совершенно неожиданно для нее, начал говорить сам, безо всяких вопросов, которые она заранее приготовила, и еще не успела открыть рот, чтобы их озвучить, на сей раз он уже рассказывал ей о том, как ему присвоили звание заслуженного деятеля искусств. Он тогда должен был сначала заполнить пространную анкету с множеством вопросов, в том числе, и по поводу родственников, где они похоронены, кто они, откуда, не был ли у него кто в плену, не живет ли кто за границей, и т. д. и т. п. В графе с вопросом, где похоронен его отец, он поставил прочерк, а потом, когда его спросили, что это, почему он здесь поставил такой значок, он так прямо и сказал: «Ну это уж вам лучше знать, где он похоронен!», — и от него отвязались, приняли анкету с этой черточкой, даже переписывать не заставили.
А когда он эту анкету сдавал, то случайно попал на заседание то ли горкома, то ли обкома — Маруся не совсем поняла — во всяком случае, за столом там сидели люди в до неприличия чистых рубашках, и обсуждали они как раз разнарядку на то, сколько и каких новых артистов и режиссеров можно в этом году принять в Союз Кинематографистов, а когда кто-то назвал фамилию «Шифман», или что-то вроде того, то один из сидевших сразу же вскочил и запротестовал, мол, это же еврей, а другой ему возразил, что ничего, одного можно. А он сидел в углу со своей анкетой и думал, что сейчас просто сдохнет от хохота, и его тогда выведут и отправят в психушку…
А в другой раз его сосед по даче в Вырице, крупный номенклатурный работник в роскошном драповом пальто, выгуливая собаку, часто попадался ему навстречу, и так было в течение всего сентября, когда он здесь жил, а однажды, идя ему навстречу, он вдруг не выдержал и сказал, глядя на Самуила Иосифовича: «И у нас на работе есть один, извините за выражение, еврей!»… Все это уже относилось к началу семидесятых, и Маруся поняла, что сегодня ей тоже не повезло.
Маруся приезжала к Самуилу Иосифовичу не меньше пяти раз в течение месяца, и за это время узнала много интересного, не только о детстве Самуила Иосифовича, но и о его преклонных годах, работе с иностранными и нашими режиссерами, о технологии производства фильмов и костюмов для них, из какого материала их обычно шьют и куда потом отправляют, и какой это вообще неблагодарный труд — художника по костюмам в кино — как быстро в конце потом мелькает его фамилия в титрах, так, что даже никто и прочитать толком не успевает, и еще много-много чего, в том числе, и про соседей Самуила Иосифовича, один из которых, очень хороший человек, почти всю жизнь провел в тюрьме, другой в тридцатые годы служил в НКВД и изобрел специальную пытку, в своем роде уникальную и простую, как все гениальное, так как для нее требовалось всего два табурета, один ставили на другой, а сверху сажали связанного заключенного, потом табурет снизу резко выдергивали; также где-то неподалеку от Самуила Иосифовича жила старушка, которая в юности была влюблена в моряка дальнего плавания, который вел очень широкий образ жизни, веселился, ходил по ресторанам, а на нее внимания совсем не обращал, поэтому она пошла и написала на него донос, на этот факт Самуил Иосифович наткнулся как-то случайно в одной публикации в начале 90-х, где упоминалась ее фамилия и по еще ряду косвенных данных догадался, что это была именно она, он тогда пришел к ней, а старушке тоже было уже за девяносто, она была ровесницей века, так вот, Самуил Иосифович пришел к ней и сказал:
— А помните ли вы Перовского, Мария Игнатьевна?
— Не помню я никакого Перовского, отстаньте от меня! — сказала она и захлопнула у него перед носом дверь…
Про Роальда Штама же ей за все это время, помимо самой первоначальной и удачно схваченной информации о том, что он был очень бледный и эрудированный, ей удалось выудить только то, что он страдал от астмы и от этого пристрастился к эфедрину, а также еще и то, что «маресьевцы» собирались в квартире неподалеку от Калинкина моста, где по ночам устраивали оргии. В конце концов, и это было неплохо. И Маруся сказала, что все, пожалуй, пока достаточно, она узнала все, что хотела, и того, что ей наговорил Самуил Иосифович про Роальда Штама, ей хватит уже на десять огромных статей, и так всю эту информацию ей будет очень трудно переработать, перенося ее с диктофона на бумагу, и что если дальше она будет слушать все эти бесконечные подробности из жизни Роальда Штама, то она просто не успеет к сроку, а его юбилей уже на носу… Самуил Иосифович сначала с ней не согласился и сказал, что напрасно она так спешит, он еще многого ей не рассказал, что могло бы ее заинтересовать, но, с другой стороны, нельзя объять необъятное — что есть, то есть, раз уж ей некогда, то тут ничего не поделаешь…
Вместе с тем, он очень бы хотел ознакомиться с тем, что конкретно из его слов войдет в статью Маруси о Штаме, для него это было очень важно, потому что он опасался, что мог случайно наболтать чего-нибудь лишнего. Маруся ответила ему, что ничего страшного, сейчас в газетах, вообще, пишут черт знает что и никому до этого нет никакого дела, потому что их уже давно никто не читает, а если и читают, то очень невнимательно, все привыкли, потому что люди слишком устали от огромного потока новой информации, обрушившегося на их головы. Но Самуил Иосифович настаивал на своем, пусть она и права, но на свои слова он все-таки должен посмотреть.
И когда, через пару дней, Маруся принесла ему все, что он сказал про Роальда Штама, а все это уместилось в несколько строчек печатного текста, где было написано только, что это был очень бледный, замкнутый, очень начитанный и эрудированный юноша, который страдал от астмы и поэтому пристрастился к эфедрину, он также был близок к группе художников-«маресьевцев», снимавших квратиру неподалеку от Калинкина моста, где они по ночам устраивали оргии. Однако и этих нескольких строчек хватило, чтобы Самуил Иосифович, ознакомившись с ними, вдруг вскочил и нервно забегал по комнате: «Вы что, Маруся, с ума сошли! Я никогда такого не говорил, уберите, уберите это немедленно!», — он имел в виду астму, эфедрин и оргии, малейшее упоминание об этом Самуил Иосифович потребовал от Маруси убрать и, не дай бог, даже в устной форме никогда об этом никому не говорить. Он был согласен, чтобы в ее статье остались только его слова о том, что это был очень бледный и эрудированный юноша, больше там ничего с отсылкой на Самуила Иосифовича быть не должно ни в коем случае. И Маруся вынуждена была клятвенно ему подтвердить, что она выполнит его настоятельную просьбу, оставив только то, что он от нее требует.
На прощание, немного успокоенный марусиными заверениями, что она будет строго следовать его воле, Самуил Иосифович сказал, многозначительно глядя на нее:
— Ах Марусенька, поверьте мне, все в этом мире не так просто, как вы думаете, все еще очень много раз может измениться, и так, как вы даже и представить себе не можете!
Маруся зашла в офис к Васе, он был в Москве, поэтому там никого не было, кроме Лили. Маруся не была здесь уже с того самого времени, когда они вернулись из Канн. Лиля сидела за компьютером очень мрачная и даже не сразу заговорила с Марусей, что на нее было не похоже. Оказывается, неделю назад перед самым васиным отъездом в Москву здесь произошла ужасная вещь, после которой Лиля даже не знала, оставаться ей тут работать или нет, настолько ей все вокруг опротивело, хотя она точно не знала, правда это, или Александр Петрович опять ей все наврал, чтобы ее достать и испортить ей настроение, но он уверял, что все произошло на его глазах, так как он тоже во всем этом участвовал и даже этим, кажется, гордился.
Речь шла о любимой лилиной белой болонке Тотошке, которую Александр Петрович всегда терпеть не мог. Болонка жила прямо в офисе и даже снялась в ролике, рекламировавшем васину передачу, в роли «Му-му». Александр Петрович утверждал, что уже давно, лет двадцать назад, одна цыганка нагадала Васе, что в год, когда время приблизится к нулю, а он сам будет находиться в зените своей славы и достигнет наивысшего благополучия, все его дела могут разом пойти под уклон, более того, с ним может случиться ужасное несчастье, если он не отдаст свой долг, то есть не исполнит того, благодаря чему обрел славу и богатство. Сначала Вася ничего не понял в этом предсказании и вообще вскоре забыл про него. Но после того, как в Америке замочили Версачче, он пару недель ходил сам не свой, ведь ему уже несколько раз на снегу являлась белая рубашка от Версачче, и это был не иначе, как знак, после этого он вдруг и вспомнил про это предсказание и снова стал ломать над ним голову, пока Графов с «Русского видео», по прозвищу Чипс, не подсказал ему, что все очень просто, тут и думать нечего, он должен утопить собачку, которая снята в рекламном клипе его передачи, и тем самым повторить то, что сделал Герасим с Му-му, ведь он же прославился именно благодаря этой Му-му, и сделать это нужно немедленно, во всяком случае, до конца двухтысячного года, так как этот год с тремя нулями, что и означает время, приблизившееся к нулю…
Васе почему-то все это показалось очень убедительным, он был прямо поражен, насколько все так точно совпало, после этого Вася буквально зациклился на этой идее, что ему нужно утопить эту несчастную болонку, а та как будто это чувствовала и всякий раз, когда Вася заходил в офис, с визгом убегала от него и пряталась под стол, но это его только еще больше подзадоривало, не мог же он пожертвовать собой из-за какой-то шавки. В конце концов, в прошлую субботу, когда у Лили и остальных был выходной, Вася и Александр Петрович заехали в офис на новеньком джипе, за рулем которого сидел Никифор Шнитко.
Они забрали собачку и отправились в яхт-клуб, где их уже ждал Чипс, который был яхтсменом и арендовал там яхту, на которой они и отплыли в путешествие по заливу, предварительно напившись до чертиков.
Шнитко остался ждать их в машине на берегу. Он служил управляющим Бутика Версачче, обычно он был одет в строгий черный костюм-тройку с галстуком и торчавшим из нагрудного кармана шелковым платочком, в квадратных очках, отчего был очень похож на директора магазина похоронных принадлежностей. Маруся с Русланом несколько раз заходили к нему в этот Бутик, и всякий раз он заставлял их подолгу стоять и ждать у входа, из Бутика как будто тоже пахло ладаном, и вообще весь магазин производил на Марусю впечатление настоящего похоронного бюро, мрачные неприветливые охранники и продавцы, а также фотография Версачче в траурной рамке, установленная на прилавке сразу напротив входной двери усиливали это ощущение. Руслан рассказывал Марусе, что в свое время Шнитко работал сантехником, а потом, якобы, устроился в Смольный, во всяком случае, он всем об этом говорил, но однажды, когда Руслан как-то зашел к нему туда, ему пришлось долго ходить по этажам, отыскивая кабинет, который Никифор указал в своей визитке, пока он наконец не натолкнулся на него у входа в огромный зал, где работало, по меньшей мере, сто машинисток, а Никифор скромно сидел у самой двери на стульчике в форменном пиджаке, какие носили все вахтеры Смольного…
Вася сначала хотел, чтобы именно Чипс бросил собачку за борт и даже предлагал ему за это сто баксов, но тот отказался, потому что считал, что это должен сделать сам Вася, тогда Вася поднял болонку и с размаху швырнул ее далеко за борт, таким театральным жестом, как Стенька Разин персидскую княжну, он был уже так пьян, что едва держался на ногах, а Александру Петровичу он ничего даже и не предлагал, а то бы он тоже не отказался это сделать, особенно за сто долларов, во всяком случае, именно так он и сказал об этом Лиле.
Графова Маруся тоже знала, видела его однажды на пресс-конференции в «Прибалтийской», где он представлял свое агентство «Crazy-Шанс», делился своими планами по возрождению петербургской культуры, которая, по его словам, находилась в глубокой жопе. С этого обобщения он, собственно, и начал свое выступление перед журналистами, а когда один из них попытался ему возразить, он сразу же пообещал поставить ему памятник из говна, когда тот наконец сдохнет в этой удушливой атмосфере, которая теперь воцарилась в Петербурге, если он, конечно, человек, а если он сам говно, то тогда ему должно быть здесь очень комфортно и уютно, и он может спокойно продолжать здесь жить.
Пресс-конференция проходила в июле, поэтому было очень жарко, и сам Графов был в одной футболке и джинсах, зато юноша, которого он привел с собой и тоже представил журналистам, был одет по полной форме — в фиолетовом пиджаке и галстуке, отчего у него со лба градом капал пот. Это, по словам Графова, был некий Саша Вепрев, восходящая звезда российской эстрады, «русский Хулио Иглессиас», он только что приехал из Кемерово, где солировал в группе «Святые зайцы». Он прислал кассету с записями своих песен Графову, и те ему так понравились, что он сразу же пригласил его в Петербург. Теперь он собирался сделать из него звезду первой величины, точно так же, как когда-то одна звезда советской эстрады «сделала» его, после того, как он, будучи выпускником кулинарного училища, залез к ней в окно, правда некоторое время ему пришлось еще побыть в «шестерках» у Барри Каримовича, хотя и «козырных», но теперь он решил окончательно стать «тузом», так как тусоваться в одной колоде с Лисом, Шпицем и Крутым ему остоебенило, потому что те делают не поп-музыку, а музыку в попе, а делать музыку в попе, да еще находиться в жопе, то есть жить в Петербурге, это было уже слишком… В конце концов, надо было что-то предпринимать, спасать культуру! Но для этого нужны бабки, и они теперь у него были, не будем говорить откуда, потому что и у стен есть уши, а если кто-нибудь ему скажет, что без бабок, будь у тебя даже голос, как у Каррераса, тебя кто-нибудь в этом мире услышит, то тому он тоже готов поставить памятник из говна, потому что звезды зажигают только тогда, когда это кому-нибудь нужно… А нужен был, к примеру, кому-нибудь Саша Зайцев, точнее, Вепрев, этот застенчивый юноша из города Кемерово, которого все теперь видели перед собой?! Лично он в этом сильно сомневался, он не дорос еще даже до того, чтобы ему тут предоставили слово, потому что пока это был всего лишь товар, хотя и качественный, в который он вложил свои деньги, а дивидендов пока что не получил. И пусть ему не возражают, он этого не любит, хотя и с большим уважением относится к представителям прессы, но Саша здесь говорить все равно не будет. Если кто-то хочет, может даже задать ему вопрос, но Саша все равно ему не ответит, так как он будет действовать так, как ему скажет он, Графов, а не тот, кого он сегодня впервые увидел в этом зале…
После лилиного рассказа у Маруси резко испортилось настроение, она вышла на улицу, где было темно и холодно, ведь уже был ноябрь. Сто долларов ей бы сейчас тоже очень не помешали, хотя собачку, конечно, она бы топить не стала, ни за какие деньги, хорошо еще, что Вася завел ее уже после того, как она перестала с ним работать, и Маруся ее ни разу не видела, а то бы у нее еще больше испортилось настроение. Но, скорее всего, Пилипенко все наврал, это было очень на него похоже, и уже завтра он притащит в офис эту болонку, которую забрал к себе домой, воспользовавшись васиным отъездом в Москву, чтобы напугать Лилю. Вообще, Маруся старалась отогнать эти мысли от себя, у нее и так хватало своих неприятностей…
Руслан приступил к осуществлению своего нового проекта — балета «Колдовское озеро». Это был его первый опыт в области хореографии, поэтому он очень волновался, так, во всяком случае, он сказал Марусе, когда предложил ей помочь подыскать исполнителей для его балета, главным образом, ему не хватало нескольких девушек или, еще лучше, девочек для танца маленьких колдунов, который должен был стать центральной сценой балета — как танец маленьких лебедей в «Лебедином озере» Чайковского, музыку которого, к тому же, Руслан собирался использовать и для этой сцены, и для некоторых других. Девочки должны были танцевать в платьях с блестками и с маленькими волшебными палочками в руках, лейтмотивом же должна была стать мелодия известной песни «Колдовское озеро», аранжировку которой для симфонического оркестра было поручено сделать Николаю, так как он был едва ли не единственным членом Академии Мировой Музыки, который был немного знаком с нотной грамотой и основами композиции.
Однако в Академии катастрофически не хватало музыкальных инструментов, точнее, инструменты были, но все они были либо сломаны, либо полностью расстроены, либо неукомплектованы: у барабана, например, не было барабанных палочек, а на пять скрипок и два контрабаса, которые были в более-менее сносном состоянии, приходился всего один смычок, и тот, как выяснилось, не подходил ни к тем, ни к другим, скорее всего, это был смычок от альта, было еще несколько заржавевших и покрытых зеленой патиной горнов и труб, — все эти инструменты были свалены в кучу в небольшой кладовке за сценой концертного зала Академии Мировой Музыки, того самого, что располагался на чердаке, и доставались оттуда, в основном, только для того, чтобы члены Академии могли сфотографироваться с ними для газет и журналов, главным образом, немецких и американских; если нужен был групповой снимок, то члены Академии разбирали инструменты и рассаживались с ними на сцене в виде оркестра. В центре, как правило, садился Руслан, в руках он держал смычок, который в этом случае заменял ему дирижерскую палочку. В углу сцены стояло еще старое пианино фирмы «Мюллер и Ко», но на нем можно было играть всего час, после чего оно начинало жутко дребезжать и нуждалось в новой настройке. Сначала его пытались поддерживать в рабочем состоянии и периодически настраивали, а потом всем это надоело, и на пианино махнули рукой. Правда, среди всей этой рухляди были еще две арфы, которые внешне выглядели вполне прилично, но играть на них все равно никто не умел.
Вообще практически никто из членов Академии не умел играть на музыкальных инструментах, за исключением, опять-таки, Николая, и еще двоих, Могучего и Кучкина, на самом деле, их фамилии были Сорокин и Добычин, они были родом из Саратова, где закончили детскую музыкальную школу, один по классу фортепиано, а другой — баяна. Во время юбилейных премьер, а таковыми считались премьеры каждого десятого музыкального сочинения Руслана, Могучий и Кучкин, облаченные в римские тоги, с лавровыми венками на головах и держа перед собой арфы, рассаживались по краям сцены, по обе стороны от Руслана, который тоже, в виде исключения, поднимался на сцену и садился за стол, на котором стоял магнитофон, лицом к зрителям — во время обычных премьер Руслан не покидал зала.
К настоящему моменту Руслан был автором уже двухсот сорока девяти симфоний, концертов и ораторий, поэтому его новый балет и имел для него такое значение, ведь он должен был завершить целый этап его творческого пути, одновременно вобрав в себя все основные достижения мировой музыки уходящего тысячелетия, во всяком случае, именно так было написано в обширном проспекте, с которым Руслан предложил ознакомиться Марусе, чтобы она могла лучше осознать, что от нее, собственно, в данном случае требуется, а Марусе Руслан предложил стать продюсером балета, так как он вообще считал, что ко всему нужно подходить профессионально. На данный момент, кроме нескольких девочек, ему были нужны еще режиссер-постановщик и хореограф, подыскать которых он и поручил Марусе.
С девочками в Академии, действительно, были проблемы, так как ее костяк составляли, в основном, молодые люди, были, правда, еще ученики, среди которых даже несколько студентов Консерватории. Обучение в Академии было платным, и все ученики были разбиты на два курса, которые возглавляли профессора Академии Могучий и Кучкин. Но во-первых, среди учеников тоже преобладали юноши, а во-вторых, по мнению Руслана, учеников нельзя было допускать к участию в таком важном деле, так как это было бы в высшей степени не профессионально и могло бы профанировать столь грандиозный замысел. Нет, уж лучше было найти кого-нибудь на стороне. В самой Академии было всего две женщины, но одной было уже за сорок и после того, как ее муж прыгнул с моста в Фонтанку и утонул, она очень редко появлялась в Академии и почти все время пребывала в состоянии запоя. Другая же, Елена Студебеккер, казалось, вообще была способна ходить только по прямой, никуда не сворачивая, это впечатление еще усиливалось каким-то маниакальным упорством ее неизменно устремленного в одну точку взгляда, во всяком случае, ее Маруся не могла себе представить в роли танцовщицы.
Николай поначалу с большим энтузиазмом взялся за порученную ему аранжировку, однако, примерно через месяц, он принес Руслану мини-диск, на котором, вместо «Колдовского озера», было уже записано целое попурри из песен Арно Бабаджаняна, перемежавшихся мелодиями Андрея Петрова — этих двух композиторов Николай очень любил и часто пел их песни в ночных клубах — некоторые проблески симфонизма появлялись только в самом конце, когда вступал настоящий оркестр со скрипками и литаврами, но и то только для того, чтобы исполнить «Танец с саблями» из «Спартака», а «Колдовское озеро» исчезло вовсе, на него не осталось даже намека — Николай потом признался Марусе, что ему вообще никогда не нравилась эта дурацкая песня… Руслан, естественно, сразу же все это забраковал, так как это полностью противоречило его концепции будущего балета.
В связи с тем, что симфоническое переложение песни «Колдовское озеро» оказалось невозможным, на общем собрании Академии было решено, что песня будет звучать в том виде, в каком она обычно исполняется, то есть вся целиком, начиная со слов: «Колдовское озеро — это не в лесах, это, это озеро у тебя в глазах», периодически прерываясь то литаврами из вагнеровского «Кольца Нибелунгов», то музыкой Чайковского, — после того, как песня заканчивалась, все начиналось сначала, и так несколько раз, до финальной сцены. Либретто на сей раз было поручено написать не Светику, а Сергею Бобкову, который считался правой рукой Руслана, был в Академии хранителем нот и издавал ежемесячную газету «Нерон-Плюс». Бобков был женат на американке из Бруклина, которая когда-то у себя на родине изучала философию в Университете, поэтому Бобков называл ее не иначе как «мой философ» — она, обкурившись, уже несколько раз выпрыгивала из окна их квартиры, но квартира, к счастью, находилась на втором этаже, поэтому пока все заканчивалось благополучно.
Идея балета, в целом, у Руслана уже созрела. Главную роль Вагнера, который по ночам превращался в Колдуна, должен был исполнить Светик, Николаю же поручалась роль Людвига Баварского. Эти обе роли считались главными, так как Николай и Светик очень ревниво относились друг к другу, поэтому Руслан сразу же оговорил, что обе партии будут длиться одинаковое количество времени и будут выверены с точностью до секунды. Интрига заключалась в том, что Вагнер (он же Колдун) пытался всячески обворожить и околдовать Людвига, последний же был крайне ветреным и все время увлекался маленькими колдунами, чем причинял огромные страдания Вагнеру. В результате, Вагнер, измученный непостоянством Людвига, однажды не выдерживает, принимает яд и умирает. Он падает на землю и превращается в огромное Колдовское озеро. Перед тем, как умереть, Колдун-Вагнер исполняет танец Умирающего Колдуна, разумеется, на музыку Чайковского. А Людвиг даже не замечает исчезновения Вагнера, он продолжает развлекаться с мальчиками и веселиться, но однажды он идет по лесу и натыкается на большое голубое озеро, которое неотвратимо влечет его к себе, Людвиг лишается рассудка, бросается в озеро и тонет. В это время звучат слова песни: «Колдовское озеро, голубой магнит…»
В Праге в аэропорту Марусю встречала засушенная изможденная баба, Алиса, с табличкой на груди, где большими буквами были выведены марусины имя и фамилия. Как только они опознали друг друга, Алиса, едва кивнув Марусе, повернулась к ней спиной и гордо пошла вперед, виляя задом и небрежно раскручивая на пальце связку каких-то ключей, и даже что-то про себя напевая, всем своим видом как бы стараясь показать Марусе, что это не она ее встречает, а сама Маруся привязалась к ней и никак не отстает, и что она ее уже изрядно достала своим присутствием и ей надоела.
Раньше Алиса преподавала в школе русский. По дороге в такси она жаловалась Марусе на то, какие у них здесь в Праге маленькие зарплаты, хотя ей все-таки, по сравнению с другими, еще повезло, потому что ей все же платили значительно больше, конечно, ей платили не так много, как корреспондентам и редакторам их радиостанции, потому что те уже получали настоящий оклад, какие обычно получают журналисты в Европе и Америке. Помимо того, квартиры, которые они снимали, им тоже оплачивали, а так как Прага, из-за все тех же небольших зарплат ее коренных жителей, была чуть ли не самым дешевым городом в Европе, то иностранцам жить там было очень выгодно, по этой же причине там было такое огромное количество туристов. Маруся знала, что это действительно так, потому что то же самое ей говорила в Каннах васин продюсер Анка, которая тоже из-за этой дешевизны предпочитала постоянно жить именно в Праге.
Все стажеры, включая Марусю, должны были жить в многоквартирном доме, неподалеку от центра, один подъезд которого для них специально был заранее арендован. Маруся прибыла в Прагу на день раньше, чем остальные, и поэтому все квартиры были еще свободны. Сначала Алиса предложила ей просторную комнату на четвертом этаже — предполагалось, что в соседней с ней комнате будет жить какая-то албанка, правда, прихожая была общая, но туалет и ванная у каждого были свои — однако Маруся подарила ей небольшую шоколадку, которую она еще не успела съесть, и Алиса вдруг засуетилась и сказала, что она может подобрать ей комнату еще и лучше, более удобную, в результате Маруся поселилась в комнате на втором этаже, которая ничем не отличалась от первой, и была даже менее удобной, потому что в ней вообще не было зеркала, но раз уж они туда спустились, Маруся согласилась там жить, просто потому, что ей было лень подниматься обратно. Потом она об этом немного пожалела, потому что под окном по ночам там было очень шумно, так как на улице, напротив их парадной, располагалась стоянка машин, а в этом районе было очень много ресторанов, посетители которых начинали расходиться около двух часов ночи и практически все сходились под окном Маруси, с шумом хлопали дверцами, вопили и пели песни, отчего она часто не высыпалась.
Маруся сразу же пошла немного прогуляться по Праге. К себе в комнату она вернулась где-то часа через три, однако, когда она открыла дверь, она вдруг услышала пронзительный визг и с удивлением увидела, что на ее постели возятся какие-то мужик и баба, баба уже была совсем раздета, а у мужика были спущены штаны, увидев на пороге Марусю, баба завопила диким голосом и натянула на себя одеяло. Оказывается, мужик и баба, точнее, парень и девка лет восемнадцати, приехали в Прагу из Калифорнии, так как решили провести здесь свой медовый месяц — они говорили только по-английски — а эту квартиру на одну ночь им тоже сдала на вокзале какая-то женщина, по их словам, очень худая и внешне похожая на Алису… Видимо, Алиса, для того, чтобы пополнить свой скромный бюджет, действительно сдавала эти комнаты богатым иностранцам на одну ночь до приезда стажеров, а из-за того, что она решила ей угодить и предоставить комнату поудобнее, она все перепутала и сдала этой паре именно марусину комнату. Маруся объяснила им, что это она здесь живет. Те, в свою очередь, тоже ничего не могли понять и тупо смотрели на нее широко открытыми от ужаса глазами, баба уже натянула на себя платье, а мужик по-прежнему стоял со спущенными штанами. В конце концов, они все-таки оделись и, пятясь спиной к дверям, с подозрением глядя на Марусю, очистили помещение. Маруся говорила по-английски с акцентом, значит, они наверняка приняли ее за местную, а местных, как Маруся знала, европейцам и американцам, отправляющимся в Восточную Европу, во всех туристических агентствах настоятельно рекомендовали опасаться и не вступать с ними ни в какие контакты. Судя по поспешности, с какой они покинули комнату, Маруся поняла, что они остались очень даже довольны тем, что Маруся говорила с ними вежливо и не попыталась их ограбить или убить. К счастью, все ее вещи, которые так и стояли нераспакованными в небольшой черной сумке в углу, тоже были нетронуты.
ЕРС, Европейская Радиостанция, располагалась в самом центре Праги, неподалеку от Вацлавской площади в огромном многоэтажном здании из стекла и бетона. Утром следующего дня у входа Марусю уже ждала Алиса, которая и провела ее внутрь мимо многочисленных охранников и вахтеров — по словам Алисы, их штат был увеличен вдвое буквально месяц назад, после того, как здесь открылись отделы, вещающие на Иран и Ирак. В холле первого этажа висело огромное полотно, выполненное в лучших традициях социалистического реализма, такие картины Маруся очень хорошо помнила еще со времен своего самого раннего детства, так как несколько точно таких же по размерам картин висело в клубе железнодорожников города Жмеринки, правда, на тех картинах советские солдаты на танках въезжали в Берлин, а на одной из них, Маруся отчетливо это помнила, солдат сидел с гармошкой, на висевшей же в холле радиостанции тоже были изображены русские солдаты на танке, только на сей раз они были в окружении многочисленной толпы мирных демонстрантов, одного из солдат демонстранты пытались даже стащить вниз за ноги, а он отбрыкивался, вцепившись двумя руками в дуло танка. Такие же картины, посвященные событиям 68-го года, Маруся обнаружила здесь практически на всех этажах, на некоторых их висело даже две или три.
Русская служба располагалась сразу на двух этажах, правда, рядом по периметру располагались службы всех республик бывшего Союза: Украины, Таджикистана, Казахстана, Туркменистана и даже Белоруссии, — предполагалось, что и на стажировку, куда пригласил Марусю Лучиано, должны были прибыть представители всех этих республик. Самой многочисленной, помимо русской службы, были украинская и таджикская. Самого Лучиано Маруся видела только мельком в коридоре, он едва успел с ней поздороваться и уже на следующий день отбыл в отпуск к себе на родину на Сицилию. Маруся в новой обстановке чувствовала себя очень неуверенно, и эта неуверенность и внутреннее напряжение с каждым часом ее пребывания в Праге, казалось, возрастали все больше и больше.
В первый же день, когда она спустилась на первый этаж в ресторан пообедать, к ней за столик подсел какой-то жирный мудак, который стал у нее все выспрашивать и выведывать, причем видно было, что он очень нервничает, и ему, вообще, очень неприятно видеть перед собой Марусю, а почему — Маруся понять не могла. Может быть, потому, что он тоже был из Петербурга и работал здесь не так давно. В Петербурге у него осталась жена, биолог, и возможно, он считал, что Лучиано пригласил Марусю из Петербурга на его место, а может быть, он хотел перевезти сюда в Прагу свою жену, у которой, возможно, тоже был очень низкий выразительный голос, не хуже, чем у Маруси… Во всяком случае, он явно пытался у нее выведать и разузнать, что она здесь делает и зачем приехала. О том, что здесь собираются какие-то стажеры он, похоже, слышал впервые в жизни. Фамилия мудака была Опухтин, и имя у него тоже было мудацкое — Бенедикт. Кто это такой, Маруся не знала, потому что так и не успела ни разу до своего приезда в Прагу прослушать ни одной передачи этой радиостанции, она собиралась это сделать каждый день, но все время откладывала до последнего момента и в результате так и приехала абсолютно неподготовленной. «Мудаком» же она решила его про себя называть потому, что ее всегда раздражало, когда к ней так доябывались, особенно малознакомые люди, причем ни с того, ни с сего.
Впрочем, кое-какую информацию Опухтин ей все-таки сообщил, например, что в этом ресторане неплохо и совсем недорого кормят, а в еде, судя по его внешнему виду, он наверняка разбирался. Кроме того, он успел сообщить Марусе, что чехи — в целом, нация, хотя и очень вежливая и честная, но, по его наблюдениям, не очень способная к бизнесу, в отличие от тех же поляков или даже русских, а честность и бизнес, на его взгляд, это было чем-то вроде «гения и злодейства», вещами несовместными. Вместе с тем, он посоветовал Марусе внимательно следить за своей сумкой в метро, так как, если она зазевается, то, несмотря на честность местного населения, запросто может лишиться по меньшей мере кошелька, в пражских же такси даже из конца в конец города она не должна была платить больше трехсот крон, так как бывали случаи, когда у иностранцев местные таксисты и за десять минут езды могли потребовать от двух до пяти тысяч крон, и доллары, которыми ей должны были выплачивать суточные, тоже лучше было менять в банках, а не в обменных пунктах, где брали какие-то дикие проценты, заранее об этом никого не предупреждая.
В одиночку отходить далеко от центра тоже не рекомендовалось, да и в центре ходить было небезопасно, но, если тебя все же припрут к стенке, то он настоятельно советовал ей ни в коем случае не признаваться, что она из России, потому что из-за событий шестьдесят восьмого года местные бандиты очень не любят русских и берут с них дань за пребывание в городе-музее Праге в два раза больше, чем с американцев или немцев. В крайнем случае, если же ее все-таки расколют, и она вынуждена будет признаться, что она русская — но это уже в самом крайнем случае, когда ей приставят нож к горлу и поблизости не окажется никого, кто бы мог ей помочь — она должна будет сказать, что, мол, да, она русская, но здесь живет и работает на этой радиостанции, тогда ей сразу скинут процентов пятьдесят, но об этом он ее просил никому не рассказывать, потому что, если все об этом узнают, то начнут этим слишком злоупотреблять, и тогда все сотрудники этой радиостанции тоже лишатся последней надежды на спасение…
А в остальном чехи были люди очень честные и вежливые, но просто их немного испортило обилие иностранцев и привычка жить за их счет, а также большая разница в заработных платах у местного населения и граждан западных стран. Но если отъехать от Праги километров так за сто, то где-нибудь в глухой деревушке обязательно можно встретить очень простых, трудолюбивых и добрых людей, но все они обитают не ближе, чем на сто первом километре от Праги…
В Прагу Маруся прилетела через Мюнхен, где провела две недели. Небольшой отрывок из ее романа был опубликован в немецком переводе в одном из журналов в Германии, редакция которого, в качестве гонорара за публикацию, пригласила ее в Мюнхен, где она должна была встретиться со славистами из местного университета. Пансионат в пригороде Мюнхена, где она жила, оказался расположен в райском уголке, ей отвели тихую комнату на втором этаже, окно выходило в сад, и по утрам Маруся слышала пение птиц, из сада доносился аромат каких-то цветов, рано утром из-за гор постепенно поднималось солнце, небо вокруг становилось розовым, о существовании всех этих вещей Маруся уже давно забыла, она так давно не была даже за городом, не говоря о такой откровенно деревенской природе, да еще и присутствие гор делало все совершенно нереальным, Маруся даже не воспринимала все это всерьез, она не ощущала окружающее как действительность, ей казалось, что все это понарошку, декорация кукольного театра, и что на самом деле такого не бывает. Кроме того, она уже давно отвыкла от того, что на обывательском языке называется «радостью жизни», постоянная рефлексия мешала ей, она все время думала о делах, о том, чтобы не сказать и не сделать лишнего, но здесь ей, как ни странно, предоставилась возможность расслабиться.
На завтрак она ходила рано, ее спросили, когда ей лучше подавать завтрак, оказывается, там существовало расписание для разных групп, завтрак проходил с семи до десяти утра, и можно было выбрать любое удобное время. Для Маруси, которая в последнее время в Петербурге вообще редко просыпалась раньше полудня, такой режим казался просто издевательством, но потом она, подумав, сказала, что завтракать будет в семь утра, и не ошиблась, потому что в это время в столовой внизу народу было меньше всего.
Она спускалась в зал, садилась за стол, за соседним столом обычно сидели два молчаливых японца, остальные обитатели пансионата еще спали, за стеклянной дверью веранды Маруся видела дерево, на котором росли настоящие лимоны, чуть дальше — дерево, покрытое черешнями, под деревьями были устроены аккуратные клумбы с белыми и розовыми цветами, и по саду бегали четыре толстых гладкошерстных серых кота, которые никогда не подходили к людям, а всегда держались на расстоянии, даже от хозяина, который каждое утро насыпал им в миски сухой корм. Хозяин, что-то вроде распорядителя, завхоза в этом пансионате, каждое утро ставил перед ней тарелку с четырьмя различными видами сыра, яйцо, только что снесенное его курами, свежие булочки, кусочек маслица на блюдечке, кофейник с кофе, маленький молочник со сливками и даже вазочку с джемом. Маруся в самом начале, когда он спрашивал ее, что она хочет на завтрак, сказала, что любит сыр, а на вопрос о колбасе ответила отказом, но потом сожалела об этом, так как за соседним столом японцы получали еще и ломтики прекрасной розовой колбасы с вкраплениями разных зернышек, а также кусочков зеленого и красного перца, но попросить колбасы она стеснялась и утешала себя тем, что ей приносят много сыра разных сортов, а сыр она очень любила. Закончив завтрак, Маруся поднималась обратно к себе в комнату и снова ложилась спать — чтобы не страдать от недосыпа весь день. Ужин проходил в том же зале и тоже в удобное для постояльцев время. Жизнь в этой деревне была спокойная и размеренная, из деревни в город ходил автобус, причем он приходил по расписанию минута в минуту, и постояльцы пользовались привилегией ездить на этом автобусе бесплатно. Кроме того, неподалеку находилось озеро с очень чистой прозрачной водой, в которой Маруся даже видела, как плавают какие-то рыбы, у Маруси даже промелькнула отдаленная ассоциация с байкальским омулем, которого она никогда в жизни не то что не видела, но и не ела.
Стояли жаркие дни, и Маруся ходила на это озеро купаться, правда, все участки вокруг были огорожены и было написано «Частная собственность», но Марусе все же удалось найти одно место, где подход к озеру был не огражден, там был мелкий белый песочек и ракушки, Маруся там купалась и смотрела на противоположный берег, где, по словам местных жителей, находилась уже Германия. Через неделю Маруся спустилась в столовую к завтраку и за своим столом увидела бабу с круглыми черными глазами, подстриженной на лбу темной челочкой и утиным носиком, она жрала колбасу с тарелочки и пила кофе, о чем-то переговариваясь с хозяином по-немецки.
Это была писательница Платонова, отрывок из произведения которой был опубликован в том же журнале, что и отрывок из марусиного романа. Она приехала в Мюнхен из Москвы и, кажется, была бывшей женой одного из учредителей этого журнала, правда, Маруся была в этом не уверена, так как случайно слышала об этом от кого-то, но, возможно, это было действительно так, потому что в предыдущем номере был опубликован отрывок из произведения ее дочери. Во всяком случае, сама Платонова ничего Марусе об этом не говорила, зато она почти сразу же сообщила ей, что находится в родстве с писателем Платоновым, является чуть ли не его внучкой, видимо, она этим очень гордилась, однако Марусе никогда не нравился Платонов, он ее всегда раздражал, в его произведениях, да и во внешнем облике, было что-то олигофреническое, слабоумное и неполноценное, это было заметно даже на фотографиях, ни одного его рассказа, даже самого маленького, она так и не смогла дочитать, ей не нравилось, что он смазывал и превращал в бессмысленную кашу почти все свои мысли и чувства, кроме того, несмотря на всю ложную многозначительность своего творчества, он, кажется, не понимал элементарных вещей, восхищался стахановцами и прочей хуйней, такое бывает, наподобие того, как дальтоники не способны различать отдельные цвета, Платонов, видимо, тоже страдал чем-то вроде интеллектуального дальтонизма в тяжелой форме, во всяком случае, Маруся не хотела бы с ним встретиться лично, такая перспектива ее мало прельщала, а когда она брала в руки какую-нибудь книгу, она всегда мысленно представляла себе, хотела бы или нет она встретиться с ее автором, и она в детстве часто представляла себе, что беседует с Достоевским, Блоком, Уайльдом, ей было бы интересно поговорить с Селином, посмотреть на Жене, но с Платоновым ей почему-то встретиться никогда не хотелось, даже думать об этом ей было неприятно… А может быть, это настроение ей отчасти передалось от Кости, который всегда говорил с особой ненавистью и злобой про Платонова, Хлебникова и Филонова — все трое почему-то казались ему похожими друг на друга, как близнецы, их произведения Костя, будь его воля, сжег бы в первую очередь… Поэтому и внучка Платонова сразу же, сама того не подозревая, одним упоминанием этого имени, невольно пробудила в душе Марусе скрытую враждебность и антипатию, ей почему-то сразу стало неприятно находиться рядом с ней и захотелось уйти к себе в комнату, чтобы ее не видеть.
Платонова подошла к окну, выходившему в сад, и, указав на что-то, сказала Марусе:
— Какая прелесть! Жаль, что нет фотоаппарата! Как бы хотелось сфотографировать этих милых существ!
Маруся тоже подошла к окну и посмотрела — на кустике рядом с домом оказалось небольшое гнездо, из которого высовывалось сразу четыре дрожащих желтых клюва.
— У меня есть фотоаппарат, давайте я их сфотографирую, — предложила Маруся.
— Нет, не надо, ведь у вас вспышка, а эти крохотные существа могут просто умереть от разрыва сердца от вашей вспышки, ведь и сердечки-то у них такие крохотные, еще меньше, чем они сами! — после этого Платонова доверительно сообщила Марусе:
— Сейчас я вымою голову, распушусь и пойду!
Опубликованное в немецком журнале произведение Платоновой целиком состояло из каких-то сбившихся в кучки букв, слов и знаком препинания. Платонова призналась Марусе, что раньше она занималась исключительно живописью, а впервые взялась за перо только два года назад. Она возвращалась с дачи, и ей попались такие замечательные соседи в электричке, муж и жена, пенсионеры. У них были такие замечательные глаза, они очень любили природу, и так интересно, с таким чувством об этом говорили, что, вернувшись домой, она села за компьютер и все записала. Так и родилась эта повесть, которую теперь перевели на немецкий. Правда примерно год назад, когда ее уже собирались переводить и даже были обговорены все детали, она вдруг однажды обнаружила, что вирус съел все текстовые файлы в ее компьютере, в том числе и ее повесть, которая превратилась в бессмысленное нагромождение букв и слов. Сначала она ужасно расстроилась, а потом подумала и решила, что так будет даже лучше.
На следующее утро, последнее перед отъездом, Маруся опять застала Платонову стоящей перед окном.
— Вот, — сказала она, обращаясь к Марусе, — произошла маленькая трагедия. Гнездышка больше нет, птенцов тоже. Очевидно, это дело рук или, точнее, лап котов, которые гуляют здесь и чувствуют себя полными хозяевами жизни.
Маруся подошла и посмотрела — действительно, никаких следов гнезда не было, только небольшие клочки пуха и перышки лежали на земле возле куста. Хозяин, которому с некоторым укором также указала на этот факт Платонова, долго ходил по саду вокруг, охая и цокая языком, но больше никаких следов гибели птенцов обнаружить не удалось — ни пятен крови, ни клювов, ни лап, ничего, только коты, может быть, в тот день казались особенно довольными и ели очень мало сухого корма.
Игорь Бейлис, начальник Русской Службы, тоже был родом из Ленинграда, но он, в отличие от того жирного мудака в ресторане, напротив, встретил Марусю очень радостно и радушно.
Потому что он вообще очень любил русских людей, которые, на его взгляд, были очень умными и талантливыми, у них были такие замечательные песни, как, например, у Вертинского, альбом которого он только что купил у себя дома в Нью-Йорке, где сейчас жили его дочь и жена. Этот альбом включал в себя только настоящего, самого раннего Вертинского, и там он совершенно был не похож на то, что мы обычно привыкли слышать, особенно разительно все это отличалось от того, что записывал Вертинский после пятьдесят третьего года, вернувшись в СССР. Пластинки с этими записями он тоже слушал в детстве у себя дома в Ленинграде, но то, что он сейчас купил в Нью-Йорке, было совершенно не похоже на то, просто никакого сравнения, и если Маруся этого никогда не слышала, то она очень-очень много потеряла… Кроме того, Бейлису очень нравились Петр Лещенко, Галич и Высоцкий, ну, Аркадия Северного, о котором Маруся его спросила, он тоже, конечно, слышал, но только несколько позже, и это не относилось к его самым ранним детским воспоминаниям, когда они с папой и мамой жили на улице Рубинштейна в коммунальной квартире.