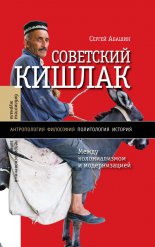Белокурые бестии Климова Маруся

Сегодня он продал двадцать книг, и сразу получил двести рублей, отвез человеку делать макет, и пошел купил себе еды и пива, и жене купил пива. Ну конечно, а что он может сделать? Он должен двигаться вперед, на месте стоять ему нельзя. Вообще-то, с путинским грантом это история долгая, от них можно огрести где-то от тридцати двух до сорока тысяч, а с книгами все проще, тут не надо ничего, только расписаться — и все, готово! Его друга недавно перевели из Америки в Канаду, это компания Finnair дает им бесплатные билеты, он ставит на свою книгу их компанию, и они сразу ему дают билеты. А если он ставит Галерею Французских Вин, то получает французское вино, и пьет его, а если презерватив, то презерватив, у нас ведь так — хуй поставишь, хуй и получишь, и так везде, и у нас, и в Америке, если, конечно, вдуматься, а не хлопать ушами, как эти мудаки из ПЕНЬ-клуба. Агенство Недвижимости поставит — получит деньги. А что он может сделать, он так вынужден поступать, за счет этого он и издает свои книги.
А кто еще сумеет раскрутить Finnair?! Гергиев, разве что?.. Благодаря ему, эта компания гордо называет себя перевозчиком Мариинского театра, можете себе представить — Мариинский театр с его многочисленными традициями, и Болт, это вам не ПЕНЬ-клуб, это Болт, они не являются явлениями русской культуры, а Мариинский театр и Болт — являются, неважно, что он чеченец, этот Гергиев, он тоже явление русской культуры, причем монументальное!
А возьмите, к примеру, писателя Кирилла Пересадова, он бы его назвал — Перезадов, потому что это культура задворок и помойных бачков, это представляет интерес только для этнографа, который дикими племенами занимается, его, кстати, все время путают с другим Пересадовым, вот того еще можно читать, а этого можно читать только под наркозом или в одиночной камере, это не духоподъемное чтение. Ему тут жена Пересадова как-то сказала, что русская эмиграция в Нью-Йорке сделала все, чтобы ее Кирюша с Иосифом ни за что не встретились, а когда они все-таки встретились, то сразу поняли друг друга, потому что они, включая еще и Довлатова, «настоящие мальчики с Невского проспекта», вот так, такие гиперболы теперь в ходу, она бы еще сюда Сранина приплела, Довлатов, наверное, в гробу переворачивается…
Нет, лично он таких мальчиков, как Перезадов и Сранин, в гробу в белых тапочках видал, потому что ему Бродский всего за год до смерти говорил, что Пересадов — это мудак, каких мало, о Сранине они с ним, естественно, не говорили, потому что Иосиф и имен таких не знал.
Он тут недавно интервью о Бродском для радио давал, так вот выяснилось — ему потом журналист, который с ним беседовал, это сказал — что он о Бродском говорит такие вещи, какие про себя только тот сам говорил, и все, только он и Бродский, больше никто! Потому что он Бродского здесь в Ленинграде с семнадцати лет знал, когда он еще тут чалился, и он был человек очень непростой и очень скрытный…
А Станислав Станиславский, который всю жизнь жил за счет Бродского, был его секретарем, потому что тот его за собой в Америку вытащил, поселил его у себя, кормил и поил, так вот Станиславский теперь говорит, что ему стихи Бродского совсем не нравятся, и сам Бродский ему что-то разонравился, конечно, если всю жизнь за чужой счет жить, то потом тот, кто тебя кормил и полностью содержал, естественно, не понравится. А Бродский ему еще и грант на эту антологию в десяти томах достал, где его, Болта, ранняя поэма тоже опубликована, точнее, маленькая ее часть, посвященная Малевичу — «Пророческие сны гения» называется — а если учесть, что во всем мире сейчас такого уровня публикаций, посвященых Малевичу, имеется всего девятнадцать, то значимость этой публикации трудно переоценить, не для него, для Малевича, естественно!..
Бродский, кстати, эту самую книгу, которую Торопыгин теперь запорол, у него больше всего ценил, а Довлатов тогда даже сам ему позвонил и просто так взял ее и отредактировал, вот так! Но теперь он ее все равно еще раз издаст, а они пусть отдыхают, это ее уже седьмое издание будет, потому что нужно бороться, книги издавать!
Вот сейчас, к примеру, очень стихи хорошо идут, он это по себе знает, он на компьютере свои стихи набирает и издает, и вот недавно одна женщина — ей семьдесят лет — схватила его книгу и говорит: «Это стихи? Я хочу ими наслаждаться!» А он ей отвечает: «Платите десять рублей и наслаждайтесь, сколько влезет!» Он несколько дней продавал на этой выставке свои стихи, они шли очень хорошо, ну разве что книга о Довлатове с ними могла конкурировать, а так, в основном, все стихи требуют, это теперь предпочтительней всего, хотя они и самые дорогие — книжечка небольшая, а стоит десять рублей! Ну, конечно, сначала почитают, посмотрят, а потом уж платят деньги, так что если не ебать муму, то можно очень даже неплохо заработать, ведь вот смотрите, его читатели уже в президенты метят — а что, если бы он в свое время не дал Путину книгу, он бы просто о его существовании никогда не узнал.
А стихи сейчас пойдут очень хорошо — людей после чеченской войны обязательно на стихи потянет, главным образом, из-за дефицита, дефицита информации, которой человек мог бы верить, ведь человек не верит в групповую информацию, он верит только своему опыту, который запечатлевается в стихах, кроме того, если бы он не издал свои книги, он бы многого, наверное, сейчас не знал, а так ему приходит информация от читателей, они ведь, как собаки-ищейки, проникают во все каверны бытия, поэтому он самый информированный на планете человек, можно сказать, у него сотни тысяч читателей — это очень много, потому что он от каждого тиража хотя бы десять книг отправляет в библиотеки, в основном западные, так как там качественный уровень читателя значительно выше, вот и получается, что каждую его книгу в год читает не меньше нескольких тысяч человек, то есть при минимальном вложении — максимальный тираж, какой только в наше время можно себе представить. К тому же, пусть уж лучше американские налогоплательщики оплачивают из своего кармана дополнительные мощности работы наших типографских станков, ведь каждую из десяти книг, которые он отправляет туда в библиотеки, должны прочитывать в год не менее тысячи человек, что уже умножало его тираж до десяти тысяч, а в течение десяти лет это уже должно составить сто тысяч, теперь, если учесть, что каждая книга его первоначального тиража стоила ему двадцать рублей, а значит, весь тираж обошелся ему в две тысячи рублей, и эти две тысячи поделить на сто тысяч, то теперь Руслан и Маруся сами могут посчитать, во сколько ему реально обошлась каждая его книга, в какие-то тысячные доли копейки, а еще через десять лет эта сумма еще на порядок станет меньше, то есть практически она стремится к нулю, поэтому он и говорит, что издает книги за счет читателей…
Некоторые читатели даже лезут на него драться и говорят: «Вам надо ехать на Запад! Вам здесь делать нечего!» А куда ему ехать, в Калград, что ли? В Калград он не собирается переезжать, там очень мрачно, там одни рабочие кварталы, там два миллиона жителей было раньше, а теперь уж и неизвестно. Санкт-Петербург тоже, конечно, загажен собаками, но может быть, его очистят? Все же лучше, чем Калград, во всяком случае…
Читатели сформулировали ему хорошую идею — Россия, безусловно, погибнет и останется только как литературный памятник, как культурный памятник, как предупреждение Западу — это существенный факт, а сами писатели народу не нужны — это несущественная иллюзия. В то же время Гомер сколько навербовал людей? И как ему это удалось! А ведь огромное количество людей его читало и до сих пор читает. Вот он как-то ехал на юг кушать фрукты, лежит на полке и читает «Илиаду», и так: тук-тук-тук, — колеса стучат, а он лежит и «Илиаду» Гомера почитывает, Гомеру повезло, хоть он и слепой был, но написал так, что его аж в двадцатом веке читают.
Он вообще ничего не скрывает, он человек открытый, поэтому у него каждый раз какие-нибудь события происходят. Пришел он тут опять в Манеж, поставил стул, на стул положил свои книги, а сверху — портфолио, девяносто процентов людей вообще не знают, что такое портфолио, так вот у него оно занимает четыреста страниц, и они листают его два часа, а потом выходят, пошатываясь от восторга. Еще бы, он и сам бы от такого зашатался! Только вот измельчал теперь народ, в биографии на полстраницы и то писать нечего. Его сосед по коммуналке две недели не мог анкету на работу составить, тыкал, тыкал ручкой: да-нет, да-нет, — пока бумагу не испортил.
У директора Манежа два спонсора — чай «Липтон» и газета «На обочине» — лучше не могла найти, потому что все эти «обочинцы», как только его видят, разбегаются, кто куда, настолько сильно их впечатляет его творчество, потому что они, как люди убогие, не могут все правильно понять и должным образом осмыслить.
Но скоро, скоро там эта выставка закрывается и будет всеобщий засос — все будут пить водку и целоваться друг с другом, все эти «черненькие», волосенковцы, которые создают свои стаи, как собаки, группируются друг с другом и бегают, высунув язык, — все будут собираться в кучу и фотографироваться на общую фотографию, в общем все, как обычно.
А у них с Татьяной сразу же новая выставка откроется в банке «Невский» — это беспредметное дело, но зато будет банкет и пьянка, на первом этаже спаивают журналистов, а они с руководством банка уединятся в отдельном помещении — так уж у нас с советских времен повелось, есть мероприятия для всех, а есть — для избранных — и там, в этом отдельном кабинете, уже столько блюд будет, что можно запросто человек двести накормить, причем до полного удовлетворения, а их там будет человек двадцать от силы, не больше. В прошлый раз, помнится, охранник так насосался, что свалился под стол, не смог вынести…
Теперь он хотел издать книгу «Записки из-под Поля Берда», она по-русски написана, он же только по-русски пишет. Поль Берд — это место, где они с женой жили в Париже, основная часть повести там происходит, он там все время работал, ездил все время из конца в конец, а жил только в старом Париже, правда, однажды его сослали в Пантин — это пригород, им там было очень тоскливо, зато в Париже он имел свой отдельный шандебон, работал на этом шандебонне, писал картины и складывал, люди, их соседи по шандебону, предлагали им пить с ними кофе, но он всегда отказывался, а пролетариат там очень гордый, эти шандебонщики, потому что потом, когда к нему стали приходить покупатели и предлагать по двести долларов за картину, эти шандебонщики даже с ним здороваться перестали, и вообще — спиной поворачивались. Жили они на третьем этаже — лестница витая, ковровая дорожка, деревянные ступени, краник холодной воды в коридоре, туалет тоже в коридоре. А вот на рю Сен Марк они уже жили в двухэтажной мансарде, там они тоже все время были заняты работой.
Но в Париж он больше не хочет, он хотел бы еще раз съездить в Америку — там другие возможности. И здесь тоже, правда, — другие возможности, но уже совсем в другом смысле, здесь теперь воцарилась такая душная, мещанская атмосфера, что даже думать об этом противно, поэтому и Бродский сюда возвращаться не захотел, да и Довлатов бы тоже не вернулся.
Одному местному крутому карлику он через секретаря послал письмо, чтобы тот организовал ему вечер в ПЕН-клубе, надо же поднимать культуру, а то ее уровень совсем стал примитивный, опростились все, хуже Льва Толстого, только пахать не хотят, культурная миссия Санкт-Петербурга в России окончательно провалилась, можно даже так сказать, собачье гуано по всем улицам валяется — а люди обвиняют в этом кремлевскую администрацию, но они же не гадят у нас, кремлевская администрация, они в трубу свою гадят, какая бы ни была кремлевская администрация, она не может своими экскрементами загадить все площади большого города, а между тем, именно этой кремлевской администрацией постоянно возмущаются посетители выставки в «Манеже». И во что в результате превратилась там книга отзывов, даже сказать страшно, он тут ее полистал и нашел там такое, просто волосы дыбом, например, один жизнерадостный гомик там написал, что жаждет, чтобы его оттрахали — вот во что превратилась книга отзывов, а что делать…
Болт говорил без остановки в течение полутора часов, так что за него Маруся была спокойна, вопросы ему она потом могла записать отдельно, в более спокойной обстановке. Все, что хотел сказать Руслан по поводу бессмысленных размазанных пятен краски на холстах авангардистов и пагубного влияния Казимира Малевича и Василия Кандинского на современную живопись, она тоже уже записала, на всякий случай она даже сама записала фразу, которую обычно в конце каждой передачи этого цикла говорил Владимир: «Рассекая волны, но совсем не качаясь, корабль современности медленно уходит вдаль», — оставалось дождаться только Светика, но он в тот день так и не пришел, поэтому его Марусе потом пришлось записывать отдельно.
Помимо Светика, Руслана, Болта и Маруси в передачу, по настоянию все того же Руслана, Маруся включила отрывок из своего интервью с писателем Э., который посетил Москву и Петербург год назад, и с которым Маруся тогда действительно встречалась по просьбе редактора отдела культуры московской газеты «Универсум», где она тогда печаталась. В Москве вокруг Э. был такой ажиотаж, что в библиотеке, где он выступал, слушатели в давке даже выломали двери, отчего ни один корреспондент этой газеты к нему так и не сумел пробиться, к тому же никто из них, в отличие от Маруси, не знал ни итальянского, ни французского. Примерно в такой же атмосфере, как и в Москве, проходило выступление Э. и в Петербурге, только здесь его забравшиеся на подоконники почитатели выдавили несколько стекол, хорошо еще, что никто не вывалился из окна библиотеки на Фонтанке на улицу, в общем, обошлось без жертв, если не считать нескольких человек, которые во время выступления своего кумира потеряли сознание от июньской духоты и давки. Тем не менее, Маруся сумела связаться с переводчицей Э., и уже через нее договориться с ним о встрече на следующий день после его выступления.
В десять часов утра Э. ждал ее в баре гостиницы «Астория», где он тогда остановился. Он оказался примерно таким, как она себе его и представляла: приземистый, плотный, в очках и с бородой, как и положено писателю или профессору, — он сразу же спросил Марусю, не хочет ли она чашечку кофе, Маруся радостно закивала.
— Ну тогда можете себе его купить, — сказал он, — я уже позавтракал.
Чашечка кофе в баре «Астории» стоила двадцать долларов, а у Маруси было с собой денег ровно столько, чтобы доехать обратно на метро, поэтому кофе ей сразу как-то расхотелось.
Э. начал с того, что предупредил Марусю, что у них очень мало времени, всего полчаса, так как ему еще много надо успеть, потому что сегодня ночью у него самолет, на котором, кстати, ему было очень неприятно сюда лететь, так как он чувствовал себя там крайне дискомфортно и все потому, что там работают такие идиоты, что подают в самолете горошек, который совершенно невозможно в тех условиях поймать вилкой и ножом, он все время с них сваливается…
Вообще, проблема человеческой глупости в последнее время его очень занимала, так как, прежде чем прилететь в Россию на самолете, он совершал путешествие к себе домой, в Италию, из Норвегии через Малайзию — что Маруся не очень хорошо себе представляла — но, тем не менее, в отеле в Малайзии ему предоставили номер люкс, потому что других номеров, подешевле, не оказалось, и вот там был всего один холодильник, забитый прохладительными напитками и шоколадками, а холодильник был нужен ему для огромного лосося, которого он вез с собой из Норвегии, так как там он стоил гораздо дешевле, чем в Италии. В результате Э. вытащил все из холодильника и сложил в ящик стола, а на освободившееся место воодрузил лосося.
Каково же было его удивление, когда он, вернувшись вечером, обнаружил, что лосось лежит на столе, а холодильник снова наполнен напитками и шоколадками, Э. опять освободил холодильник, и запихнул туда лосося, но на следующий день повторилось то же самое. Так продолжалось все четыре дня, пока он там жил, причем не существовало никакой возможности объясниться с персоналом, потому что даже по-английски никто из прислуги там не говорил. Хотя иногда ему казалось, что он отчетливо слышит в коридоре, за дверью своего номера, английскую речь, но всякий раз, когда он подкрадывался к двери и стремительно ее распахивал, он обнаруживал там только все тех же азиатов, работавших в отеле, которые по-английски не понимали ни слова. Так что, наверное, у него от переживаний уже начинались галлюцинации, которые бывают у путников в пустыне от жажды, только им мерещатся оазисы с фонтанами воды, а ему слышалась знакомая речь от тоски по элементарному человеческому интеллекту и сметливости.
В довершение всего, перед отъездом Э. предъявили астрономический счет за все, что он, якобы, съел и выпил в течение четырех дней, когда методично опустошал холодильник, к тому же ему пришлось оставить там еще и лосося, так как он, в конце концов, испортился. Причем этот счет, целиком и полностью, он был вынужден оплатить, потому что, когда он попросил адвоката, ему принесли авокадо, то есть огромный блестящий зеленый плод, по форме напоминающий грушу, вот этот плод с тех пор и стал для него своеобразным символом человеческой глупости вообще, и тупости тамошней прислуги в частности. До такой степени, что он теперь этот плод не то, что есть, он на него теперь даже смотреть спокойно не мог без внутренней улыбки…
Закончив этот рассказ, Э. посмотрел на часы и стремительно поднялся из-за стола, давая понять, что все, время беседы истекло. В результате, Маруся только еще успела его пригласить на тот самый вечерний концерт в рамках фестиваля, посвященного жертвам Холокоста, который, по случайному стечению обстоятельств, совпал со временем пребывания Э. в Петербурге — об этом ее настоятельно просил Руслан.
— Нет, нет, — сказал Э., - у меня сегодня ночью самолет, а должен вам признаться, я очень устал.
После этого Марусе пришлось срочно идти в Публичную библиотеку и искать французские журналы с интервью с Э., где он хоть что-то говорил о литературе, по этим журналам она кое-как и составила свое интервью с ним, которое потом отправила в Москву.
И вот теперь Руслан стал спрашивать у Маруси, не сохранилось ли у нее магнитофонной записи этой последней фразы Э., которую она тогда ему дословно передала и которая теперь Руслану была непременно нужна для передачи. Никаких записей у Маруси, конечно же, не сохранилось, тогда Руслан сказал, что, в сущности, это не так важно, они попросят доцента их Академии Волкова все это сказать за Э., так как тот неплохо знал французский, и у него, к тому же, был хорошо поставленный, очень радиогеничный низкий баритон, все равно голос Э. должен звучать как бы в отдалении по-французски, а в это время Маруся будет озвучивать перевод — так они и сделали.
Правда, в исполнении Волкова ответ Э. стал чуточку более развернутым, теперь на предложение Маруси посетить организованный Академией Мировой Музыки концерт, посвященный жертвам Холокоста, Э. отвечал:
— Нет, нет, у меня сегодня ночью самолет, да и, по правде говоря, я немного устал от всех этих бесконечных муссирований темы, значимость которой мне кажется все-таки чересчур преувеличенной.
В целом, передача получилась впечатляющая, с традиционными для Руслана музыкальными заставками из Вагнера и Карла Орфа, из бесконечных рассказов Болта были выбраны куски минут на семь-восемь, где он особенно упирал на засилье в современной культуре карликов и еще про коллекцию Доджа… После того, как передача вышла в эфир, Марусе почти сразу же позвонил Самуил Гердт — он был в полном восторге, оказывается, он тоже всю жизнь ненавидел авангард, просто не находил слов, чтобы выразить это свое чувство.
В «Универсуме» платили регулярно, правда, не очень много и деньги приходилось долго ждать, потому что их переводили Марусе на счет, к тому же теперь ее статьи стали появляться там все реже и реже, последняя, про Роальда Штама, так и не была опубликована. Позже она узнала, что Сеня уже несколько раз громко возмущался тем, что Маруся пишет исключительно о гомосексуалистах, она просто задвинулась на этой теме, и с ней опасно иметь дело. У Сени, племянника Самуила Гердта и непосредственного начальника Маруси, как потом выяснилось, был настоящий пункт на этот счет, хотя у него, вроде бы, были жена и двое детей, он почему-то жутко боялся, что окружающие о нем подумают что-то не то. Маруся потом вспомнила, что и Торопыгин ей как-то раз, между делом, зачем-то многозначительно намекнул, будто Сеня является главой всей московской гомосексуальной мафии, Маруся тогда не придала этому никакого значения и подумала, что это просто шутка… Но все это выяснилось несколько позже, потому что прямо ей, естественно, никто ничего не говорил, просто печатали ее все реже и реже.
А после того, как Маруся, с подачи Руслана, написала небольшую «возмущенную» заметку, выдержанную в традициях советской журналистики, о гастролях в Мариинском театре английского балета DV8, в спектаклях которого были задействованы исключительно мужчины, а женщины присутствовали только в виде резиновых кукол из секс-шопа — заметка называлась «Пока в «69» оттягивались, в Мариинке отклонились» — с Сеней, как ей передали, и вовсе случилась настоящая истерика, он даже пошел и пожаловался на нее главному редактору, и тот созвал по этому поводу небольшое собрание редакторов разных отделов. Незадолго до того из газеты уже был неожиданно уволен еще и некий Липовский и тоже, вроде бы, за совсем безобидное интервью с переводчиком Берроуза, Липовского тогда обвинили в пропаганде наркотиков, а Марусю теперь — в пропаганде гомосексуализма.
Правда, за Марусю, кажется, вступился редактор отдела культуры Дмитрий Глотов, который сам тоже, вроде бы, переводил Жене, но его голоса оказалось недостаточно. Глотов был с Сеней в ссоре из-за того, что, во время какой-то пьянки, Сеня случайно проткнул ему вилкой ухо, и оно воспалилось. Глотов раньше служил военным переводчиком в Анголе, и в редакции у него напротив стола даже висела страшная магическая картина, которую он привез с собой из Африки, оттчего все кругом говорили, что он поклоняется культу вуду. Маруся встречалась в Париже с одной селинисткой, которая тоже долго жила в Африке, она уверяла, что сама участвовала там в нескольких церемониях воскрешения покойников, правда, в подробности она не вдавалась, просто твердила, что это очень плохо действует на психику и лучше об этом даже не вспоминать…
А тут еще в газете «Резонанс», где Марусе были должны больше тысячи долларов, вдруг неожиданно сменили название. Точнее, оказалось, что название сменили уже чуть ли не месяц назад, просто на висевшую над аркой перед входом в газету вывеску добавили одно слово, «новый», причем написанное мелкими буквами, отчего его почти никто и не заметил, и газета теперь стала называться «Новый Резонанс». Это новое слово, на которое тоже почти никто не обратил внимания, также незаметно появилось и в названии на первой полосе самой газеты, при этом логотип и дизайн остались прежними.
И только через месяц вдруг как-то неожиданно выяснилось, что старая газета, занимавшая целый подъезд в шестиэтажном здании и со штатом около ста человек, включая редакторов, наборщиков, корректоров и журналистов, не считая множества внештатных сотрудников, больше не существует, а «Новый Резонанс» — это уже совсем другая газета, нежели та, с которой все эти люди сотрудничали много лет, так как у нее сменилось не только название, но и владелец, форма собственности и еще много чего другого, хотя внешне не только логотип, но и все прежнее руководство, сотрудники отдела кадров и бухгалтерии остались прежними. И поэтому «Новый Резонанс» теперь больше никому ничего не должен, и свои долги желающие могут получить в старом «Резонансе», который теперь перебрался куда-то на Петроградскую сторону, правда, для этого они должны будут предварительно уволиться из этой газеты и перейти на работу туда. А кроме копившегося годами долга своим сотрудникам, у редакции газеты, как Маруся слышала, были еще и огромные задолженности перед налоговой инспекцией, Управлением городским имуществом и типографией…
Вообще, всем сотрудникам сразу же дали понять, что, если они хотят сохранить свою работу, то лучше им этот вопрос о долгах и вовсе не поднимать, тем более, что руководство новой газеты взяло на себя обязательство постепенно компенсировать долги всем, кто не бросит свою газету в столь трудный час, хотя, вроде бы, этого никто теперь там делать и не обязан, просто это жест доброй воли со стороны начальства к своим подчиненным, и лично со стороны Ольги Китоновой, главного редактора газеты, которая все это и изложила на общем собрании коллектива, созванном только теперь, примерно через месяц после случившихся перемен, о которых до этого момента большинство даже не подозревало.
И возвращение долгов было вовсе не пустым обещанием, более того, у Китоновой по этим долгам даже имелся вполне реальный план, с которым все подчиненные были тоже тут же ознакомлены. Отныне все ставки и гонорары в «Новом Резонансе» уменьшались в два раза по сравнению с прежними, однако это не должно было никого пугать, так как, на самом деле, все будут получать столько же, сколько получали раньше, до переименования, так как разница будет им компенсироваться в виде ежемесячных премиальных, которыми и будут потихоньку возмещаться все накопившиеся за последние годы долги по зарплате, а как только эти долги будут возмещены, размеры гонораров тут же будут восстановлены до прежнего уровня, а необходимость в этих компенсационных премиях-пожертвованиях со стороны администрации отпадет сама собой, так что никто ничего даже не заметит, никаких изменений и особых перемен, поэтому и поводов волноваться, в сущности, ни у кого быть не должно, разве что бухгалтерии придется немного поднапрячься, так как расчеты по долгам с уменьшением и восстановлением ставок будут проводиться сугубо индивидуально, и может даже получиться так, что уже сотрудник окажется должен газете, если ему вовремя не успеют отменить премию и восстановить ставку, но все эти мелкие неурядицы, если таковые и возникнут, потом можно будет без труда утрясти, ведь, в конце концов, коллектив газеты — это одна дружная семья, и все проблемы здесь всегда привыкли решать сообща…
Покончив с этой, самой сложной для понимания, частью своей речи, Китонова вздохнула с явным облегчением, она как будто скинула со своих плеч какую-то тяжесть, и дальше уже ее речь полилась гораздо свободнее и раскованнее. Она, в частности, очень не рекомендовала присутствовавшим на собрании особо обольщаться на счет старого «Резонанса», где, по идее, им тоже должны были бы вернуть долги, только уже не в виде благотворительности, а просто по закону, так как формально получалось, что тот «Резонанс» им теперь все и был должен. Но Китонова сразу же честно предупреждала их, что там их всех может постичь очень серьезное разочарование, так как связываться с новыми владельцами «Резонанса» она бы никому не посоветовала, ибо это были самые что ни на есть бандиты, из-за которых, собственно, ей и пришлось пойти на срочное переименование газеты, потому что она не могла допустить, чтобы рупор петербургской интеллигенции, газета «Резонанс», стала, как того хотели новые владельцы, жалкой бульварной газетенкой, дешевым таблоидом, каких и так в Петербурге расплодилась уйма, а газет, подобных «Резонансу», не то, что в Петербурге, но во всей России были буквально считаные единицы. Именно это, и ничто другое, подвигнуло ее на столь радикальный шаг, возможно, совершенно и неожиданный для многих присутствующих в зале.
Так что теперь каждый мог сделать свой выбор сам: идти ли ему в погоню за длинным рублем и заново оформляться на своей старой работе, в старом «Резонансе», либо, подчиняясь неписанному кодексу чести профессионального журналиста и осознавая свое высокое предназначение, остаться работать на своем прежнем новом месте, в только что возникшем «Новом Резонансе». Ибо по сути, по духу, «Новый Резонанс» и был, есть и будет, она была в этом убеждена, настоящим старым «Резонансом», тогда как старый «Резонанс» был пока вообще неизвестно чем, и неизвестно еще, состоится ли когда-нибудь он вообще как газета, а если и состоится, то по поводу уровня этой газетенки лично у Китоновой не было никаких иллюзий…
Маруся и еще две пенсионного возраста корректорши оказались, кажется, единственными, кто не принял план Китоновой. Марусе вся эта история с переменой названия сразу же напомнила классический шулерский прием с незаметной подменой карты, о котором так часто говорил Костя, используя этот образ в качестве метафоры для иллюстрации своих мыслей.
Маруся каким-то чудом успела в последний момент проникнуть в бухгалтерию, где ей даже выдали справку о задолженности. Было видно, что в бухгалтерии совершенно не ожидали, что к ним после речи Китоновой кто-нибудь вообще обратится с подобной просьбой. Однако, после марусиного там появления, они, видимо, сумели быстро перестроиться, и пришедшие после нее туда пенсионерки-корректорши таких справок уже не получили.
Нового адреса нового старого «Резонанса» в старой редакции старого «Нового Резонанса» тоже, как выяснилось, никто не знает, у Китоновой он где-то был записан, но она никак не могла его найти. Старушки-корректорши, вроде бы, раздобыли этот адрес и с листочком в руках уже, было, радостно кинулись в сторону метро, но вскоре вернулись назад, так как по дороге выяснилось, что у них на листочке написан адрес дома, в котором они только что находились, этот адрес дал им вахтер, потому что подумал, что это пришли какие-то читательницы газеты и хотят написать в «Новый Резонанс», об адресе которого они у него спрашивают.
В конце концов, каким-то чудом Марусе удалось получить и адрес, и уже на следующий день она приехала на Петроградскую и встретилась с новым главным редактором «Резонанса», его звали Александр Иванович Молодцов, он был прапорщиком в отставке и приехал в Петербург буквально неделю назад из Саратова, где в течение нескольких лет издавал газету «Саратовский коммунар», там новые владельцы «Резонанса» и заметили способного журналиста, срочно пригласив его в Петербург и даже купив ему здесь комфортабельную трехкомнатную квартиру.
Молодцов оказался почти на голову ниже Маруси, у него были тоненькие, аккуратно выщипанные усики, круглые, как пуговицы, бесцветные глазки и зализанные к затылку редкие волосики. Правое плечо у него было настолько выше левого, что во время разговора он почти касался его ухом, отчего, весь такой хрупкий и маленький, он напоминал Марусе младенца, который плохо держит головку.
Александр Иванович тоже считал, что такого уровня, как у них в Саратове, настоящих профессионалов, здесь в Петербурге среди журналистов поискать днем с огнем, поэтому он собирался своих сотрудников, главным образом, выписывать из Саратова и окрестных областных городков, поселив их на первое время в одном из заводских общежитий на Выборгской стороне. Из числа же старых сотрудников «Резонанса» его вообще мало кто устраивал, большинство из них, по его мнению, абсолютно не умели писать и ничего не смыслили в проблемах замечательного города на Неве, которые ему даже оттуда, издалека, с Волги, были видны гораздо лучше. При этом он весьма скептически окинул Марусю взглядом с ног до головы, и сказал, что, если она надеется получить долги, за которые он, собственно, не несет никакой моральной ответственности, а просто отвечает за других сугубо формально, как это она сама прекрасно понимает, то тогда она должна будет пройти у него испытательный срок, который будет длиться неопределенное время, пока он окончательно не решит, подходит ли она ему, тогда, может быть, ей начнут выплачивать полную ставку, а пока она может рассчитывать разве что на пятую ее часть. И само собой, ей надо будет забыть о том свободном расписании, которым обычно пользуются столичные журналисты, так как у них в Саратове так не принято. Приходить на работу надо будет в девять утра, а уходить, соответственно, в районе шести, но все это только в том случае, если его устроит качество марусиных текстов, с которыми он еще не успел ознакомиться, потому что в настоящий момент у него очень большой конкурс на каждое рабочее место, а непомерно раздувать штат, как это было в старом, а теперь «Новом Резонансе», он не намерен.
Все эти его предложения Маруся должна была, по его мнению, предварительно хорошенько осмыслить и обдумать, прежде чем принимать столь ответственное в своей жизни решение, и подавать ему заявление о приеме на работу, которое он потом должен будет еще рассмотреть и наложить на него свою резолюцию. Что касается тех двух пожилых корректорш, которые ему уже звонили, то на их счет у него уже сложилось вполне определенное мнение, это были абсолютно безграмотные, выжившие из ума пенсионерки, которые почему-то возомнили, что могут выполнять эту сложную и ответственную работу в газете, с ними, в отличие от Маруси, он даже и встречаться не собирался.
Столь сложная процедура получения уже заработанных ею денег Марусю совсем не устраивала, ей очень хотелось найти какой-нибудь путь покороче, чтобы побыстрее получить деньги, которые ей были очень нужны. Она теперь жалела, что так пассивно относилась к этой проблеме в последний год своей работы в «Резонансе», но бессознательно ей было даже как-то приятно думать, что у нее как бы отложена на будущее еще целая тысяча долларов и так, в невыплаченном виде, они даже лучше сохранятся, и потом она почему-то думала, что они никуда не денутся, и она всегда их может потребовать, и тогда сможет купить себе не только мороженое, но и еще много чего, что ей было крайне необходимо, например, какое-нибудь красивое платье, или новую дубленку, или зимние сапоги…
Сева Азаров, коллега Маруси по «Универсуму», писавший на криминальные темы, посоветовал ей обратиться к адвокату, который консультировал журналистов бесплатно.
В адвокатской конторе «Голицын и Ко» ее встретил видный пожилой мужчина с окладистой бородой и благородной сединой в волосах, чем-то отдаленно напоминающий Тургенева, каким его обычно изображали на старых портретах и в школьных учебниках. Он сразу же сообщил Марусе, что он, являясь представителем старинного русского княжеского рода, основал свою контору вместе с двумя своими племянниками и сыном исключительно для того, чтобы помогать попавшим в беду людям, но это было чем-то и так само собой разумеющимся, ибо это был его професссиональный долг, так его учили в Университете на юрфаке, поэтому он основал контору не только с этой очевидной для всех целью, но еще и с целью возрождения во многом утраченной в годы коммунистического правления традиции настоящей российской юриспруденции, это уже была своего рода сверхзадача, которую он преследовал в каждом своем деле, в каждом своем конкретном поступке и, в сущности, это и было настоящим смыслом всей его деятельности, о которой она, Маруся, как журналист, тоже могла бы где-нибудь при случае написать, не обязательно, конечно, прямо сейчас, можно и через месяц или два, и по какому-нибудь иному поводу.
В приемной, пока Маруся некоторое время ждала своей очереди у кабинета Голицына-старшего, она действительно видела множество вырезок из разных газет, развешанных по стенам, в основном это были публикации под рубриками: «Советует адвокат», «С вами беседует специалист», «В гостях у адвоката», «Юрист предупреждает» и т. п.,- на всех вырезках были фотографии пожилого видного мужчины с благородной сединой.
Главным же условием возрождения этой утраченной традиции отечественной юриспруденции было установление доверия между клиентом и адвокатом, чему и должна была способствовать его славная фамилия, которой Голицын сам лично никогда не кичился и даже сейчас не стал особенно спорить с этими мудаками из Дворянского собрания, которые отказались его туда принять и поставили под сомнение его происхождение, ему на это было глубоко плевать, ведь главное-то было не в фамилии, а в его честности, в которой еще никто из его клиентов никогда не смог усомниться.
Сейчас, например, он вел крупный процесс, в котором защищал местного петербургского журналиста, марусиного коллегу, в его тяжбе с Жириновским. Журналист отснял двухчасовой видеофильм про Жириновского, и, после того, как этот фильм был растиражирован на видеокассетах, Жириновский неожиданно отказался платить ему обещанный авторский гонорар, заявив, что того, что записано на этой кассете, он никогда в жизни не говорил и сказать не мог, а эта кассета уже вовсю продается, более того, он теперь предъявил встречный иск журналисту за грубое искажение его слов и моральный ущерб, хотя всем известно, что Жириновский мог говорить, что угодно и как угодно, это он, собственно, и собирался доказывать в суде. Жириновский же, в свою очередь, настаивал на том, что именно этого, что записано на кассете, он никогда не говорил и говорить не мог. Голицын даже предложил Марусе буквально на следующий день прийти на этот процесс и посмотреть, если ей интересно.
Что касается марусиного дела, Голицын сразу же вызвался ей помочь. Он прекрасно знал Китонову и называл ее не иначе как Оля, он тоже считал, что, несмотря на некоторую абсурдность ситуации, когда долги делали одни, а отдавать их должны другие, тем не менее, по закону это действительно так, поэтому он сразу же при помощи своего помощника составил от имени Маруси заявление в суд. Сначала он даже хотел, было, написать в нем, чтобы судья оформил судебный приказ, так как это было бы даже быстрее, тогда деньги без лишней волокиты просто сняли бы у них со счета и превели Марусе, но потом он решил, что этого будет недостаточно и составил более обстоятельное заявление с требованием возместить не только долг по зарплате, но еще и моральный ущерб в целых две тысячи долларов, который Маруся, а ему как юристу это было совершенно очевидно, в данном случае понесла. К заявлению он приложил справку о задолженности, которую Маруся принесла с собой, все это он положил в конверт, который отдал помощнику, чтобы тот его отправил по назначению.
Однако уже через полторы недели это письмо Маруся получила обратно с разъяснением, что все дела и иски к ответчику рассматриваются судами по месту их нахождения, то есть этот иск должен был рассматриваться Петроградским районным судом, где располагался «Резонанс», а Голицын почему-то отправил его в суд Центрального района, где жила Маруся. Справки о задолженности, которую она добыла с таким трудом, в вернувшемся письме уже не оказалось. Она стала звонить в контору «Голицын и Ко», но безуспешно, на работе его застать ей никак не удавалось, в конце концов, ей дали его домашний телефон.
Она позвонила ему домой вечером около девяти часов, Голицын был в очень веселом расположении духа, громко смеялся и шутил, называл ее «Марусенька», а Китонову — «Оленька», говорил, что он их обеих очень любит и помнит о них, причем не просто помнит, а только о них постоянно и думает, правда, о письме, которое он составил, он уже ничего не помнил, поэтому просил ее перезвонить через час, потому что сейчас был очень занят по работе, у него в гостях был какой-то очередной клиент. Однако через час он был уже совсем грустный, говорил заплетающимся языком и, кажется, даже плакал, он с трудом узнал Марусю и, судя по всему, уже не помнил даже, что она звонила ему час назад, но все равно, трагическим голосом, с едва сдерживаемым рыданием, он долго просил у нее прощения, если он чем-то когда-то ее обидел, потому что он ее, дуреху, очень-очень любил, а русские женщины, по его мнению, те и вообще были самыми лучшими женщинами в мире…
Больше в контору «Голицын и Ко» Маруся не пошла, она решила еще раз сходить в бухгалтерию «Нового Резонанса» и восстановить утраченную справку о задолженности. На сей раз ее там встретили гораздо приветливей, теперь все сотрудники бухгалтерии ей даже сочувствовали и, вроде бы, были готовы сразу же выдать ей эту справку, жаль только, что она пришла слишком поздно, опоздала буквально на один день, потому что не далее, как вчера, во время обеденного перерыва, когда они отсутствовали в комнате, где стоит компьютер со всей бухгалтерской информацией, в эту комнату, по совершенно нелепому стечению обстоятельств, проник какой-то маньяк, случайный прохожий с улицы, они сами толком не понимали, как он мог пройти мимо вахтера, и тот не остановил совершенно незнакомого человека, но сейчас об этом было уже бессмысленно говорить, потому что он в их отсутствие просто так, от нечего делать, зачем-то уничтожил всю информацию о задолженностях сотрудникам, которая там хранилась, и теперь ее было совершенно невозможно восстановить.
На Петроградской на дверях помещения, где две недели назад располагался «Резонанс», Маруся обнаружила огромный замок, никаких табличек там больше не было. У старушки-корректорши Маруся узнала по телефону, что «Резонанс» неделю назад переехал на Выборгскую, еще через пару месяцев она же сообщила Марусе, что «Резонанс», который находился уже на Васильевском, сменил учредителя, и теперь это было ООО «Луч света», а от старого «Резонанса» остались только логотип и название, так что даже формально там им теперь никто ничего не должен…
В отношениях с ЕРС после той передачи с Русланом и Болтом о «состоянии современной культуры» у Маруси тоже наступила длительная пауза. Некоторое время Владимир, правда, писал ей по электронной почте, но потом надолго замолчал, все ее послания к нему теперь возвращались непрочитанными с пометкой о каких-то неполадках в сети, из-за которых адресат не может получить ее сообщение. И только жирный мудак к марусиному удивлению вдруг неожиданно прислал ей игривое послание, начинавшееся словами «Здравствуй, моя Мурка!» и подписанное «Твой Беня Крик», в этом послании он предлагал ей сделать передачу о петербургских художницах-женщинах, для этого Маруся должна была срочно выслать ему небольшой планчик-синопсис, где коротко изложить свои мысли по этому поводу, с кем она будет беседовать, и какие конкретные темы она будет со своими собеседницами обсуждать.
Маруся без особого труда сразу же набросала план будущей передачи, где перечислила нескольких ее потенциальных участниц, включая Арину с оранжевыми волосами, Лизу, которая работала раньше корректором, а потом перешла в искусствоведческий журнал после того, как увидела на улице какавшую женщину и решила, что эта Знак, Елену, жену Геннадия, из «черненьких», Елену Студебеккер из Академии Мировой Музыки и еще несколько других. Конкретные вопросы она еще не смогла для себя точно сформулировать, поэтому так и написала об этом Опухтину, в сущности, все было ясно и так — детали должны были бы проясниться по мере беседы с каждой из участниц. Главная же идея передачи, которую она сформулировала не без помощи Кости, заключалась в том, что именно в отношении к женщине в каждую эпоху ярче всего выражается общее состояние культуры того или иного времени, той или иной социальной группы. Так например, сколько бы Бенкендорф ни преследовал гениального поэта Пушкина, сколько бы всем в недавнем прошлом это ни внушали в многочисленных фильмах, книгах и публикациях, стараясь его всячески принизить, все равно, по крайней мере бессознательно, ни у кого не вызывает сомнений, что это был человек высокой культуры, потому что он всегда вставал перед дамами и вел себя с ними крайне галантно, даже в тех же пропагандистских фильмах. То же самое можно было сказать и об офицерах Третьего Рейха…
Однако буквально на следующий день она получила от Опухтина, совершенно неожиданно для себя, истеричный ответ, в котором ее полстраничный синопсис подвергался тщательной и разносной критике, изложенной аж на целых двух страницах. Жирный мудак Опухтин на сей раз обращался к ней совсем не игриво, а вполне официально «Многоуважаемая», далее он подробно разбирал многочисленные неточности, оплошности и небрежности, якобы допущенные Марусей в присланном ему плане передачи, больше всего его раздражало то, что она никак не конкретизировала и не раскрыла поставленную перед ней тему о положении женщины в современной культуре, ограничившись банальными и навязшими в зубах обобщениями о вежливом обхождении, он был также крайне недоволен ее общим отношением к работе, нежеланием думать и стремлением всячески схалтурить, в связи с чем он вполне официально уведомлял Марусю, что впредь он оставляет за собой право больше не рассматривать никаких ее предложений, а также поставит в известность об ее отношении к работе вышестоящее начальство. Это послание, судя по указанным в мейле адресам, он уже отослал Лучиано, Владимиру, а также в брюссельскую, московскую и лондонскую студии ЕРС.
Маруся ответила ему очень коротко в том смысле, что у любого текста, к сожалению, есть не только автор, но и читатель, и поэтому далеко не всегда именно автор бывает виноват в том, что читатель его не понял. На этом контакты Маруси с этой радиостанцией окончательно оборвались.
Через пару недель, зайдя в питерскую студию ЕРС, она натолкнулась там на корреспондента ЕРС, Осинцева, который, как обычно, был сильно пьян, он вообще много пил, в том числе, и в студии, особенно ближе к концу рабочего дня. Осинцев под большим секретом сообщил Марусе, что теперь она для Лучиано стала «персоной нон-грата», потому что в Москве какие-то очень важные люди, правда, кто конкретно, он говорить отказался, уже давно, по его словам, катят на нее бочку, со времен ее первого интервью на ЕРС, но может быть, это даже и не они были виноваты, но во всяком случае, Лучиано теперь был убежден, что Марусю к ним в Прагу специально заслали и чуть ли не из ФСБ, о чем он, вроде как, даже оповестил всех сотрудников на летучке, причем уже месяц назад… То есть получалось, что это было еще до предложения жирного мудака сделать передачу о женщинах — почему-то это было первое, что пришло тогда в голову Марусе… Правда, сам Осинцев толком ничего не знал и не понимал, и более того, со своей стороны, он был к Марусе расположен всей душой и никогда ей зла не желал, но, на всякий случай, советовал ей больше сюда, к ним в студию, не заходить.
И действительно, когда еще через пару недель Алеша, который, возможно, был не в курсе всей этой возни, так как работал по ночам, попросил ее передать ему через питерскую студию в Прагу несколько необходимых ему книг, Осинцев даже по телефону говорил с ней полушепотом, книги, правда, он взять согласился, потому что Алешу он тоже очень любил и уважал, но встретиться для этого они должны были с Марусей на Невском проспекте, а не в студии, как это было раньше и, вроде бы, гораздо проще, потому что не надо было договариваться об определенном времени.
Чтобы внести хоть какую-то ясность во всю эту путаницу, Маруся даже несколько раз пыталась позвонить Лучиано в Прагу, однако всякий раз его не было на месте, а в последний раз секретарша сказала, что он в Москве, на конгрессе правозащитников, и это действительно было так, потому что вскоре Маруся даже видела его по телевизору. Теперь она начинала понимать, почему и деньги за ту передачу с Русланом ей выплатили с некоторой поспешностью, на месяц раньше, чем это обычно было принято, причем, вместо двухсот долларов, как, вроде бы, ей должны были заплатить, ей на счет было переведено только сто. Маруся знала, что у Китоновой муж тоже занимал очень высокий пост в ФСБ, но она старалась не думать об этом, чтобы не забивать себе голову лишней информацией, в конце концов, и в том, и в другом случае, ей важны были только деньги.
А тут еще Серафим неожиданно объявил Марусе, что он к настоящему моменту уже выплатил ей все причитающиеся ей деньги за ее перевод, которые ей выплачивались в течение шести месяцев у него в издательстве по трудовой книжке, так как такая форма выплаты гонорара, по словам Серафима, была для него наиболее удобна, потому что позволяла ему избежать лишних налогов, а, как она должна помнить, первую половину гонорара, то есть шестьсот долларов, он уже вручил ей год назад лично в руки, хотя и забыл тогда взять с нее за них расписку, но он очень надеялся, что она этого не забыла.
Всю эту информацию он изложил Марусе у себя дома, куда она принесла ему окончательный вариант вычитанной верстки своего перевода Селина, при этом Серафим на протяжении всей своей непродолжительной речи внимательно и не моргая смотрел Марусе прямо в глаза, он тут же вернул ей и ее трудовую книжку, которая ему больше была не нужна, а как только Маруся попыталась что-то возразить, он вдруг радостно замахал руками и закричал, обращаясь к своей жене на кухне:
Мириам, Мириам, а где же наш кофе?
Мириам тут же принесла им по чашечке кофе, даже вазочку с вареньем и большую корзинку с вкусным печеньем.
И уже через полчаса Маруся оказалась на улице, так и не сумев высказать ему свое недоумение, она мучительно старалась вспомнить, о каких долларах, которые, якобы, год назад выплатил ей Серафим, шла речь. Все это казалось ей столь неожиданным и вопиющим враньем, что только теперь, на улице, через полчаса, до нее наконец что-то стало доходить. Кроме того, под мышкой у нее был тяжеленный рулон серого армейского сукна, который достался Серафиму в наследство от его отца-полковника, потомственного донского казака, и который на прощание, в знак своего особого расположения к ней, Серафим ей подарил.
Несколько раз Маруся еще пыталась дозвониться до Серафима, чтобы предупредить его, что, если положенные ей шестьсот долларов не будут ей выплачены, то она заберет свой перевод и отдаст его другому издателю, тем более, насколько она помнила, никаких договоров с Серафимом по поводу этого перевода она не подписывала, ведь деньги он ей выплачивал исключительно по трудовой книжке, в соответствии с записью в которой она некоторое время, якобы, работала у него в издательстве в качестве переводчицы, и только. Однако всякий раз Серафима либо не было дома, либо к телефону подходила его жена, либо он сам куда-то очень спешил, но, когда Маруся все-таки попадала на него, он неизменно подбадривал ее и советовал особенно не расстраиватьсяя, говорил, что все у нее будет в порядке, ведь она еще так молода и так талантлива, лично он от ее переводов в полном восторге, такого мастерства и утонченного чувства стиля он раньше ни у кого не встречал, а ведь у нее еще все впереди, она не должна также забывать, что ей уже выплатили целых шестьсот долларов настоящими живыми деньгами, в то время, как у него на родине в Самаре множество рабочих месяцами сидят без зарплаты, а если им и платят, то унитазами и надгробными плитами… Мириам, в свою очередь, просила Марусю не слишком огорчать Фиму и не доставать его так часто своими звонками, потому что у него очень хрупкое здоровье, и он вообще человек очень нервный, а если он огорчится и от огорчения заболеет, то всем будет только еще гораздо хуже, чем есть…
В конце концов, Маруся вспомнила про Николая Корзуна, который, вроде бы, очень любил Селина и еще Толкина, главным образом за то, что и тот и другой замечательно описывают в своем творчестве замки, от которых он сам был просто без ума. Корзун уже однажды пытался Марусе у нее на кухне продемонстрировать свою любовь к замкам и даже сломал ей стул, прыгая на нем со шваброй под мышкой, изображая средневекового рыцаря, тогда он как раз и говорил о своем большем желании издать Селина, но в тот момент у него на это не было денег. Теперь же он, вроде, был готов к осуществлению этого проекта, во всяком случае, он со вниманием выслушал Марусю, и сразу же предложил ей заключить договор, что касается Серафима, то он считал, что тут Марусе беспокоиться особенно не о чем, если они не подписывали никакого договора. Но на всякий случай, просто чтобы подстраховаться, ей было нужно подать на Серафима заявление в суд, а то вдруг он все-таки выпустит этот перевод, и тогда Корзун как издатель тоже понесет определенные убытки, правда, никаких денег сам он Марусе пока не предложил, а пообещал расплатиться с ней сразу же после выхода книги в свет. Заявление же в суд как автор перевода Маруся должна была подать от своего имени, как частное лицо она на это имела полное право по закону. Корзун же своим авторитетом и по мере собственных сил готов был оказать ей во всех этих разборках поддержку с тыла.
Однако в суде заявление у Маруси с первого раза не приняли, так как оно должно было быть составлено по форме, которой Маруся по неопытности не знала, поэтому ей срочно понадобился адвокат, хотя бы для того, чтобы составить исковое заявление. Сам суд произвел на Марусю гнетущее впечатление, пробыв там около полутора часов в толпе, главным образом, состоявшей из пенсионеров, которые, отталкивая друг друга локтями, стремились проникнуть в кабинет судьи, она почувствовала себя очень плохо и, если бы в это мгновение не подошла ее очередь, она, пожалуй, и вовсе бы выскочила на улицу на свежий воздух, потому что с ней опять случился приступ клаустрофобии, страха перед этим большим скоплением народу и замкнутым пространством, такие приступы часто случались у нее в Париже в метро, а потом, вроде бы, на некоторое время прекратились.
Адвоката, «специалиста по авторскому праву», по объявлению нашла марусина подруга Ира, и они вместе с ней отправились к нему в большую коммуналку на Среднем проспекте Васильевского острова, где он, как выяснилось, снимал комнату. Это был высокий тощий юноша, во всяком случае, моложе Маруси лет на пять, с выкрашенными в соломенный цвет длинными волосами, он сразу же предупредил Марусю и Иру, что берет полтинник в час, и это по нашим временам совсем не дорого, проконсультировать же за это время он их мог по любому вопросу, какие их только интересуют, так что они могут смело его спрашивать абсолютно обо всем, он им все сразу расскажет и объяснит. Марусю интересовала только судьба ее перевода.
По его мнению, в этом вопросе существовало очень много самых разных неожиданных тонкостей, о которых неподготовленный человек может часто даже и не подозревать, поэтому всем людям так и нужны советы таких, как он. Например, Маруся считает себя автором перевода, а ведь настоящий автор этой книги совсем другой, и где он сейчас находится, ведь, может быть, многое зависит от него… Как она сказала, его фамилия? Селин? Хорошо, так вот тогда, пожалуй, лучше бы сам Селин, а не Маруся к нему сейчас и пришел, и он бы с ним с удовольствием побеседовал, потому что автор-то именно он, а Маруся здесь, вроде как, и не при чем. Люди вообще часто заблуждаются на свой счет и принимают себя не за тех, кем они являются, поэтому то, что Маруся — не Селин, это он сразу мог ей сказать и внести полную ясность в ситуацию, чтобы она, на всякий случай, так не думала… Заметив же, что Ира, после этих его слов, стала как-то слишком нервно ерзать на стуле, он сразу же поспешил ее и Марусю успокоить и даже попросил прощения, если он сказал что-то не то, потому что все это он говорил просто так, для примера, чтобы они поняли, какие сложные и двусмысленные ситуации могут часто и совершенно неожиданно возникнуть во время длительных судебных разбирательств, чтобы мысленно подготовить их ко всему, заставить их немного раскрепоститься, оглядеться по сторонам, для этого ему и нужно было подойти к этой проблеме с совершенно иной, неожиданной стороны. Этот прием он всегда использовал в своих консультациях, и он всегда приносил ему хорошие результаты.
И хотя сам он был, как они видели, еще человек сравнительно молодой, но опыт работы у него был уже достаточно внушительный, и успехи тоже весьма и весьма впечатляющие, в частности, уже сейчас он был заместителем председателя Калининского отделения «Мемориала», организации, в которой многие ребята и сегодня еще от прав человека просто охуевали — при этом он жестом указал на висевший у него над головой портрет академика Сахарова — он же, будучи помоложе, не брезговал и коммерцией, и вообще не гнушался никакой работой, и если, например, у них с Ирой прохудилась сантехника, то он тоже брался им в этом отношении помочь и мог по знакомству достать замечательный, совершенно новый итальянский унитаз, причем совсем недорого, потому что фирма, которую он постоянно консультировал, уступала ему такие унитазы оптом по дешевой цене, а он их уже дальше переправлял, в Псков и в Новгород, где тоже были отделения их «Мемориала». Помимо фирмы, снабжавшей его унитазами, он был знаком еще со многими известными людьми Москвы и Петербурга: музыкантами, писателями, артистами, — некоторых из них ему тоже приходилось иногда выручать в трудной ситуации, правда, большинство его клиентов, к сожалению, были люди уже преклонного возраста, пенсионеры, бомжи, и проститутки, и все они его уже порядком достали, поэтому ему и было так приятно поговорить с интеллигентными дамами, вроде Маруси и Иры…
Маруся наконец-то попыталась изложить ему суть дела, по которому они к нему пришли, но он сразу же замахал на нее руками и сказал, что ему и так все ясно, она может ничего не говорить, потому что, по большому счету, все, что она скажет, никого не интересует, то есть, не его лично, как раз его это очень интересует, но в суде, это уж точно, никого не интересует, и это он прекрасно знал по своему личному опыту. Например, недавно он защищал одну девушку, приехавшую в Петербург откуда-то из Сибири, которую свекровь, после того, как та развелась со своим мужем, выставила за дверь с маленьким ребенком на руках, хотя она была прописана у нее в квартире, и по закону свекровь этого сделать не могла, тем более, что у девушки здесь в Питере больше никого не было, и ей просто негде было даже переночевать, поэтому он вообще не сомневался, что это дело верное, что здесь и так заранее все ясно, выселять его подзащитную никто не имел права, поэтому он весь процесс спокойно сидел и ни хуя не делал, ничего даже не говорил, отказался от своего слова, просто решил немного отдохнуть, раз уж исход был настолько ясен и очевиден, а судья и два народных заседателя, немного посовещавшись, вернулись в зал и вдруг объявили: «Выселить!», — ну тут он совсем охуел, и уже в коридоре, после заседания, подошел к судье и спросил ее, а куда же бедная девушка теперь пойдет, а та ему в ответ: «С улицы пришла, на улицу и пойдет!»- вот так.
Так что и Маруся должна готовиться к самому худшему, а есть у нее с кем-нибудь договор или нет — это абсолютно никого не интересует. И все потому, что современная судья, как правило, это ведь такая же, как они, женщина, а пусть они представят себе молоденькую выпускница юрфака, которой просто некуда пойти, нигде ее больше не взяли, вот она и пришла в суд, а что ей еще остается, теперь, вероятно, им уже немного ясно, с кем им придется иметь дело в суде, с какими кадрами. Конечно, он, как заместитель председателя «Мемориала» может, со своей стороны, поспособствовать успешному разрешению вопроса, если они согласятся, чтобы он помогал им и в дальнейшем, потому что как раз у Центрального суда довольно тесные связи с их «Мемориалом», то есть он может подойти к судье в кулуарах, поинтересоваться, как у нее дела, как здоровье, а заодно и спросить, а как там насчет марусиного дела, на чью сторону она склоняется, можно даже и к прокурору сходить, но это он совсем не для того говорит, чтобы Маруся и Ира прямо сейчас ему выложили бабки, и он пошел дал судье на лапу, так этого делать ни в коем случае нельзя, потому что тогда судья его сразу на хуй пошлет, да и ему подставлять ни себя, ни их не хочется, за дачу взятки должностному лицу на зоне валандаться ему совсем не с руки, но вот их тесные отношения с «Мемориалом» судья учесть может, но конечно, это тоже ничего никому не гарантирует, потому что наш суд — это совсем не то же самое, что суд в Америке или во Франции, так как там есть суды с хорошо оплачиваемыми судьями и адвокатами, где ведется тщательное разбирательство всех деталей и тонкостей каждого дела, а есть суды для бедных, где все решается гораздо проще и быстрее, в общем, как у нас, так как у нас пока что все суды — это и есть суды для бедных.
Вот он, например, с какой стати должен будет очень стараться и защищать их интересы, у него и своих проблем хватает, тогда для чего, спрашивается, ему забивать себе голову всякой ерундой, авторским правом и прочей белибердой, пусть Маруся и Ира хорошенько подумают над этим вопросом, сам себе он еще не дал на него окончательного ответа, поэтому всякий раз, когда он берется за дело, он все время спрашивает себя — а зачем ему все это надо, на кой хуй, все эти наркоманы со своей наркотой, выселенные из коммуналок пенсионеры, пойманные за руку сутенеры, избивавшие своих подопечных, проститутки, бомжи и прочие отбросы общества, ради чего он должен копаться во всем этом дерьме, ведь он еще достаточно молодой человек для того, чтобы забивать себе голову всей этой хуйней, вот они с Марусей пришли и скромно, интеллигентно молчат и слушают его, а если бы на их месте сидел сейчас какой-нибудь сумасшедший пенсионер, то он бы его уже к этому моменту так достал своими рассказами и жалобами, что он бы просто не знал, куда от него скрыться и убежать, он даже эту комнату специально снял для своих консультаций, подальше от своей квартиры на Петроградской, чтобы при случае можно было отсюда незаметно исчезнуть, и его бы больше никто никогда не нашел… После он еще рассказал Марусе и Ире несколько своих самых интересных дел, которые ему приходилось вести в последнее время, про наркоманку, которую нашли полгода назад в ванной с перерезанными венами, ученицу десятого класса средней школы, про драку на коммунальной кухне, когда зять стукнул свою тещу сковородкой по голове, и еще про какого-то обдолбанного бомжа, который даже говорить толком не умел, а все больше мычал… В результате Ира опять стала нервно ерзать на стуле, а Маруся тоже заметила, что они находятся у адвоката уже почти три часа, а оплата за консультацию была у него, между прочим, почасовая, а он все говорил и, кажется, совсем не собирался останавливаться. Правда, заплатить за консультацию обещала Ира, так она хотела поддержать Марусю в трудную минуту, но от этого Марусе было еще более неловко перед ней, поэтому она, улучив момент, наконец-то решительно встала и сказала, что все, спасибо, но им пора, к сожалению, они опаздывают на работу.
Он сразу же выразил глубокое сожаление по этому поводу, потому что ему было очень приятно побеседовать с такими интеллигентными и умными дамами, и он, конечно же, будет рад видеть их у себя еще, если они надумают воспользоваться его услугами снова. Заявление в суд он, правда, тоже помог им составить, и даже не взял за это денег. Уже в прихожей Ира еще раз спросила его, чем же все-таки, на его взгляд, должно разрешиться это дело, в которое Маруся ввязалась, на что он опять ответил:
— Ну я ж те сказал, — в конце он уже полностью перешел с Ирой и Марусей на «ты», — может быть все, что угодно!
После того, как мама утратила всякий интерес к Лике, она чаще всего приводила Марусе в пример ее троюродную сестру Таню, которая раньше работала библиотекарем в школе, а потом сошлась с каким-то грузином, который, если верить маме, был чуть ли не идеалом мужской красоты и обходительности, у него были «замечательные выразительные глаза» и, ко всему прочему, настоящий талант предпринимателя, он уже приобрел себе ларек у метро «Пролетарская», где торговал фруктами и овощами, и в ближайшем будущем собирался значительно расширить свой бизнес. По словам мамы, он очень любил Таню, но пока не мог жениться, потому что у него осталась еще жена в Кисловодске, с которой он сначала должен был развестись. Мама считала, что Вано является замечательной партией для Тани, а Маруся, по ее мнению, могла бы прямо сейчас пойти работать в его ларек у «Пролетарской».
Но еще больший восторг у мамы вызывала некая Гуйяна, подруга Тани, с которой она познакомилась через Вано, которая, недавно приехав в Петербург из Якутии, сумела уже приобрести здесь себе квартиру и обладала редкой для женщины деловой хваткой и предприимчивостью. Гуйяна жила с приятелем Вано Гиви. Мама считала, что Маруся должна обязательно познакомиться и с Вано, и с Гуйяной, для чего однажды пригласила их вместе с Таней и Марусей к себе в гости.
Вано оказался еще более отвратительным и мерзким, чем Маруся могла себе представить, не то, чтобы он был полный урод, но просто у него были какие-то гнусные заискивающие лакейские манеры, и очень неприятный беспокойный взгляд, Марусе также не понравилось, что, в первый раз придя к маме в гости, Вано слишком по-хозяйски стал осматривать все комнаты, что где стоит. О Гуйяне и ее предпринимательских способностях она с первого взгляда сказать ничего не могла, кроме того, что у нее было характерное чукотское или якутское лицо с узкими глазами. Ко всему прочему, Вано еще и не курил и почти совсем не пил, что приводило марусину маму в особый восторг.
Когда Маруся вместе с Таней и Гуйяной вышли на кухню покурить, Таня сразу же предложила Марусе помочь разобраться с издателями, которые, как она слышала от марусиной мамы, ее кинули, потому что, по ее словам, некий Нодари очень хорошо разбирался в подобных ситуациях, а под его руководством был даже целый отряд сотрудников ФСБ, и ему стоило только позвонить по указанному телефону, как вопрос сразу будет решен, даже делать ничего не надо будет, издатели сразу выложат Марусе все деньги и еще заплатят сверху, правда, сам Нодари сейчас сидел в тюрьме, по словам Тани, за неуплату налогов, поэтому надо было немного подождать, когда он освободится, тогда сразу же все будет в порядке.
А так, если сидеть на жопе ровно и ни хуя не делать, в наше время Марусю быстро обдерут, как липку, выебут, высушат, поставят на уши, отутюжат, опустят, заарапят, крутанут, надрючат, накатают дурочку, накормят, наплетут лапти, обштопают, опарафинят, раскинут понт, обуют, разуют, разденут и пустят по миру сосать лапу, ведь уровень тех, кто Марусю кинул, был Тане понятен: Здравствуй, дерево! — и таким интеллектуалам, как она и Маруся, надо было все-таки уметь за себя постоять…
Гуйяна была не согласна с Таней:
— Ты говоришь, что этот Нодари сотрудничает с ФСБ, и они придут пиздить издателей, которые ее надрали? А ты отдаешь себе отчет в том, какие это может все иметь последствия?
Ведь если они нанесут им тяжкие или там легкие телесные повреждения, то те просто-напросто пойдут в травму и зафиксируют там факт избиения, и в ментовку тоже пойдут и подадут заявление, и в результате Маруся будет отвечать в суде за все эти дела, а потом ей придется еще и оплачивать их лечение, и вместо денег она получит на свою голову массу проблем. У Тани просто нет мозгов, она мыслит другой частью тела, так что Гуйяна не советовала Марусе связываться с этими личностями.
Она приехала в Петербург два года назад и за это время уже многого успела навидаться. Еще когда Гуйяна ехала в Питер, с ней в поезде случилась очень забавная история, она до сих пор не могла о ней без смеха вспоминать. Она зашла в купе и села там на свое место, а через некоторое время дверь открылась, и в купе зашел мужик, а она так глазами туда-сюда, туда-сюда и думает: «Наверное он меня за ненормальную принимает», — в общем, почему-то у нее было такое чувство. Мужик сел за столик у окна и стал в окно это смотреть, а на нее старался вообще глаз не поднимать, а за окном темно, ничего уже не видно, и ей так смешно стало, она сперва просто немного похмыкала, а потом чувствует — уже не удержаться от смеха, просто распирает, и она как засмеется! А мужик встал и из купе молча вышел, а она все смеяться продолжает — так он ее насмешил. Но вот видит, его все нет и нет, надо, думает Гуйяна, раздеваться, спать ложиться, и она разделась и легла под одеяло, натянула одеяло до самого подбородка и так и лежит. Через какое-то время смотрит — дверь купе тихонько открывается, и входит ее сосед, старается в ее сторону не смотреть, тихонько пробирается к своей полке, садится, выключает свет и, судя по звукам, начинает раздеваться, а она лежит, лежит, и ей вдруг опять ужасно смешно стало, и опять она удержаться не смогла и как засмеется — ха, ха, ха! Мужик вздрогнул, весь съежился и зарылся под одеяло с головой, и так всю ночь из-под одеяла не высовывался, хотя в какой-то момент Гуйяна все же заснула, но утром, когда открыла глаза, он все так же лежал, накрывшись одеялом с головой. А потом, когда поезд прибыл на конечную станцию, на Московский вокзал, быстро вскочил и оделся, и, ни слова не говоря, шмыгнул за дверь, а Гуйяна села у окна и еще косяк забила, у нее с собой из Якутска много было…
Муж Гуйяны был наполовину якут, наполовину еврей, он накатал телегу, что его в Якутии притесняют, хотел в Америке политическое убежище получить, а ему в ответ — ничего, не сработало, и правильно — пиздуй в тундру и тусуйся там, никто притеснять не будет. У него был друг, тоже женатый, и они вчетвером все так подружились — играли в покер, в преферанс, в кабаки вместе ходили, так он незаметно на иглу и подсел, сперва они с другом просто подкуривались, а потом и ширяться стали, и им все больше и больше дозняк стал нужен. Муж Гуйяны с другом уехали в Питер, а Гуйяне все это начало надоедать, она ведь из хорошей семьи, из богатой, правда ее мама, сволочь такая, повесилась — не могла видеть, как папа пьет.
А мама мамы, ее бабушка, умерла от сепсиса: естественно, нельзя рожать каждый год, как свинья, к тому же она еще и работала на трех работах. А мама была просто метеорит — трое детей и все делает, все бегает, когда она умерла, Гуйяна поняла, что ничего не умеет, раньше она из Москвы везла три сумки грязных вещей в Якутск стирать, то есть мама ее очень баловала, это она поняла, когда та умерла, Гуйяна раньше никогда не думала, что зима идет, надо шапку, шубу покупать, все это мама за нее думала, и вот она повесилась, и теперь она сама должна была себе вещи стирать, и о зиме думать. У нее была подруга-бурятка, Лера, единственная женщина, которая ее по-настоящему понимала, она бахайка, есть такая религия, так вот, они с ней еще в девятнадцать лет вместе пытались открыть частное предприятие. Гуйяна никогда не любила совок, но если она что-то все же могла сделать для этой страны, то почему бы не попробовать, ведь силы у нее есть. Они пошли регистрировать свое предприятие, им там глазки строили — бла-бла-бла, мол, девочки, мы вам поможем, а потом, и двух месяцев не прошло, такие навороченные на них наехали, они еле ноги унесли. И все им такие понты показывают, пальцами тычут, все у них реальное, и им тоже подавай конкретно, на их языке-то говорить Гуйяна и то не могла.
Дочке Гуйяны было шесть лет, очень красивая девочка, просто прелесть, в Америке после тридцати родить не проблематично, это у нас сразу проблемы, но она родила очень красивую, очень здоровенькую и умненькую девочку. Вообще, у нее только тело иногда устает из-за болезни, а вот мозги никогда не устают — они думают, что сделать, чтобы выжить, вот она и жива до сих пор. Своей дочке она очень красивое платье сшила и повела ее в цирк, сели они в девятом ряду, все вокруг умилялись — какая красивая девочка! А потом антракт, такая толпа, и она свою девочку потеряла, у нас же народ такой равнодушный — растопчут ребенка в красивом платье и не заметят, им что — бирку в зубы и бегом, теперь уже даже не кричат: «Чей ребенок, чей ребенок!», — а молча ломятся в фойе, к гардеробу. А ее девочке всего шесть лет, она, конечно, в красивом платье, но тем не менее, ее никто не замечает, она ведь крошечная, вот тогда она и написала стихотворение, которое назвала: «Я клянусь своей любовью к тебе доченька, что у тебя будет мама навсегда!». Потом она это стихотворение ей пела, и даже музыку сама написала.
А потом ей позвонил из Питера ее муж и попросил срочно приехать. Она дочку свою оставила у тетки, папиной сестры — она тоже очень красивая, настоящая красавица, — и поехала в Питер, а в Питере жила ее другая тетка, сестра мамы. Приехала, зашла в дом — у мужа на Фонтанке квартира была, а ее друг его встречает совершенно обдолбанный, ну просто никакой, и говорит, что муж с шестого этажа головой вниз съехал, весь обторчанный, перебрал, и произошло это буквально за два дня до ее приезда. Там внизу, у подъезда, даже осталась засохшая кровь, в том месте, где он приземлился, вот так и осталась теперь ее доченька наполовину сиротой, но мама у нее есть, а это самое главное. Гуйяна хотела поменять дирхамы, потому что у нее с собой были только дирхамы, но их нигде не брали, это неконвертируемые деньги. А жить она так и осталась там, в этой квартире, друг мужа ей готовил жратву, она поест — и каждый раз чувствует, что у нее крыша едет. Она ему сказала:
Не надо мне мацанки подсыпать, пожалуйста!
А они хоть бы хны — их тогда уже двое было, еще один какой-то пришел, постепенно они у нее все деньги украли, так что ей пришлось переехать к знакомой, она наивная, поэтому ее пять раз и ограбили, папа хотел, чтобы она была такая, а сам, сволочь, пил, как свинья, но она все равно хотела быть маленькой, слабой, как ее папа учил. И вот однажды выходит она на Невский и встречает парня — лицо, вроде, знакомое, и тут он начинает с ней говорить, и она понимает, что у них должны быть общие знакомые.
— Вы, наверное, знаете моего лучшего друга Дениса?
А он ей отвечает:
Да, знаю, он умер от передозы.
Тут с ней приключилась истерика, она упала прямо на тротуар, а он ушел, просто ушел, и оставил ее валяться на тротуаре.
Когда она встала, то заметила какого-то парня, который шел мимо, подволакивая ноги, на костылях, лицо у него было такое красивое, осветленное, они с ним разговорились, и ей легче стало, а Денису она все простила, и мужу своему тоже. Вскоре она себе другого мужа нашла — Витю, она ведь маленькая, слабая, ей нужна поддержка и опора, Витя работал на заводе Козицкого, на Козе, как он говорил, он телевизоры там собирал, а потом просто оттуда ушел и стал чинить телевизоры на дому, перед уходом с работы он там набрал деталей целый мешок, они ему потом пригодились для ремонта, Витя был высокий, худой, с большими голубыми глазами, очень Гуйяну любил и о ней заботился. Правда, у него была одна проблема — он пил, причем в основном ликеры, но наркотой не баловался, и это было уже хорошо. Особенно он любил вишневый ликер, однажды он допился до того, что у него случился приступ, он упал и потерял сознание, и ударился тыквой о стойку бара. Тогда врачи сказали Гуйяне, что ему нельзя пить, а ликеры в особенности, потому что у него какое-то избыточное давление в головном мозгу, и он однажды может просто умереть, а у Гуйяны и так уже умерли все, просто все близкие люди, только дочка одна осталась, и у нее этот диагноз просто вызвал истерику.
А доченька ее коллекционировала «Киндер-Сюрпризы», то есть эти игрушечки из шоколадных яиц, сами яйца она съедала, а игрушки расставляла так аккуратненько на полочки и на подоконники, и у нее набралось уже штук двести, Витя тоже дарил ей «Киндер-Сюрпризы», и даже в театры ее водил, и в цирк они с ним ходили, и она очень к нему привязалась. Но у дочки характер какой-то сумасшедший стал проявляться, чуть что не так скажешь, и она тут же начинает ругаться, причем все матом, откуда она эти слова выучила, Гуйяна и понять не могла, вроде в школу приличную она девочку отдала, и дети, и учителя там были хорошие. А дочка уже всех детей в классе била, учительница на нее жаловалась, и ее все стали бояться, и на родительском собрании Гуйяну предупредили, что если это будет продолжаться, то придется ей свою доченьку из школы забирать. Гуйяна попробовала с ней по-хорошему поговорить, а она залезла на шкаф, на самый верх, прямо как обезьяна и давай оттуда швырять в нее «Киндер-сюрпризы», Гуйяна прямо испугалась, только когда Витя пришел и еще ей два «Киндер-сюрприза» принес, девочку оттуда сняли и успокоили.
Пару раз самого Витю домой доставляли грязного, избитого и вообще без денег, а один раз даже кожаную куртку с него сняли и привезли домой только в одной клетчатой рубашке, Гуйяна плакала, но ничего не помогало. Однажды к ним в квартиру ворвались мужики в кожаных куртках, Гуйяна открыла дверь, потому что в глазок увидела витиного знакомого, они часто вместе выпивали, но оказалось, что знакомый-то как раз и навел, Витя тогда получил триста баксов за ремонт японской аппаратуры, и они ворвались с пистолетом, затолкали Гуйяну и ее дочку в комнату, хотя дочка визжала и ругалась ужасно, и даже пыталась кусаться. Витю ударили по голове и все из квартиры вынесли, даже новые сапожки забрали, которые Гуйяна перед этим для своей дочки купила.
Гуйяна позвонила к себе в Якутск, и тетка ей дала адрес одного колдуна, настоящего шамана, который раньше жил в Якутске, а теперь снимал сглаз и порчу в Петербурге, шаман ей сказал, что ситуация очень тяжелая, у Вити комплекс вины перед бывшей женой и дочкой, так Гуйяна узнала, что у Вити уже были жена и дочь, а он ей говорил, что она его первая любовь. И эта вина материализовалась через избыточное давление в его мозгу, которое появлялось, когда он пил ликеры. У Вити, оказалось, и любовница была, жила где-то на Васильевском, на набережной недалеко от Академии Художеств, и он, когда напивался, ехал ночевать к ней, потому что Гуйяна уже его домой не пускала, она сменила замок. И опять получилось так, что она осталась одна, а ей нужно было на кого-то опереться, они с подругой-буряткой Лерой часто вечерами говорили о жизни, она делала плов с овощами и подсыпала туда немного красной пищевой анаши, а потом они пили чай, тоже красного цвета, и понемногу отъезжали.
Лера познакомилась с грузином, его звали Нодари, такой красавец, просто обалденный, в белых брюках и белом пиджаке, черная с проседью борода, стриженые ежиком волосы, золотая цепь на руке, совершенно реальный грузин.
Он стал жить у Леры, она даже его к себе прописала, иначе ему приходилось ходить в паспортный стол и продлевать себе временную прописку, а зачем это делать, если они все равно скоро поженятся. А Гуйяну Лера познакомила с Гиви, другом Нодари, потому что Гуйяне было очень одиноко, и она тосковала. Сам Гиви был невысокий, Гуйяне даже сперва показалось, что плюгавый, но с очень красивыми глазами, это Лера первая заметила и сказала Гуйяне, а когда Гуйяна присмотрелась, то да, действительно, глаза божественные, такие черные, глубокие, кажется, что смотрят тебе прямо в душу. У Гиви пока денег не было, но зато на границе с Грузией стояли два нерастаможенных мерседеса, и Нодари, у которого были связи в ФСБ, обещал ему в ближайшее время помочь решить этот вопрос. Гиви собирался купить ларьки у станции метро «Проспект Ветеранов», чтобы торговать там фруктами, их ему должны были привозить из Грузии. В Тбилиси у Гиви была жена и двое детей, но он с женой уже давно не жил, любовь прошла, и они расстались, но развод он не оформил, не успел, поэтому с Гуйяной сразу сочетаться браком не мог, и прописать его к себе Гуйяна тоже не могла, к тому же, у нее был пока что прописан Витя.
Гиви научил Гуйяну готовить настоящий шашлык, как это у них в Грузии делают, ведь в шашлыке главное это мясо, ну и приправы, конечно. В роду у Гиви были одни князья, и он никогда не врал, он был благородным человеком, таких теперь редко встретишь. У Гиви уже был овощной магазин в Мурманске, и он отправил туда один грузовик с морковью, капустой и репой, но машина по дороге вообще пропала, сперва ее на таможне задержали, и Гиви очень волновался, что товар сгниет, а таможенники требовали какие-то бешеные бабки, потом удалось договориться, но в результате грузовик просто пропал, как будто в Бермудском треугольнике канул. Гиви поселился у Гуйяны, он очень подружился с ее дочкой, и она вскоре выучила все грузинские ругательства, и даже говорить стала с грузинским акцентом, Гуйяна уже давно замечала, что у девочки способности к языкам, она все запоминала с первого раза. А тут вдруг появился Витя, его выгнала любовница, и он пришел обратно к Гуйяне, идти ему было некуда, первая жена его тоже не хотела принимать. Гуйяне пришлось его впустить, но тут пришел Гиви, и у них состоялся настоящий мужской разговор, Витя полез в драку, но Гуйяна его остановила, ведь кулаками ничего не решишь. Тогда Витя стал наезжать на Гуйяну, что ей нравится пилиться с грузинами, а он ее по-настоящему любил, но теперь это его о многом заставило задуматься, но он не уйдет, потому что это его дом, и он сильно привязался к девочке. Тогда Гиви решил с Витей по-хорошему договориться, мол, бла-бла-бла, любовь проходит и уходит, а дети здесь не при чем, они должны жить нормальной жизнью, и взрослые проблемы не нужно на них перевешивать. Витя согласился и ушел, ему нужно было забрать свои вещи от любовницы и переехать обратно, но он так и не вернулся, его не было неделю. А потом как-то рано утром Гуйяне позвонили из милиции и пригласили опознать тело. Витю нашли в машине у дома на Университетской набережной, он сидел на переднем сиденьи, рядом с местом водителя, и все вокруг было усеяно пробками от пивных бутылок, а самих бутылок не было, значит, их кто-то уже успел забрать, хотя милиционеры уверяли, что ничего в машине не трогали.
Когда Гуйяна увидела тело Вити, с ней случилась истерика, она стала рыдать и кричать, и ничего не могла с собой поделать. Оказывается, Витя приехал поздно ночью к любовнице, а она ему дверь не открыла, потому что он был пьяный в хламину, и он спустился вниз и остался ночевать в машине, но ведь в таком состоянии он вообще не смог бы даже передвигаться, не то, что машину вести, значит, его кто-то довез. Врачи констатировали смерть от алкогольного отравления, и это никого не удивило, Гуйяна тоже в этом не сомневалась, ей, конечно, было жалко Витю, но он, сволочь такая, и раньше пил, а ей с дочкой хотелось спокойной жизни. Тетя Гуйяны тогда была в Питере, она сказала, что все это очень подозрительно и наверняка Витю замочили эти грузины, чтобы он им не мешал. Гуйяна на нее тогда так орала, так орала, даже охрипла, у нее даже припадок случился, и тетя отпаивала ее валерьянкой. Ведь милиция же сказала, и врачи подтвердили, это была случайная смерть, к тому же, Витя был болен, у него мозг не мог выдержать такого количества алкоголя и чувства вины перед свой прежней женой, которая у него была до Гуйяны.
Гиви теперь привез к Гуйяне еще и своего брата, очень худого, он все время кашлял, оказалось, что у него туберкулез. Гуйяна как это узнала, так сразу на дыбы, мол, девочка может заразиться, ведь туберкулез — это не шутки, но брат не мог так сразу уехать, у него не было денег и даже теплой одежды, а уже начинало холодать. Гуйяна собрала денег и дала ему, чтобы он уехал к себе в Тбилиси, она даже дала ему витину хорошую дубленку, чтобы он только уехал, но он обещал ей все это вернуть, вот только подлечится у себя в Грузии хоть пару месяцев. А Гуйяна уж и не думала об этом, была рада, что от него избавилась, ведь он всюду туберкулезные палочки сеял. А тетя Гуйяны приехала в Петербург пожить, немного отвлечься, деньги у нее были, и она вложила в МММ двести тысяч, а получила аж миллион, съездила отдохнуть на Крит, купила себе новую шубу. Гуйяне же Гиви обещал, что они скоро тоже поедут отдыхать в Арабские Эмираты, вот только он растаможит свои два мерседеса, Нодари ему должен в этом помочь. Нодари уже продал лерину квартиру, которую она оформила на него, он пообещал ей купить новую, побольше, на Петроградской стороне с ванной, джакузи и чуть ли не бассейном, и с настоящим камином, который топят дровами. Лера очень волновалась, где же они будут доставать дрова, ведь это лишние проблемы, и еще что из-за бассейна могут повредить дом. Она слышала ужасную историю, как один «новый» решил устроить у себя в квартире бассейн, но когда на третий этаж подняли несколько тонн цемента и песка, неожиданно обрушился потолок в нижней квартире и, вообще, весь дом перекосился. Пока что Нодари поехал в Тбилиси, его срочно вызвали по делам, и Лера временно жила у родителей за шкафом в тесной комнате в коммунальной квартире.
Первое заседание суда должно было состояться уже через неделю, когда марусина мама позвонила ей и сказала, что она навела справки, и Маруся ни в коем случае не должна идти в суд одна, без адвоката, так как тогда она обязательно проиграет, об этом ей сообщила Ольга Николаева, которая жила в соседнем подъезде маминого дома, она тоже училась с Марусей в одной школе, только на год старше, и была круглой отличницей, а теперь работала народным судьей, Николаева также пообещала найти Марусе хорошего адвоката, для этого ей нужно было прийти к ним в консультацию на Суворовский, там Маруся и познакомилась с Комаровой, которая теперь должна была вести ее дело в суде по просьбе Николаевой.
Комарова сразу произвела на Марусю какое-то странное впечатление, в ее лице было что-то лисье и ускользающее, что-то такое, что никак невозможно было поймать и зафиксировать. Она сразу же посетовала на то, как в этом мире не везет талантливым людям, которые постоянно должны сталкиваться со всякими прохвостами и переживать из любви к искусству все мыслимые и немыслимые унижения, а может быть, и того хуже, потому что практически все самые талантливые люди, начиная с Меня, Холодова, Листьева, Талькова и кончая Старовойтовой были к настоящему моменту в России уже убиты, причем все они, по ее мнению, пострадали исключительно за талант, какие бы там слухи и сплетни ни распускали вокруг этих убийств средства массовой информации, уж она-то в этом не сомневалась. Николаева представила Марусе Комарову как очень опытного и цепкого адвоката, которая, к тому же, что тоже было немаловажно, находилась в очень тесных отношениях с судьей Савицкой, которая вела дело Маруси и которую Комарова знала чуть ли не с пеленок. Первым делом Комарова стала дозваниваться до Серафима и даже, вроде бы, договорилась с ним о встрече, но он почему-то в последний момент передумал и захлопнул входную дверь перед самым ее носом, что привело ее в настоящее бешенство, она даже сказала Марусе, что теперь она его уничтожит.
Потом, правда, ей все-таки удалось несколько раз встретиться с Серафимом и обсудить с ним некоторые детали, после чего ее отношение к нему, как могла заметить Маруся, постепенно изменилось на диаметрально противоположное, во всяком случае, Маруся больше не чувствовала в ней такой непреклонной воли и энергии, как в начале, более того, у Николая Корзуна, который уже подписал с Марусей договор на издание Селина, на днях неожиданно раздался звонок из издательства Серафима, в котором то ли редактор, то ли корректор, причем не по поручению своего главного редактора, а просто по своему личному желанию, из симпатии к Корзуну, предупредил его, что эта книга уже вот-вот выйдет в издательстве Серафима, так что тот напрасно связался с Марусей, до добра его это не доведет. Корзун был не согласен с этой точкой зрения, но все-таки, на всякий случай, решил сам позвонить Серафиму.
Серафим сразу же выразил глубокое недоумение, как такому просвещенному и утонченному человеку, как Корзун, могло вообще прийти в голову издавать Селина, ведь это же фашист и человеконенавистник, перевод которого теперь просто жег руки Серафима, отчего он даже спокойно о нем говорить не мог, к тому же он недавно окрестился и принял православие, ему было так стыдно, что своему напарнику и соиздателю Сокольскому, честнейшему человеку, морскому офицеру и гениальному писателю, он до сих пор даже не решился признаться, в какую авантюру по своей неопытности и непросвещенности он того вовлек, да и Марусю он напрасно убедил переводить Селина, даже дал ей книгу Селина, которую перед тем купил в Париже на собственные деньги, Маруся ведь до встречи с Серафимом о Селине знала еще меньше, чем Серафим, поэтому и перевод у нее получился на уровне подстрочника, над которым ему самому пришлось еще много поработать, доводя его до кондиции, потому он имел теперь полное право даже поставить на этом переводе свое имя, но как глубоко верующий человек он этого делать не стал — пусть переводчицей считается Маруся. Зачем ему пачкать о Селина свое имя?
Но Корзун должен иметь в виду, что, так как этот перевод Маруся выполняла в качестве служебного задания для их издательства и была даже оформлена у них на ставку переводчицы, то все права на этот перевод теперь по закону пожизненно принадлежат их издательству — любой суд ему это подтвердит…
Такая трактовка событий оказалась совершенно неожиданной для Корзуна, и он на следующий день встретил Марусю в очень мрачном расположении духа. Действительно, если все было так, как говорил Серафим, то даже если по сути это было не так, а только по форме, все равно, действительно, получалось, что у них с Марусей в суде нет никаких шансов. Марусе тоже никогда раньше в голову не приходило ничего подобного, тем более, что перевод Селина она закончила еще за два года до встречи с Серафимом, ей все это казалось совершенно абсурдным, однако Корзун, кажется, так не думал, потому что он в тот же день вернул Марусе свой экземпляр договора и попросил ее подписать специальный акт о его немедленном расторжении. Маруся вынуждена была это сделать, потому что даже денег от Корзуна она еще никаких не получила, так что, в сущности, на данный момент их ничего больше не связывало. В суде она теперь осталась совершенно одна, без «прикрытых тылов», один на один с судьей и Серафимом, правда, ей обещала свою поддержку Комарова, но Марусе очень не нравилось, что информация о ее намерении издать Селина у Корзуна, о которой знали до самого последнего времени только он и она, стала известна Серафиму вскоре после того, как она поручила вести свои дела Комаровой.
Костя не советовал Марусе отказываться от услуг Комаровой, какую бы информацию кому она ни передавала. Им, по его мнению, она еще пригодится, и прежде всего, он считал очень ценной ее годами нажитую и обкатанную в столкновениях с жизнью глупость, которая, как поздний зимний снег или вода после долгого тропического дождя, толстым слоем покрывающие поверхность земли, должна была немного смягчить удар, в тот момент, когда они с Марусей упадут с большой высоты и ударятся о гранитную тупость судьи — без Комаровой, что бы она там ни вытворяла, они запросто могут и разбиться.
На всякий случай, со своей стороны, Костя тоже решил слегка подстраховать Марусю и согласился пойти с ней на первое заседание суда, которое должно было состояться уже буквально через два дня.
Однако Маруся никак не могла успокоиться, ведь она, чтобы тоже немного подстраховаться, даже пообещала устроить Комаровой приглашение в Париж, город ее мечты, в котором она хотела побывать с самого детства, а у Маруси как раз там был в Буа-Коломб замечательный знакомый, потомственный аристократ, который с радостью ее у себя примет, причем совсем даром, и она там будет жить в одном из самых комфортабельных пригородов Парижа в уютной светлой комнатке, где ее, возможно, даже будут кормить, так что она не могла до конца поверить в то, что Комарова ее, несмотря на все эти перспективы, решила подставить. Что мог предложить ей Серафим, да и что вообще могло быть лучше Парижа?
Костя же считал, что она совершенно не права, ибо то, что Комарова так заинтересовалась Парижем, по его мнению, было классическим трюком из числа тех, что он в изобилии наблюдал все в тех же детективных фильмах, где один герой, чтобы предельно усыпить бдительность другого, чаще всего, именно и внушал ему, что он в нем очень заинтересован, а когда тот полностью успокаивался и не волновался, как раз в этот момент его и кидали, в том числе и адвокаты, которые тоже часто фигурировали в подобного рода фильмах. Адвокат с опытом Комаровой, а ей уже было за пятьдесят, за долгие годы своей практики, по мнению Кости, просто не могла не усвоить этот простейший прием.
Костя его называл «зеркальной страховкой», так как в данном случае человек, желая усыпить бдительность другого, добивался того, чтобы тот приписывал ему собственные чувства, то есть как бы видел в нем самого себя, как в зеркале, в результате чего его уже было гораздо проще кинуть, подставить, опустить или даже замочить. Поэтому Маруся со своим Парижем, по его мнению, здорово лопухнулась, так как она явно недооценила меру изощренности Комаровой, предложив ей такую простую материальную вещь, как Париж. Маруся, судя по всему, все еще витала в облаках, неужели она не понимает, чего та на самом деле от нее ждала, а ведь Комарова сразу же ей на это намекнула, при первой встрече, когда сказала, что Листьева, Старовойтову и других убили за талант, то есть она ждала от Маруси, чтобы и она тоже прежде всего оценила в ней ее талант адвоката, ее профессионализм, опыт и цепкость. А Маруся, наверное, решила, что Комарова, пресытившись ложными ценностями европейской цивилизации, стремится к вещам попроще, и, может быть, вслед за Гогеном не прочь отправиться даже к дикарям на Таити, именно поэтому теперь, со своим Парижем, Маруся и оказалась у нее на крючке, Костя был в этом убежден.
Конечно, все эти тонкости, всю эту диалектику человеческой души, было не так просто понять, но ведь был же старый проверенный способ, в котором в чистом виде воплотилась идеальная модель все той же «зеркальной страховки», и Марусе, как переводчице Селина, стыдно было о нем не знать — Костя имел в виду, конечно же, любовь, то есть Марусе, не вдаваясь в тонкости ее психологии, достаточно было намекнуть своему адвокату, что она ее очень любит, причем не просто любит, а любит, как саму себя, не меньше, тогда та сразу же бы почувствовала, что Маруся в ней очень нуждается, и уже сейчас была бы в полной марусиной власти, и Маруся могла бы с ней делать, что хотела, а пока своими топорными действиями и Парижем Маруся только все испортила…
А ведь в тех же детективных фильмах и триллерах, которые за последние годы в огромном количестве посмотрел Костя, в течение многих месяцев тщательно готовившееся ограбление банка или какой-нибудь кровавый грабеж с убийствами, или еще что-нибудь в этом роде в самый последний момент могли вдруг неожиданно пошатнуться или даже совсем рухнуть, окончиться полным провалом, ничем, если в душу одного из соучастников этих грандиозных кровавых преступлений, уже унесших жизни дюжины полицейских и мирных обывателей, вдруг закрадывалась хотя бы тень страшного сомнения, что другой или другая его не любит, потому что тогда неожиданно прозревший герой или героиня сразу же с легкостью швыряли с таким трудом добытые миллионы долларов, чаще всего они, заливаясь слезами, выбрасывали их из окна последнего этажа небоскреба либо уносящегося вдаль на огромной скорости автомобиля, и все из-за любви — вот какова была ее волшебная сила, о которой Маруся, видимо, совсем забыла в своем общении с адвокатом.
И поэтому теперь Маруся, по мнению Кости, вплотную приблизилась к последней черте, переступать за которую он ей очень не советовал; приближаться к «краю ночи», как это делал тот же Селин — это одно, это даже забавно, так и должен поступать настоящий денди-сверхчеловек, но переступать за эту черту не стоит.
Впрочем Костя считал, что, возможно, эта метафора с ночью в случае с Марусей не очень удачна, так как у Селина, человека более южного, уроженца Франции, к тому же некоторое время жившего в Африке, ночь все-таки ассоциировалась, прежде всего, с тиграми, ядовитыми змеями и кровожадными крокодилами, а Маруся в Петербурге привыкла с детства созерцать по ночам, главным образом, разведенные мосты и красивые городские пейзажи, а такое созерцание, по его мнению, было достаточно опасно, особенно в детстве, так как границы между днем и белой северной ночью сильно размыты, что Костя считал очень важным, так как эти бессознательные и, вроде бы, незначительные детские впечатления и образы, на самом деле, могли сыграть с Марусей очень злую шутку, потому что в последнее время ему все чаще начинало казаться, что Маруся, как младенец, путает день с ночью, а ведь ни папа, ни мама ей сейчас уже больше не помогут, и она в этом мире, и в этом городе белых ночей совершенно одна…
Маруся вообще, по его мнению, сильно недооценивала человеческую изобретательность, может быть, в силу того, что слишком много внимания уделяла таким ничтожным вещам, как интеллект, начитанность и образование. По его мнению, пока Маруся сидела в библиотеке и занималась переводами, миллионы людей во всем мире не теряли времени даром, извращались и развлекались, как могли, он, например, исследуя словарь арго, обнаружил множество незнакомых для себя понятий и слов, из чего делал вывод, что в современном мире нет такого рода деятельности, преступления, извращения, самого невероятного и неслыханного, какое только можно себе представить, которое люди не только бы к настоящему моменту уже не совершили, но фактически на каждое из них в языке, во всяком случае, в русском, уже существовало определенное название, а это значило, что уже были и те, кто занимался этим видом деятельности профессионально.
Знает ли, к примеру, Маруся, кто такой «минер»? А так на жаргоне называют того, кто собирает монетки в фонтанах и водоемах, куда бросают их заезжие туристы для того, чтобы потом вернуться назад, то есть даже в такой незначительной, вроде бы, сфере, о которой она, наверное, даже и не задумывалась, существуют профессионалы, а значит, между ними должна быть и определенная конкуренция и борьба за право собирать монетки в том или ином фонтане, или на той или иной его части, причем борьба не менее напряженная, чем та, которую она ведет за свое существование, например, в литературе.
Наличие таких совершенно новых для него слов сразу же навело Костю на мысль о том, что в современном мире, вообще, накопилось огромное количество неучтенных и вытесненных на периферию жизни слов и имен, которые давно нужно было бы «привести в соответствие», как на том настаивал еще Конфуций, то есть их было необходимо осмыслить и ввести в более широкий обиход. Такая борьба вокруг различных сфер влияния, которые совершенно не пересекались между собой, незримым образом происходила в этом мире постоянно, и если, к примеру, Маруся не знает до конца, чем живут и о чем думают вьющиеся вокруг горящей лампы комары и мухи, то она, по крайней мере, их видит, если же она, к примеру, едет в трамвае или в троллейбусе, то она и не подозревает, что в этот момент кто-нибудь обязательно уже нацелился на ее карман, в то время как сидящий рядом с ней алкаш, вдруг неожиданно завопивший на весь трамвай будто бы приснившуюся ему вдруг песню, вовсе не Иван Иванович Тюлькин, как он всем только что сообщил, а самый настоящий «ширмач», именно так называют на жаргоне человека, прикрывающего действия вора-карманника, каковым, по мнению Кости, мог оказаться и интеллигентный мужчина в очках, вежливо осведомившийся у Маруси, который час, и вообще, кто угодно, третий же в этот момент в другом конце трамвая может поднять громкий скандал, что у него из кармана вытащили, например, кошелек, или кто-то ему наступил на ногу, и все только для того, чтобы Маруся, повернувшись и посмотрев в ту сторону, отвлеклась от своего кармана, более того, в это мгновение в другую дверь может проникнуть конкурирующая пара или тройка таких же профессионалов, случайно забредших на чужую территорию, и в такие мгновения не только Маруся, но и никто из пассажиров, наверное, не думает, какой опасности они себя подвергают, ибо как раз находятся на линии столкновения двух различных группировок, так как в этот момент их трамвай пересекает столь же незримую границу их владений.
В свою очередь, никто из них тоже не подозревал и не подозревает до сих пор, что они собирались только что вытащить кошелек из кармана у знаменитой писательницы, очередь поклонников на презентацию книги которой выстроилась от Публичной библиотеки аж до самого Невского, она для них еще более незрима и неосязаема, чем комары и мухи для Маруси, чем она живет, о чем пишет, они не узнают вообще никогда, так как напомнить о своем существовании Марусе они могут хотя бы лишив ее кошелька, возможностей же напомнить им о себе у таких, как Маруся, нет и не будет никогда.
А вообще-то, Костя считал, что Маруся напрасно забивает себе голову тем, что в это время на уме или на душе у Комаровой, если она говорит, что заметила в ее лице что-то лисье, то на эту ее черту ей и следовало бы обратить особое внимание, во всяком случае, сам Костя не был большим специалистом по этим зверькам, поэтому он предлагал съездить Марусе куда-нибудь в отдаленную лесную деревушку и побеседовать там с местными охотниками, только там, уверял он Марусю, она может получить исчерпывающую информацию, какую только можно, об особенностях характера и поведении Комаровой, а так ей пока придется ограничиться сведениями на уровне сказки про Колобка, потому что, насколько он помнит, именно лиса там его съела.
Маруся тоже, кстати, Косте всегда чем-то напоминала Колобка, может быть, своими румяными щеками и круглым улыбающимся лицом, именно это внешнее сходство Маруси с Колобком больше всего и тревожило Костю, не внушая ему особого оптимизма и надежд на благоприятный исход ее дела. Если она так благополучно улизнула от бабушки в Жмеринке, из Парижа от замечательного французского аристократа, которого она теперь рекомендовала Комаровой, послала на три буквы Опухтина и Сеню из «БУ», ускользнула от ЕРС, ФСБ в лице Китоновой и восьмичасового рабочего дня в «Новом Резонансе», и еще много откуда и от кого, всего и всех Костя даже не мог перечислить, в том числе, и от него самого, когда он в безумном состоянии хотел ее обнять и поздравить с тем, что она является белокурой бестией. Но все это теперь ровным счетом ничего еще не значит, и от Комаровой и Серафима Марусе уйти будет не так просто… О себе в прошлом Костя говорил как о ком-то другом, потому что еще Киркегор справедливо заметил, что разные периоды жизни человеческого «я» могут отделяться друг от друга непреодолимыми разрывами, пропастями, отчего тот же самый человек мог, в сущности, не иметь никакого отношения к тому, чем он был раньше…
К тому же и на самом деле, всерьез, Комарова сообщила Марусе, что Серафим собирается подать на нее встречный иск, но только уже не по гражданскому, а по уголовному делу, за подделку и кражу документов, так как она, якобы, несколько раз подделывала подписи у них в ведомостях на зарплату, получая деньги сразу за пятерых, а также выкрала у него расписку за те шестьсот долларов, которые он выплатил ей год назад из рук в руки. Но пока, правда, он никаких исков не подал, просто Комарова советовала Марусе хорошенько подумать, прежде чем продолжать свою тяжбу с Серафимом. Поэтому, для того, чтобы Марусю не взяли под стражу прямо в зале суда, а такие случаи бывали, например, с Николаем, которого жена засадила в Кресты на шесть месяцев, и Маруся это хорошо знала, поэтому Костя и собирался с ней туда пойти, чтобы ее подстраховать, но для этого Косте надо было предварительно хорошенько подумать. Что ему, например, на себя в этот день надеть? Костя был согласен с Русланом — ко всему нужно подходить профессионально.
Может быть, кожаную куртку марусиного отца, которую она ему подарила, или это будет слишком? Ведь когда он пришел в этой куртке вместе с Марусей к Родиону Петровичу и Ванечке, то сразу же понял, что, пожалуй, перебрал через край, потому что они все время смотрели на него, как загипнотизированные, Маруся должна была согласиться, что это действительно было так.
Что касается отцовской кожаной куртки, которую тот в свое время привез себе из Англии, то она Косте действительно шла, и Маруся отчетливо запомнила, например, как Торопыгин, когда они с Костей были у него в гостях в Москве, сильно напившись и едва ворочая языком, пробормотал что-то вроде того, что в этой куртке Костя похож на истинного арийца и еще поинтересовался у Маруси, где она ее ему купила, наверное, в Париже.
Нет, куртку для этого случая Костя считал не самым подходящим нарядом, настоящий денди-сверхчеловек должен быть одет, по возможности, небрежно, и мера этой небрежности, считал Костя, должна измеряться и варьироваться в зависимости от степени приближающейся опасности, иногда такая небрежность, в минуты наивысшего риска, должна становиться максимальной, правда, она никогда не должна была переступать последней черты и превращаться в обычное уродство, так что в данной ситуации, когда опасность была достаточно велика, куртку Костя считал совершенно неподходящей, она больше подходила для какой-нибудь дружеской вечеринки и тусовки, во время которых, конечно, тоже нельзя полностью расслабляться, но ведь и куртка тоже была уже слегка потертой и поношенной, но для суда она все-таки была слишком приличной и впечатляющей.
Игрушечный мобильный телефон, который сначала хотел, было, взять с собой Костя, он тоже почти сразу же отверг, хотя сначала он даже нарисовал Марусе замечательную картину, как во время заседания суда у него в кармане вдруг неожиданно зазвенит мобильный телефон, и он начнет сразу же говорить по нему и исключительно по-французски, точнее, скажет несколько фраз, которые Маруся ему предварительно напишет, а он их заучит, и какое это должно на всех произвести там впечатление, особенно на судью и Комарову, потому что французская речь, по мнению Кости, в отличие от английской, еще сохранила свое прежнее магическое воздействие, когда по-французски говорили исключительно господа, а судья и Комарова, по мнению Кости, должны были, во всяком случае, на бессознательном уровне, сохранить в себе память своего лакейского происхождения, потому что у людей, как и у собак, существуют определенные породы, и как охотничья собака и сторожевая разнятся друг от друга на уровне инстинктов, которые оказываются более значительными, чем черты ее индивидуального характера, так и у людей родовые свойства куда сильнее индивидуальных, причем это касается даже гениев, например, Блок, будучи по происхождению немцем, за всю свою жизнь, как известно, педантично не выбросил ни одного своего черновика, ну и так далее, Костя даже не хотел особенно вдаваться в подробности, настолько это для него было очевидно, а уж о таких «простых» людях, как судья и Комарова, и говорить нечего, французская речь должна была их сразу же загипнотизировать, и они бы прямо плюхнулись перед Костей на колени…
Но потом он решил отказаться от этой идеи, потому что среди ближайших предков судьи и Комаровой вполне могли оказаться пламенные революционеры, подпортившие их лакейскую породу, и тогда бы им с Марусей не поздоровилось, они бы даже могли почувствовать к ним классовую ненависть, а Серафим и Сокольский, в силу своего классового чутья, тоже могли это сразу же разнюхать и этим как-нибудь коварно воспользоваться, поэтому игрушечный мобильный телефон, который Костя уже даже зачем-то купил в магазине, и этот трюк с французским языком он решил пока отложить.
В конце концов, Костя остановился на том, что он придет в суд в очках, пиджаке и галстуке, то есть предстанет перед судьей в виде полного, стопроцентного кретина, точнее, интеллигента, что для Кости было фактически синонимами, так как Костя реально оценивал свои возможности на данный момент, и предстать перед судьей в виде члена Союза писателей или депутата, например, он бы не смог, он еще до такого совершенства — а по его мнению, это был верх дендизма — не созрел, во всяком случае, он не был до конца в себе уверен, а рисковать ему не хотелось, так как на карту было поставлено марусино благополучие. От слова же «интеллигент» Костю, как он сказал, за всю его жизнь не покоробило только однажды, в детстве, когда он смотрел фильм «Чапаев», и там белогвардейцы шли в психическую атаку, а Чапаев и Петька, сидя за пулеметом, со скрытым восхищением говорили: «Красиво идут! Интеллигенция!»
Однако в суде все сразу пошло как-то не совсем по плану, еще в коридоре, перед залом заседаний, Костя и Маруся натолкнулись на Серафима и Сокольского, которые пришли в сопровождении своего адвоката, от которого сильно несло перегаром, внешне они выглядели какими-то растерянными, Серафим был в ярко-красном пуховике, а Сокольский в черной нейлоновой курточке, казалось, в этом отношении они совершенно к суду не подготовились, увидев их, Костя даже сразу почувствовал себя чуточку увереннее, потому что на него тоже очень гнетуще действовала общая атмосфера здания суда, он явно нервничал и пытался сосредоточиться на том, что он будет во время заседания говорить.
Комарова, по его замыслу, должна была вообще молчать, важно было ее нейтрализовать, она должна была находиться у них за спиной в качестве фона и строгой тетеньки, которая знала судью с детства, и всем своим видом напоминала ей, чтобы та особо не шалила. Всячески нейтрализовать Комарову поручалось Марусе, которая тоже не должна была ничего говорить, даже по-французски, а просто сидеть с ней рядом, и как только она откроет рот, сразу же начинать говорить с ней одновременно, в два голоса, чтобы было невозможно понять ни ту, ни другую. Предварительно Костя тщательно проинструктировал на этот счет Марусю и даже обещал ее строго наказать, если она не справится со своей ролью, точнее, он сказал, что жизнь ее тогда накажет сама, потому что, если хоть одно слово Комаровой долетит до уха судьи, мало Марусе тогда не покажется: она сразу же могла отправляться домой сушить сухари.
Однако уже в зале суда Костю подстерегала очень неприятная неожиданность. Серафим вообще туда не пошел, а остался в коридоре и заглядывал внутрь через щелку в двери, видимо, у него не было особых иллюзий насчет своей внешности, бесформенного жирного тела и беспокойно бегающих глаз, и он не рассчитывал сразу же расположить судью к себе, а может быть, он просто считал, что его присутствие там даже не понадобится, ибо в зале суда его напарник, Сокольский, тот самый «честнейший человек и гениальный писатель», о котором он говорил по телефону Корзуну, неожиданно скинул свою невзрачную черную курточку и предстал перед ошеломленной судьей в парадном мундире капитана второго ранга военно-морских сил России, вся грудь его была украшена всевозможными знаками отличия и медалями.
Костя, очевидно, был совершенно не готов к такому повороту событий, во всяком случае, на протяжении всего заседания, как показалось Марусе, он явно переигрывал в роли растерянного интеллигента, к которой он так старательно и долго готовился заранее. Судья, квадратная сорокалетняя женщина, не отрываясь, смотрела на Сокольского, который почти все время говорил без умолку, демонстрируя какие-то многочисленные бумаги, свидетельствующие, что Маруся работала у них и выполняла перевод по служебному заданию, многие из этих бумаг Маруся видела впервые, некоторые были откровенно состряпаны прямо к суду, что было видно даже невооруженным взглядом, а смысл некоторых Марусе был, вообще, непонятен, например, в одной было написано, что Маруся в течение шести месяцев работала у них в издательстве переводчицей над подготовкой подстрочника перевода романа Селина, который был предоставлен ею точно и к намеченному сроку, за эту свою работу она получила, кажется, сто рублей, на что тоже было указано в ведомости, в которой, действительно, Маруся с изумлением обнаружила, вроде бы, свою настоящую подпись, так как, насколько она помнила, все деньги ей обычно выплачивались безо всяких ведомостей, и она там никогда не расписывалась, может быть, кроме этого одного раза за сумму в сто рублей. Однако, даже эта двусмысленная и витиеватая фраза о том, что Маруся работала в их издательстве над подстрочником, а предоставила им, вроде как, уже готовый перевод романа, позволила Сокольскому как-то незаметно сместить акцент и перескочить с подстрочника на роман, и дальше все время аппеллировать уже именно к переводу романа, который она, якобы, им и предоставила за сто рублей…
Судья слушала его как зачарованная, она ни разу не прервала его за все это время, а об остальных вообщее будто забыла, нейтрализовывать Комарову Марусе тоже совсем не пришлось, потому что та тоже сидела в углу с отвисшей от изумления челюстью. Адвокат Сокольского ерзал на стуле и развязно хихикал, ему почему-то было очень весело, Маруся также видела, как в приоткрытую дверь периодически просовывалась голова Серафима, который, видимо, хотел удостовериться, все ли в порядке, и с нетерпением ждал результатов их гениального хода с переодеванием в моряка. Только в самом конце заседания судья, как будто, вспомнила и про Костю, который несколько раз пытался что-то возразить, но его всякий раз грубо прерывали, она наконец-то предоставила ему слово. Костя попытался объяснить, что подстрочник — это техническая работа, и никакого отношения к роману, то есть к конечному результату марусиного труда, не имеет, тем более, что и заплатили за него ей всего лишь смехотворную сумму в сто рублей, как за работу машинистки или наборщицы, а чтобы окончательно убедить в этом судью, он напомнил ей процесс Бродского, где все, если она помнила, даже рассмеялись, когда узнали, что тот работает над переводами по подстрочнику… Однако в этот момент судья опять прервала Костю, не дослушав его до конца, и снова говорить начал Сокольский…
Сокольский, вроде бы, когда-то плавал на подводной лодке, а может, просто служил интендантом, точно Маруся не знала, она что-то слышала о нем от Торопыгина, который также очень хвалил ей его расказы, посвященные морю и морской службе. Один из его сборников Серафим сразу же подарил Марусе, как только они познакомились, он уверял, что книги Пети, выпущенные в их издательстве, «расходятся, как горячие пирожки».
Маруся наугад пробежала глазами несколько рассказов, из которых особенно ей запомнился один, про собаку, такую огромную собачатину, которую матросы нашли на берегу и привели на корабль, где, прямо в море, она ощенилась, затем целыми днями собачатина лежала на палубе, на солнышке, а щенки сосали ее молоко, так продолжалось до тех пор, пока боцман не схватил за шкирку и не выбросил ее щенков за борт, после чего матросик-первогодок в избытке чувств бросился за щенками и достал их, но они уже сдохли, а собачатина вскоре тоже сдохла от горя, в конце матросик рвал на груди тельняшку и наезжал на боцмана с воплями: «Ненавижу! Всю жизнь ненавижу!», — рассказ так и назывался «Собачатина».
В остальных рассказах, судя по беглому с ними знакомству Маруси, Сокольский тоже продолжал обличать царившие на флоте нравы, черствость, воровство, пьянство и матерщину. Правда, некоторые особо крутые капитаны и мичманы вызывали у него, судя по всему, более противоречивые чувства, например, на одной странице Марусе попалась фраза, касающаяся непосредственного начальника Сокольского: «Когда он говорил «пошел на хуй», то на хуй действительно хотелось пойти.».
Как-то она говорила по телефону с Игорем Трофимовым, который редактировал в их издательстве Селина, и тот жаловался ей на то, как ему остоебенило редактировать бесконечный бред, который пишет их коммерческий директор, главным образом, ему не нравилось, что Сокольский совершенно не знал русского языка, с которым, по его словам, было плоховато и у Серафима, но не до такой степени — стихи Серафима ему тоже приходилось редактировать. Трофимов раньше занимался Кузминым, писал о нем диссертацию, он считал, что Кузмин, например, тщательно разрабатывал собственную мифологию, создал целый мир, в котором не все было правдой, зато все было до мелочей и тщательно продумано, на этом фоне его особенно раздражала забывчивость Сокольского, который в начале рассказа называл своего героя Лешей, а в конце, всего через две страницы, мог запросто написать: «Ну вот, хорошо прошел денек!» — подумал Гена». И так постоянно! Все это Трофимову приходилось отслеживать и исправлять.
Когда Маруся расссказала об этом Косте, то он сразу же сказал, что она должна посоветовать Трофимову написать об этом целую книжку «Записки редактора», где он мог бы, как бы невзначай, сопоставить мир того же Кузмина, или еще кого-нибудь из далекого прошлого, с кретином, вроде Сокольского, причем эти сопоставления должны исходить именно из уст загнанного в угол рафинированного интеллектуала, вынужденного этого кретина редактировать за гроши. По мнению Кости, такая книга могла бы стать настоящим бестселлером, мог бы получиться интеллектуальный триллер, «готический Борхес», своим скрытым подтекстом не менее пугающий, чем триллеры про маньяков и убийц. Маруся при случае, действительно, попыталась изложить эту идею Трофимову, но он слушал ее очень невнимательно, так как в тот раз был полностью поглощен рассказом о том, как на даче у своей двоюродной сестры его укусила за ногу овчарка, и теперь он интересовался у Маруси, стоит ему подавать в суд на свою сестру или нет…
Маруся видела Гуйяну после того вечера всего раз, она встретила ее неподалеку от метро, когда шла в гости к маме.
Тетя Гуйяны продала свою комнату в коммуналке, где она жила с одним мужиком, с пенсионером, его звали Женя. С Женей она познакомилась в театре, на премьере какой-то оперы, он сидел рядом, у него были красивые голубые глаза, и военная выправка, очень подтянутый, он угостил ее кофе в антракте, потом проводил до дому, а потом она у него поселилась. Он жил один в коммуналке, и тетю Гуйяны к себе прописал, потому что у нее не было петербургской прописки, она же из Якутии приехала. Они так некоторое время жили, а потом он умер — вышел на улицу посидеть на скамейке, и к нему подошли милиционеры, стали проверять документы, но в очень грубой форме, а у него с собой даже паспорта не было, и его забрали в отделение, там он провел весь день, пока тетя Гуйяны за ним не пришла, а он ночью помер, заснул и не проснулся, наверное, от перенесенных накануне волнений, и тетка тогда эту комнату продала, а сама переехала к Гуйяне, одной ей все равно было скучно, а обратно в Якутск она не собиралась. За комнату ей дали семь тысяч баксов, а тут как раз Гиви решил открыть свое дело, купить еще пару ларьков, деньги ему позарез были нужны, и она дала ему в долг эти семь тысяч, ведь она хотела, чтобы Гуйяна была счастлива, она ее любила. Гиви даже обед сам готовил, а Гуйяна только отдыхала, на фига ей были все эти заботы, она и так много пережила за последнее время, а Гиви такой реальный мужик, на него можно положиться, и чем-то даже походил на ее папу, даже в лице было что-то общее. Но они все никак не могли пожениться, в Тбилиси у Гиви осталась жена, и хотя они уже давно жили отдельно, но штамп-то в паспорте у него все равно стоял, и ему нужно было съездить в Тбилиси, чтобы развестись. А в Тбилиси ехать было очень опасно, поэтому Гуйяна не хотела его туда отпускать, пусть уж лучше так, чем с ним что-нибудь случится, и она будет потом на себе волосы рвать. Но все равно, ни фига у Гиви с ларьками не вышло, пошли какие-то разборки, у него требовали бешеные бабки, и все бабки, что тетка Гуйяны дала, ушли, и он снова стал искать бабки, но найти не мог, не было. Тетка Гуйяны все намекала, что, мол, отдай бабки, а он не мог, потом и Гуйяна стала уже открытым текстом говорить, мол, гони бабки, баклажан, а он их уже стал чурками обзывать, в общем, начался открытый конфликт. Гуйяна сказала ему, чтобы он выметался к себе в Тбилиси, но он не хотел, он привык, тогда она пригрозила вызвать ментов, а он в ответ сказал, что позовет своих друзей, а у Нодари связи в ФСБ, так что ей мало не покажется, там в ФСБ настолько крутые люди работают, им совершенно все по фигу, они уже натренированы на все, все зависит от того, как фишки лягут. В общем, Гуйяна предпочла все решить по-хорошему, и стала ждать, чтобы он сам свалил, но он не сваливал, ему было удобно так жить, кроме того, он Гуйяну все же любил, и ее доченьку тоже. А про бабки он говорил, что отдаст, как только заработает, вот отдадут ему крупный карточный долг, и он сразу же вернет Гуйяне и ее тетке эти несчастные семь тысяч. Иногда он не приходил ночевать, где он шлялся, неизвестно, ничего не объяснял, а Гуйяне на фига вообще нужны были эти постоянные его прихваты, лучше бы уж вообще на фиг свалил и очистил помещение. А потом он такую фишку слепил, что ему нужно съездить в Тбилиси, там его доченьки без него скучают, да и флаг тебе в руки, лети, куда хочешь, Гуйяне только лучше, она даже обрадовалась. А бабок у нее не было, к тому же она стала замечать, что стареет, как-то ей все это обрыдло, ну жизнь стала не такая веселая, что ли…
Следующее заседание, где, видимо, должно было быть вынесено окончательное решение по делу, должно было состояться уже через неделю, очевидно, судье это дело не казалось особенно сложным, и она решила покончить с ним сразу, одним махом. Маруся после первого заседания чувствовала сильное раздражение и даже злобу на Костю, который надоел ей со своей болтовней, она даже жалела, что взяла его с собой.
Однако вечером, накануне следующего заседания суда, у нее в квартире раздался звонок, звонила Комарова, которая в обычной своей лаконичной манере — она всегда с Марусей по телефону говорила очень коротко — сообщила, что ее просили передать, что завтра заседания не будет, оно переносится на более поздний срок. Вечером следующего дня Костя сам пришел к Марусе и спросил, в чем дело, почему она не явилась на заседание суда, где он сегодня утром был, но никого, кроме Комаровой, которая о чем-то беседовала с судьей, не застал. Маруся сказала, что вчера вечером Комарова предупредила ее, что заседание переносится на неопределенный срок, кажется, из-за того, что суд слишком перегружен. Косте все это показалось очень подозрительным, он настоял, чтобы они с Марусей пошли в канцелярию суда, потребовали дело для ознакомления, на что она имела полное право.
Во время знакомства с делом Марусе сразу же бросился в глаза какой-то странный перекос — изложение спорной ситуации, написанное адвокатом Серафима и Сокольского, было подкреплено целой кучей всевозможных справок, свидетельств, заявлений, от своего имени же там она обнаружила только свое исковое заявление, отчего папочка с ее документами была совсем тоненькая, а с документами Серафима и Сокольского — внушительного объема, именно ее содержимое и составляло девяносто девять процентов этого дела. Она теперь вспомнила, что всякий раз, когда она предлагала Комаровой предоставить какие-то свидетельства, подтверждающие, например, ее отсутствие в городе или же другие факты, необходимые для доказательства ее правоты, а также того, что перевод Селина был у нее готов уже за два года до встречи с Серафимом, а не выполнялся по его заданию, Комарова всякий раз, как бы ненароком, отклоняла все подобного рода предложения со стороны Маруси и говорила, что это совершенно не нужно, все и так понятно, у противоположной стороны нет никаких доказательств, договоров, документов, и она спокойно, без труда доведет дело до победного конца.
Теперь же Маруся обнаружила, что таких доказательств и документов Серафим представил суду в огромном количестве, в основном, правда, это были ксероксы, а не подлинники, и большинство из них, помимо той злополучной справки о подстрочнике, которая, кстати, в деле была подшита в оригинале, были откровенными фальшивками, далее, сразу же после протокола предыдущего заседания, из последней записи, сделанной рукой судьи, Маруся с глубоким изумлением узнала, что «второе заседание суда было отменено по настоятельной просьбе истца», то есть ее.
Этот факт ее сначала удивил, а потом сильно разозлил, особенно после того, как Костя сказал, что именно после этой фразы у него лично теперь не осталось ни малейшего сомнения в сговоре марусиного адвоката с противоположной стороной, потому что ведь это она сама позвонила Марусе накануне и сказала, что суд переносится, а здесь написано прямо противоположное: заседание перенесено по просьбе Маруси. Костя также настоял, чтобы Маруся немедленно отыскала Комарову и встретилась с ней, лучше даже в той юридической консультации, где работала ее подруга Николаева, которая ей Комарову и рекомендовала.
Придя домой, Маруся сразу же стала звонить в эту консультацию, однако голос секретарши на том конце провода ответил, что Комаровой нет и не будет, но в том, как она это сказала, Марусе вдруг почудился какой-то подвох, нарочитость, как будто секретарша с особым акцентом это произнесла, с каким-то скрытым торжеством и злорадством в голосе. Марусе почему-то показалось, что она говорит неправду, ведь она вполне могла узнать марусин голос, так как Маруся уже раньше несколько раз звонила по этому телефону, и теперь секретарша выполняет указания Комаровой, которая скрылась там где-то в глубине телефонной трубки, и в самом деле, как лиса в своей норке, и ей, Марусе, теперь нужно ее оттуда хитростью, любым способом, выманить, поэтому, выждав полчаса, Маруся, заткнув нос и сильно изменив голос, даже немного с грузинским акцентом, снова попросила Комарову — она действительно оказалась на своем месте. Маруся договорилась с ней о встрече, сказала, что это очень срочно, неотложное дело, кроме того, ей только что на ее имя пришло из Парижа приглашение, и она хочет его ей передать, последний аргумент, видимо, оказался самым весомым, потому что уже через три часа Маруся была у нее в консультации.
Комарова, не моргая и глядя Марусе прямо в глаза, заявила, что это Маруся сама просила ее о переносе суда, совсем как Серафим, когда сказал ей, что уже выплатил ей шестьсот долларов, а Маруся ей ведь об этом тоже рассказывала, такая наглость окончательно переполнила чашу марусиного терпения. Комарова еще хотела что-то добавить, но Маруся даже не стала ее слушать, побежала к Николаевой, прямо в ее кабинет, потребовала начальство, стала шуметь, орать, Николаева едва сумела ее успокоить, Комарова снова хотела что-то ей сказать, но Маруся опять не стала ее слушать, и Николаева тоже просила ее, чтобы та помолчала.
И Маруся сразу же ей все доходчиво объяснила: либо через три дня Серафим принесет ей шестьсот долларов, которые он ей должен, либо она напишет прокурору и во все инстанции, занимающиеся надзором за адвокатской деятельностью, использует все свои журналистские связи, а еще лучше, пойдет к судье вместе с Комаровой, устроит им очную ставку, а возможно, даже и без Комаровой, одна, и тогда она обязательно спросит судью, на каком основании она, судья, сделала запись о том, что суд перенесен по ее просьбе, хотя никакой просьбы с ее стороны никогда не было, причем Маруся собиралась требовать ответа исключительно с судьи, так как запись в деле сделана именно ее рукой, а о том, что это Комарова сама, находясь в сговоре с ответчиками, перенесла это заседание, так как Маруся, действительно, слышала от нее, что те неоднократно выражали такое желание, и им хотелось, чтобы суд был перенесен месяца на три, на осень, после лета, так как они, видимо, все-таки были не совсем уверены в решении суда, кроме того, эта неопределенность их больше устраивала в данный момент, потому что они должны были вот-вот получить крупную валютную дотацию от Министерства Иностранных дел Франции на издание марусиного перевода, и они опасались, что лишний шум вокруг суда и раздраженная Маруся каким-нибудь образом, в том числе используя свои связи в Париже, все это им сорвут. И действительно, они получили право на эту дотацию во многом благодаря личной просьбе Маруси к Франсуа, который, в свою очередь, походатайствовал за них в Министерстве…
Так вот, обо всем этом Маруся даже и не собиралась говорить судье, она вообще об этом ничего не знала, Комарову порекомендовала ей ее школьная подруга, поэтому Маруся себе такого даже представить не могла, и ее претензии отныне будут обращены непосредственно к самой судье, а та уж пусть самостоятельно с ними разбирается, тем более, что судья знакома с Комаровой с детства, поэтому Маруся очень надеялась, что та будет ей очень признательна за то, что Комарова ей так удружила. Правда, дотацию Маруся тоже, на всякий случай, пообещала Комаровой сорвать и попросила ее это тоже не забыть передать своим новым работодателям, на которых она, как это теперь было совершенно ясно Марусе, на самом деле, все это время и работала.
Николаевой она тоже, на всякий случай, напомнила, что ее отец был когда-то большим начальником, и у него до сих пор остались связи в ФСБ, о чем Николаева, которая училась с Марусей в одной школе, прекрасно знала. Если же Комаровой всего этого не хочется, то пусть она в эти три дня немного поработает на нее, использует свои особые отношения с судьей, расскажет о них поподробней своим новым друзьям, Серафиму и Сокольскому, раз уж она о них так заботится и желает им добра, пусть они тоже за эти три дня все хорошенько обдумают…
Через три дня в холле здания суда Маруся и Костя в назначенное время ждали Комарову и Серафима, который, вроде бы, в конце концов, согласился выплатить Марусе деньги, предварительно подписав с ней мировое соглашение, по которому он все-таки отказывался от всех своих прав на Селина, но получал взамен право одноразового издания, сумму, правда, он тоже должен был выплатить не всю, а только половину, триста долларов. Но Костя сказал, что ладно, пусть будет так, все-таки это больше, чем ничего, иначе Маруся в результате не получит ничего, процесс будет тянутся бесконечно, как у Кафки…
Вообще-то, он не очень верил, что Комарова и Серафим явятся в назначенное время, он даже говорил, что, если они придут, то это будет почти, как в кино, и сначала минут десять их, действительно, не было, Костя сказал, что ну вот, он так и думал, все будет, как в жизни, он с трудом себе представлял, что Серафим кому-нибудь так просто отдаст триста долларов. Однако через десять минут появилась Комарова, а за ней почти сразу следом подошел и Серафим, он выглядел очень подавленным, на Марусю и Костю почти не смотрел, они быстро подписали мировое соглашение, и Маруся получила причитающуюся ей сумму.
И только после этого, уже на улице, Костя признался Марусе, что вечером, накануне второго заседания, сам позвонил адвокату Сокольского и Серафима, и предложил ему от ее имени перенести дело на осень, их это вполне устраивало, однако Костя сказал, что у него дома поврежден кабель телефона, и он звонит из автомата на последний жетон, поэтому он сам Марусю предупредить об их согласии не сможет, так что, если тому не очень сложно, то Костя очень просил его, чтобы он оповестил об этом Комарову, а через нее и Марусю, чтобы той понапрасну завтра рано не вставать, мол, все улажено, заседание, как она и просила, переносится, со своей стороны, Костя тоже попробует им каким-нибудь образом позвонить, но так как дома у него телефон не работает, он просто просил их адвоката на всякий случай его подстраховать. Сам он сразу же позвонил тогда еще и Комаровой и тоже повторил ей все свои просьбы по поводу переноса суда, которое он только что согласовал с противоположной стороной, он также попросил ее завтра договориться с судьей о переносе дела, воспользовавшись своими с ней дружескими отношениями.
В это мгновение Комарова немного заколебалась, однако Костя уверил ее, что Маруся на днях обязательно занесет официальное заявление от своего имени, так что все будет в порядке, пусть она не волнуется, он ей это гарантирует, Костя даже дал ей честное слово и готов был дать ей честное пионерское, ленинское, побожиться, поклясться всем святым, что только есть на этом свете…
Он надеялся, что Маруся не будет вникать в то, что скажет ей Комарова, или та не особенно внятно передаст ей эту информацию, да и в самом деле, в таком контексте тогда, кроме факта переноса, Марусе было трудно что-нибудь еще из слов Комаровой понять, а тем и в голову не могло прийти, что такой интеллигентный на вид молодой человек способен шутить с такими серьезными вещами, как суд. А потом уже, если это сработает, Костя не сомневался, что сумеет разыграть спектакль, в который он и вовлек Марусю.
Целью же этого спектакля для Кости было пробудить в Марусе вспышку спонтанной неуправляемой злобы и направить эту энергию против Комаровой, заставив ее, тем самым, выполнить марусину волю. Кажется, теперь он и сам еще до конца не верил, что все так удачно прошло, и его замысел с таким блеском воплотился. Конечно, триста долларов это не шестьсот, но об этом Костя уже, кажется, забыл, так он был доволен гениальным воплощением своего замысла и тем, что Маруся так замечательно исполнила свою роль, правда, сама того не подозревая, а он специально ничего не сказал ей заранее, чтобы все выглядело естественно и натурально, потому что спонтанность и в искусстве, и в жизни Костя ценил все-таки гораздо больше, чем рефлексивность и сознательность, и немецкие романтики поэтому, Новалис, к примеру, ему нравились гораздо больше, чем Гете или же Кант, «Фауст» казался ему надуманным и бесконечно устаревшим, Гейне со своей иронией его раздражал, иронии он предпочитал смех…
На следующий день, чтобы отпраздновать этот неожиданный хэппи-энд, Маруся зашла к Косте с бутылкой шампанского. Он пребывал в таком хорошем расположении духа, что даже снял с окна фанеру, которая отгораживала от него Исаакиевский собор, отчего в его комнате стало гораздо светлее, и Маруся видела вдалеке огромный купол Исаакия, который светился и переливался на солнце золотым светом.
декабрь 2000 г. Санкт-Петербург